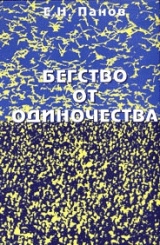
Текст книги "Бегство от одиночества"
Автор книги: Евгений Панов
Жанр:
Биология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц)
6. Союз ради продолжения рода
Муж с женой подобен луку,
Луку с крепкой тетивою:
Хоть она его сгибает,
Но сама ему послушна,
Хоть она его и тянет,
Но сама с ним неразлучна:
Порознь оба бесполезны!
Лонгфелло. Песнь о Гайавате
Размножение и половой процесс – это не одно и то же
Как инфузории обретают бессмертие
Бактерии тоже обмениваются генетической информацией
Гаметы-индивиды ищут друг друга
Ни самец, ни самка
Наследственная информация – почтовым переводом
Брачный союз до гробовой доски
Мимолетные свидания

Поведение пауков-крестовиков перед спариванием. Самец раз за разом касается самки передними удлиненными ножками до тех пор, пока она она не примет «позу покорности», при которой ее грозное оружие (ядовитые ротовые придатки – хелицеры) оказывается скрытым под подогнутыми конечностями. Лишь после этого самец рискует приблизиться и оплодотворить свою свирепую избранницу.
Очень многие из тех разнообразных задач, которые живое существо вынуждено решать, отстаивая свое место под солнцем, допускают известную свободу выбора. Индивидуалист при прочих равных условиях будет склонен укрываться от врагов и разыскивать пищу в одиночку, коллективист – в компании с себе подобными. Но сколь бы сильны ни были индивидуалистические наклонности особи, ей не суждено произвести потомство, не заключив временный или постоянный союз с существом противоположного пола. И хотя сказанное, как мы увидим в дальнейшем, нельзя отнести в полной мере ко всем обитателям нашей планеты, необходимость продолжения рода оказывается тем не менее одним из наиболее универсальных стимулов, способствующих формированию добровольных коллективов в мире животных.
Мысль о том, что объединение носителей женского и мужского начала ради воспроизведения потомства есть первооснова социальной жизни, высказывалась еще на заре нашей цивилизации. Вот что писал по этому поводу в IV веке до нашей эры великий греческий мыслитель Аристотель в своем труде «Политика»: «…необходимость побуждает прежде всего сочетаться попарно тех, кто не может существовать друг без друга, – женщину и мужчину в целях продолжения потомства; и сочетание это обусловливается не сознательным решением, но зависит от естественного стремления, свойственного и остальным живым существам и растениям, – оставить после себя другое подобное себе существо».
В этой и в последующих главах я собираюсь рассказать о том, сколь многообразные и порой неожиданные формы принимают супружеские и семейные отношения в том мире живых существ, из которого вышли мы сами. Здесь есть все – от мимолетных любовных свиданий, после которых будущая мать уже никогда не встретится со своим избранником, до сплоченных семейных групп, подчас включающих в себя тысячи и даже миллионы особей. Многое из того, о чем будет рассказано, близко и понятно нам, ибо находит бесспорные параллели в нашей собственной личной жизни и в привычных представлениях о браке и семье в обществе людей. Наряду с этим нас ждет и немало удивительного, что полностью расходится с законами того мира, в котором существуем мы с вами.
Размножение и половой процесс – это не одно и то же
Однако прежде чем приступить к этой увлекательной теме, нам необходимо вкратце познакомиться с тем, что же в действительности представляет собой явление пола. Можно ли представить себе жизнь в отсутствие противостоящих друг другу и взаимодополняющих в своей противоположности мужского и женского начала? И если да, то почему же все-таки разнополость представляется нормой и для биолога, и для непосвященного, а любое иное мыслимое состояние – экзотикой либо нонсенсом? Как мы увидим вскоре, вполне правомерен и еще более неожиданный вопрос: существует ли прямая и однозначная связь между феноменом пола и размножением, если понимать под словом «размножение» увеличение числа особей в череде поколений? Или, иными словами, непременно ли предназначено разделение индивидов по признаку пола для «деторождения»? Чтобы подоплека всех этих вопросов стала для нас более простой и понятной, давайте обратимся для начала к рутине жизни и «размножения» некоторых одноклеточных организмов из числа тех, которые уже хорошо известны нам под названием «простейшие».
Возьмем для примера отдаленного родича самой обыкновенной амебы, именуемого солнечником (рис. 6.1). От шаровидного комочка цитоплазмы диаметром около десятой доли миллиметра во все стороны расходятся тонкие прямые лучи-псевдоподии, которыми солнечник, парящий в толще воды, захватывает употребляемые им в пищу микроорганизмы, размножается солнечник делением надвое: сначала делится ядро клетки, а затем пополам перешнуровывается ее цитоплазматическое тело. Наблюдая за жизнью солнечников в искусственном резервуаре, ученым удалось проследить преемственность в потомстве одного-единственного солнечника на протяжении 1244 поколений. Уже в десятом поколении число солнечников, берущих начало от своего прародителя-одиночки, должно теоретически составлять 1424 особи, а к моменту появления тысячного поколения его численность выражается поистине астрономической цифрой.

Рис. 6.1. Солнечник.
Казалось бы, благополучие в царстве солнечников должно быть полностью гарантировано этой их способностью к бесполому размножению, осуществляемому в геометрической прогрессии. Однако более пристальное изучение образа жизни этих созданий показало, что дело обстоит не совсем так. Если мы будем день за днем наблюдать за солнечниками, пользуясь сильным микроскопом, то однажды сможем заметить нечто странное, происходящее с одним из этих созданий. Начинается все с того, что солнечник втягивает внутрь цитоплазматического тельца свои лучи-псевдоподии, теряя сходство с великим светилом, по имени которого он получил свое название. Затем вокруг ставшего шарообразным комочка цитоплазмы образуется плотная оболочка, после чего тело солнечника делится пополам, как и при обычном бесполом размножении.
Но этим дело не ограничивается, и ядро каждой из двух образовавшихся клеток делится снова, а затем еще раз. После каждого из этих делений одна «половинка» ядра отмирает. В результате всех этих преобразований, именуемых редукционным делением, или мейозом, под наружной оболочкой мы снова обнаруживаем две клетки – столько же, сколько их было здесь после первого деления солнечника надвое. Но сейчас каждая клетка несет в себе как бы лишь «четвертушку» своего первоначального ядра. Вскоре после этого одна из двух клеток выпячивает короткие псевдоподии, направленные в сторону второй клетки. Псевдоподии внедряются в тело последней, цитоплазма обоих соседей постепенно сливается воедино, а их ядра движутся по направлению друг к другу и тоже соединяются. После этого оболочка распадается, заключенная в ней единственная клетка выпускает из себя длинные лучи-псевдоподии и превращается в полное подобие того солнечника, с которым произошли все эти странные метаморфозы. Наше возродившееся создание отправляется в свободное плавание и вскоре делится пополам, давая начало новым поколениям солнечников. Все те события, которые только что прошли перед нашими глазами, есть не что иное, как половой процесс, вклинившийся в череду бесполых поколений солнечников. Это утверждение может звучать несколько странно, если принять во внимание, что у солнечников пол, по сути дела, отсутствует. У этих созданий нет подразделения на женских и мужских индивидов, на самцов и самок. И если ученые убеждены, что наблюдавшиеся нами метаморфозы тесно связаны с явлением пола, то в данном случае имеет место нечто вроде самооплодотворения. И в самом деле, те две клетки, которые слились друг с другом на конечной стадии процесса, мы вынуждены считать половыми клетками, или гаметами, начало которым дал один и тот же бесполый (или двуполый) организм. Та гамета, которая начала захватывать свою соседку псевдоподиями, может быть названа мужской гаметой, вторая же, в конце концов слившаяся с первой, – женской гаметой.
Что же дает нам право называть эти клетки гаметами, уподобляя их спермию и яйцеклетке, сливающимся друг с другом при зачатии у человека и у других двуполых животных? Прежде всего то, что ядра интересующих нас клеток, как и ядро любой другой «типичной» гаметы, несет в себе одинарный (гаплоидный) набор хромосом в отличие от породившего ее индивида, все клетки которого у многих (хотя далеко не у всех) организмов имеют в своих ядрах двойной (диплоидный) набор хромосом. Уменьшение числа хромосом вдвое при образовании гамет у всех животных и растений осуществляется за счет двукратного деления диплоидной клетки родительского организма. Этот процесс двукратного деления клетки, как это ни удивительно, мало чем отличается у солнечника и у высших двуполых организмов, например у человека. Диплоидные клетки организма мужчины и женщины содержат в своих ядрах по 46 хромосом, а в ядрах гамет их число сокращается до 23. Единственная клетка солнечника несет в себе 44 хромосомы, а в сливающихся друг с другом гаметах этого вида содержится по 22 хромосомы.
Зная все это, мы уже можем попытаться дать ответы на вопросы, поставленные в начале этой главы. На вопрос, возможна ли жизнь в отсутствие пола, приходится ответить положительно. Если пример солнечника не вполне убеждает нас в этом, поскольку в бесконечной череде бесполого размножения он все же изредка прибегает к половому процессу, то амеба, скажем, не знает ничего иного, кроме бесполого деления пополам. С другой стороны, половой процесс в той или иной своей форме присущ подавляющему большинству органических видов – от бактерии до человека. А это значит, что он может давать какие-то преимущества перед монотонностью бесполого существования. И наконец, на вопрос о том, имеется ли простая и однозначная связь между полом и размножением, следует с определенностью ответить: нет. И в самом деле, мы видели, что у солнечника размножение (то есть увеличение числа особей) происходит путем деления их надвое (с сохранением после каждого деления двойного набора хромосом), а в результате полового процесса место приступившего к нему солнечника занимает всего лишь один-единственный индивид.
Я хотел было написать «тот же самый солнечник», но вовремя остановился. Ибо это вроде бы тот же самый экземпляр, возникший из «половинок» солнечника, претерпевшего метаморфоз, но, с другой стороны, не совсем тот же. Он не идентичен своему предшественнику, поскольку во время полового процесса была утрачена часть ядерного материала (при отмирании трех «четвертушек» от каждого ядра тех клеток, которые превратились в гаметы). Кроме того, не вдаваясь в тонкости мейоза, во время которого диплоидный набор хромосом превращается в гаплоидный, следует все же сказать, что важнейшим последствием этих преобразований оказывается изменение набора генов в самих хромосомах. В результате тот солнечник, который приступил к половому процессу, и тот, который по окончании его отправился странствовать по воле волн, – это генетически два неодинаковых существа. Именно в этой реорганизации генетической конституции клеток биологи видят главное значение полового процесса у низших организмов и полового размножения – у высших.
Как инфузории обретают бессмертие
Сказанное во многом подтверждается наблюдениями за жизнью других простейших, в частности инфузорий. Эти одноклеточные создания, стоящие на более высокой ступени организации по сравнению с солнечником, подобно последнему способны в течение сотен поколений размножаться делением надвое. Однако у многих видов инфузорий такое бесполое размножение не может продолжаться бесконечно: постепенно скорость приумножения числа особей снижается, а затем инфузории перестают делиться и погибают. Все это очень напоминает процесс старения у высших животных, заканчивающийся естественной смертью.
Человек пока еще не нашел рецептов омоложения стареющего организма, а вот инфузории вполне обладают такой способностью. Чтобы восстановить свою жизненную энергию, инфузории, принадлежащей к стареющему, готовому угаснуть клону, необходимо обновить набор своих генов. А для этого она должна вступить в интимную связь с другим подобным ей созданием. Половой процесс у инфузорий носит название конъюгации. Две инфузории подплывают друг к другу и слипаются боковыми поверхностями своих продолговатых тел. В это время ядра в тельцах обоих партнеров начинают делиться [6]6
Клетка (сомателла) инфузории содержит как минимум, два ядра – крупное (макронуклеус – Ма) и мелкое (микронуклеус – Ми), иногда – по нескольку тех и других. В процессе конъюгации Ма рассасывается, а все дальнейшие метаморфозы, описанные здесь, происходят с Ми.
[Закрыть], как об этом говорилось выше при описании мейоза у солнечников. По окончании мейоза в цитоплазме каждой инфузории остается по два гаплоидных ядра, К этому моменту в оболочках клеток обеих инфузорий образуется нечто вроде окошечек, и здесь цитоплазма той и другой клетки сливается воедино. По одному из двух гаплоидных ядер каждой инфузории направляются к этой цитоплазматической перемычке, переходят через нее в тело партнера и там сливаются с другим гаплоидным ядром, оставшимся неподвижным. В итоге каждая из конъюгирующих инфузорий обладает теперь диплоидным ядром, в котором половина хромосом изначально принадлежала данному индивиду, а другая половина получена от партнера по конъюгации. У разных видов инфузорий описанный половой процесс занимает от 3–4 часов до 7 суток. По окончании конъюгации партнеры разъединяются, после чего каждый из них способен вновь долгое время размножаться делением надвое.
Читатель, вероятно, уже догадался, что инфузории, как и солнечники, не имеют определенного пола. Их с некоторой натяжкой можно было бы назвать гермафродитами, если придерживаться терминологии ученых, именующих подвижное гаплоидное ядро, которое перемещается в тело инфузории-партнера, «мужским пронуклеусом», а ядро, остающееся неподвижным, – «женским пронуклеусом». В этом смысле первое ядро подобно спермию разнополых животных, а второе – яйцеклетке. Эта аналогия удивительным образом подтверждается у тех видов инфузорий, у которых при конъюгации партнеры не «срастаются» боками, а лишь удерживают друг друга переплетающимися ресничками, окружающими их ротовые воронки, У этих инфузорий конъюгирующие индивиды обмениваются подвижными гаплоидными ядрами (мужскими пронуклеусами) не через цитоплазматическую перемычку, а через ротовые отверстия. При этом каждое такое ядро вынуждено, покинув тело своего первоначального хозяина, проплыть некоторое расстояние в воде; только после этого оно внедряется в цитоплазму второго партнера. Способности мужского пронуклеуса выбирать свой путь наподобие самостоятельного живого существа соответствует и его строение: утолщенная «головка» переходит в удлиненный подвижный «хвостик», сообщающий пронуклеусу повышенную подвижность. В этом отношении такой мужской пронуклеус в высшей степени сходен со сперматозоидами высших двуполых животных (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Три стадии конъюгации инфузорий циклопостиум. В верхней позиции видны делящиеся ядра-микронуклеусы. Ниже – обмен через ротовые отверстия образовавшимися при этом мигрирующими ядрами, имеющими вид спермия.
Если взять инфузорий, принадлежащих к какому-либо определенному виду, они оказываются весьма разборчивы при поисках партнера по конъюгации. Поместим в сосуд с водой множество инфузорий одного вида, взятых случайным образом из разных мест их обитания. Каждый индивид, готовый к половому процессу, будет отдавать предпочтение лишь особям своей разновидности («вариетета», как говорят биологи), да и то не всем, а лишь тем, которые принадлежат к иному, чем он сам, «типу спаривания». У разных видов инфузорий в пределах вариетета существует от 2 до 15 подобных типов спаривания. При этом инфузория, относящаяся к типу спаривания А, способна конъюгировать с особями всех прочих типов (В, С, О, Е и т. д.), но только не с инфузориями того же типа А. Когда мы помещаем вместе инфузорий двух совместимых типов спаривания, все они мгновенно устремляются навстречу друг другу, образуя подчас плотный комок, состоящий из десятков крошечных полупрозрачных тел. И лишь затем из этой сплошной массы начинают выплывать парочки конъюгирующих инфузорий.
Выбирая партнера, инфузория руководствуется особым, очень тонким химическим чувством. При отсутствии подходящей компании она пытается конъюгировать с мертвой особью искомого типа спаривания, но наотрез откажется вступить в связь с индивидом, принадлежащим к типу спаривания, который не соответствует ее предпочтениям. Все это позволило кое-кому из ученых считать, что разные типы спаривания представляют собой нечто вроде разных полов. Если встать на эту точку зрения, то у некоторых видов инфузории существует до 11–15 полов. Впрочем, большинство знатоков инфузорий не согласны с подобным заключением. Они считают, что многообразие типов спаривания у инфузорий не имеет прямой связи с явлением пола.
Бактерии тоже обмениваются генетической информацией
Как я уже говорил в главе 2, инфузории, будучи всего лишь «простейшими» одноклеточными организмами, оказываются тем не менее сравнительно высокоразвитыми созданиями. В эстафете жизни они намного опередили многих обитателей нашей планеты, особенно тех, которые относятся к царству прокариот. Речь идет о бактериях, простота строения которых позволяет отнести время их появления на Земле к самым первым этапам становления жизни. И вот оказывается, что даже эти примитивнейшие существа вынуждены подчас искать общества себе подобных, чтобы совместно осуществить нечто подобное описанному выше половому процессу. Такого рода взаимоотношения между бактериями, внешне весьма похожие на конъюгацию у инфузорий, были названы учеными парасексуальностью (что означает нечто подобное явлениям пола).
Сближаясь вплотную, две бактерии соединяют свои одноклеточные тела коротким мостиком из цитоплазмы. Находившаяся до этого замкнутой в кольцо хромосома одной из бактерий разрывается таким образом, что у нее появляются два свободных конца. Один из них направляется в сторону цитоплазматического мостика, одновременно воссоздавая рядом с собой свое точное подобие. Затем этот свободный конец хромосомы проникает в тело другой бактерии, оставляя взамен себя на прежнем месте своего двойника-преемника. В отличие от того, что мы видели у инфузорий, у которых при конъюгации происходит взаимообмен ядрами между членами парочки, у бактерий одна особь отдает принадлежащую ей генетическую информацию другой особи, не получая ничего взамен. Первую бактерию называют особью-донором, вторую – реципиентом. По окончании конъюгации донор обычно не меняет своих генетических свойств, тогда как реципиент отныне соединяет в себе признаки генетической конституции обоих партнеров. В дальнейшем, когда реципиент начнет «размножаться» при помощи простого деления надвое, этот новый набор генов окажется свойственным всем его многочисленным потомкам.
После всего сказанного так и хочется назвать бактерию-донора мужской особью, а реципиента – женской. Но, увы, в действительности все не так просто. Способность донора вступать в конъюгацию с другой бактерией обусловлена присутствием у него особой генетической структуры, именуемой Р-фактором. Это относительно небольшой фрагмент ДНК, который может быть включен в кольцевую хромосому бактерии либо находится вне ее, в цитоплазме клетки донора. Имея в своем распоряжении этот Р-фактор, его обладатель способен выпускать из своего тела длинные цитоплазматические нити, которыми он как бы ощупывает окружающее пространство в поисках подходящего партнера по конъюгации. Им, как правило, оказывается бактерия, лишенная Р-фактора, которую мы склонны считать «женской особью». Однако как только эта последняя получит в результате конъюгации Р-фактор от своего активного партнера-донора, она сразу же сама приобретает способность стать донором, то есть уподобляется теперь уже «мужской особи». Таким образом, все больше бактерий вовлекается в эстафету обмена генетической информацией, которая с течением времени может привести к распространению среди бактерий данного вида новых для них свойств, в том числе и неблагоприятных для тех животных или растений, в организме которых живут эти бактерии. И за все это отвечает «половой» (или, точнее, парасексуальный) Р-фактор, который при конъюгации заставляет хромосому одной бактерии со всей содержащейся в этой хромосоме наследственной информацией внедряться в организм другой бактерии, обладающей своей собственной генетической конституцией.
Гаметы-индивиды ищут друг друга
Конъюгирующие парочки бактерий либо инфузорий представляют собой, по существу, чуть ли не самые простые социальные группировки в мире живого, своего рода элементарные добровольные коллективы, возникающие «по обоюдному согласию» их членов. Срастаясь на короткое время крошечными тельцами, участники взаимодействия передают друг другу свои генетические программы, так что к моменту расставания либо один из них, либо оба становятся уже не теми, кем были ранее. Возникающие при этом новые комбинации генов затем многократно тиражируются практически без изменений, по мере того как прошедшие горнило конъюгации индивиды и их потомки размножаются простым делением. И так до начала очередного краткого свидания, вновь изменяющего генетическую конституцию бесполых, по существу, либо «гермафродитных» особей.
Хотя конъюгация обладает важнейшим свойством полового размножения – именно способствует соединению воедино генов двух взаимодействующих индивидов, – размножением ее никак не назовешь, ибо по окончании конъюгации мы имеем тех же двух особей (хотя и изменившихся генетически), что и в ее преддверии. Если так, то можно задать следующий вопрос: удастся ли нам обнаружить в мире одноклеточных созданий нечто такое, что хотя бы отдаленно напоминало столь привычную для нас картину: два существа, объединяя свои усилия, дают начало новому поколению организмов. Оказывается, да, с той лишь оговоркой, что хорошо знакомая нам ситуация «родители плюс потомки» уступает здесь место иному, несколько неожиданному соотношению «потомки вместо родителей». Последнее станет понятнее, если представить себе, что родителями ребенка считаются не мужчина и женщина, а принадлежащие каждому из них половые клетки, именно спермин и яйцеклетка.
Такое суждение возможно лишь в антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», где новые поколения людей искусственно выращивали на конвейерах, осеменяя полученные от неизвестных женщин яйцеклетки столь же анонимными спермиями. А вот среди одноклеточных самостоятельные гаметы, странствующие по собственной воле в поисках гаметы «противоположного пола», – это вещь вполне обычная. О таких гаметах-индивидах я уже не раз упоминал в предыдущих главах. А сейчас настало время познакомиться с ними более основательно.
Возьмем, к примеру, паразитическое простейшее со странным названием трихонимфа, в изобилии населяющее кишечник своеобразных живых ископаемых – древесных тараканов криптоцеркус. Трихонимфа переводит в растворимое состояние древесину, которой питаются тараканы, тем самым обеспечивая само существование последних. Каплеобразное тело трихонимфы, движущееся заостренным концом вперед, покрыто бахромой длинных жгутиков, часть которых в области заостренного «носика» топорщится в стороны наподобие пышных усов. Это придает трихонимфе особое «хищное» выражение (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Жгутиконосец-трихонимфа, поглощающий кусочек древесины задним концом тела.
Обычно трихонимфа размножается бесполым способом, разделяясь продольно надвое. Однако время от времени, когда у таракана, давшего пристанище этим созданиям, начинается линька, все они одновременно перестают двигаться, округляются и покрываются плотными оболочками-цистами. Внутри цисты трихонимфа делится пополам, давая начало двум более мелким, чем она сама, трихонимфам, несколько различающимся по размерам и по окраске. Когда вслед за этим цисты, переполняющие кишечник таракана, одновременно лопаются, наблюдателю становится ясно, что эти два создания представляют собой женскую и мужскую гаметы.
Выходя в полость тараканьего кишечника, более мелкие и темные трихонимфы этого «полового» поколения начинают преследовать более крупных и светлых. Настигнув превосходящую его размерами женскую гамету-трихонимфу, преследователь пробуравливает своим острым «носиком» ее закругленную заднюю часть и, внедряясь все глубже и глубже, залезает в своего партнера целиком (рис. 6.4). Вслед за этим клеточная оболочка мужской особи-гаметы растворяется, ее ядро движется к ядру женской гаметы и сливается с ним. Образовавшееся таким образом и ни на мгновение не потерявшее своей подвижности существо есть не что иное, как диплоидная зигота, вполне подобная по своей сути яйцеклетке, уже оплодотворенной спермием в половых путях женщины. Но в отличие от зиготы человека, которая путем многократного дробления превращается через несколько месяцев в зародыш ребенка, зигота-трихонимфа претерпевает два последовательных деления по принципу мейоза, уступая тем самым свое место четырем гаплоидным трихонимфам, способным размножаться далее простым делением. Таким образом, мы наблюдаем, как одна бесполая трихонимфа дала начало двум гаметам, в результате слияния (или копуляции) которых образовались уже четыре бесполых особи.

Рис. 6.4. Четыре стадии полового процесса у трихонимфы (слева направо). Четвертая стадия – деление зиготы.
В царстве одноклеточных микроорганизмов гаметы-индивиды зачастую существуют как бы на равных правах с бесполыми особями. Разглядывая под микроскопом капельку мутно-зеленой воды из ближайшего стоячего пруда, мы в случае удачи можем стать свидетелями следующей интересной сцены. Два крохотных округлых существа, каждое из которых снабжено парой направленных вперед, вибрирующих жгутиков, внезапно устремляются навстречу друг другу. В следующий момент жгутики нашедших друг друга созданий тесно переплетаются, после чего тельца обоих выпускают направленные в сторону партнера коротенькие отростки цитоплазмы. Соединяясь своими кончиками, эти отростки образуют сплошной цитоплазматический мостик, который, сокращаясь, как бы подтягивает обе клетки друг к другу. Не пройдет и нескольких часов, как наши одноклеточные – эти еще недавно вольные создания – отбросят за ненадобностью свои жгутики и сольются в единую теперь, неподвижную клетку-зиготу. Она опустится на дно водоема и по прошествии некоторого времени произведет из себя четыре двужгутиковые бесполые гаплоидные клетки.
Участники увиденного нами спектакля – это гаметы так называемой хламидомонады, которую зоологи причисляют к простейшим, а ботаники относят к одноклеточным зеленым водорослям. Именно эти существа, размножаясь порой в колоссальных количествах, мириадами своих микроскопических телец окрашивают яркой зеленью поверхность стоячих прудов и заводей. У того вида хламидомонад, с которыми нам пришлось столкнуться, «мужские» и «женские» гаметы ничем, по существу, не отличаются внешне ни друг от друга, ни от бесполых вегетативных особей, размножающихся простым делением надвое.
Блуждая в толще воды, гамета разыскивает подходящего ей партнера, ориентируясь на особые органические вещества (гамоны), которые выделяются гаметами «противоположного пола». Если случится так, что одновременно в одном месте окажется много гамет хламидомонады, они все в какой-то момент, под действием растворенных в воде гамонов, внезапно образуют сплошной клубок, объединяющий в себе десятки, а то и сотни индивидов-клеток. Вслед за этим парочки мужских и женских особей, заарканивших друг друга жгутиками, отделяются от общей массы. В конце концов на месте первоначального сборища остаются лишь немногие снующие туда-сюда клетки, так и не нашедшие своей «половины». Не требуется большой сообразительности, чтобы понять, что все эти «лишние» гаметы принадлежат к одному полу, хотя по их внешнему виду мы так и не узнаем, к какому именно.
У нашей хламидомонады мужские и женские гаметы в равной степени обладают свободой передвижения и, таким образом, могут одинаково успешно разыскивать партнеров-индивидов противоположного пола. Но гораздо чаще в мире одноклеточных (как одиночных, так и «колониальных») приходится наблюдать уже явное неравенство мужского и женского начал. Органами движения, наподобие жгутиков или колеблющихся «хвостиков», обычно обладают только мелкие мужские гаметы. Что касается женских гамет, то они в период своего созревания сильно увеличиваются в размерах, приобретают шаровидную форму и зачастую утрачивают жгутики (если обладали ими первоначально), становясь пассивными и неспособными управлять своей судьбой по собственному разумению. Отныне уделом женских гамет, как бы лишившихся значительной доли своей индивидуальности, остается лишь терпеливое ожидание.







