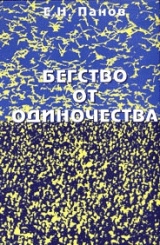
Текст книги "Бегство от одиночества"
Автор книги: Евгений Панов
Жанр:
Биология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц)
Ни самец, ни самка…
Неравенство возможностей у предоставленных самим себе мужских и женских гамет-индивидов, столь характерное для мира одноклеточных, сохраняется, как это ни удивительно, и у многоклеточных организмов, далеко ушедших вперед в своем эволюционном развитии. Здесь, однако, гаметы во многом утрачивают свой суверенитет, подчиняясь отныне в своих жизненных порывах диктату целого, неотделимой частью которого они становятся. Вместилищем созревающих гамет теперь служат особые половые железы. Это семенник, вырабатывающий множество мелких, подвижных спермиев, и яичник, производящий, как правило, сравнительно небольшое число крупных, богатых питательными веществами яйцеклеток.
После того что мы узнали о солнечнике, трихонимфе или инфузории-туфельке, у которых индивид является, по существу, носителем одновременно мужского и женского начал, нас не должно удивлять обилие гермафродитов в мире многоклеточных. К числу двуполых относятся очень многие из тех существ, что прошли перед нашим взором в предыдущих главах. Это и губки, и некоторые коралловые полипы, и мшанки, И асцидии, и огнетелки-пиросомы. Из хорошо известных нам животных гермафродитами являются, к примеру, дождевой червь, пиявки и многие виды улиток.
Обычно у животных-гермафродитов мужские и женские половые железы, или гонады, присутствуют в каждом организме одновременно, как и у однодомных растении, таких как сосна или дуб, у которых мужские и женские цветки располагаются на одном дереве. Впрочем, так бывает не всегда. Например, у живущих на морском мелководье улиток-туфелек каждая особь, вступающая в возраст половозрелости, оказывается обладателем мужской гонады, производящей спермин. Однако с течением времени такая улитка-самец преобразуется в самку, способную откладывать яйца. Интересно, что в самок быстрее превращаются те самцы, которым на стадии их мужского существования удалось найти и соблазнить самку.
Превращение молодых самцов в умудренных жизненным опытом самок характерно и для некоторых видов рыб. А вот у небольших рыбок морских юнкеров, обитающих в прибрежных участках Черного моря, жизненные метаморфозы идут в обратном порядке. Все молодые половозрелые особи у этой рыбешки неизменно оказываются самками, окрашенными в коричневый цвет с двумя золотистыми полосами по бокам брюха. С возрастом, когда длина этих рыбок превысит 10 см, все они превращаются в самцов, надевая при этом праздничный наряд, в котором обыграны контрасты между синезеленым, оранжевым и черным цветами.
Еще более поразительные события происходят в жизни мелких морских ракообразных – клешненосых осликов, отдаленно напоминающих креветок. У этих созданий, как и у морских юнкеров, самки с течением времени становятся самцами. Однако этого не происходит, если половозрелую самку содержать в небольшом аквариуме с особью, еще ранее превратившейся в самца. Что касается молодых рачков, то при совместном содержании их в неволе вместе с самцом они становятся самками, тогда как в компании самок с наступлением половозрелости сразу же обретают мужские гонады.
Эксперименты природы в ее попытках гармонично сочетать противостоящие друг другу в своем единстве мужское и женское начала поистине не знают границ, и нам еще не раз предстоит убедиться в этом в дальнейшем. Но как бы экзотичны и неожиданны ни были результаты этих, идущих тысячелетиями экспериментов, конечным их пунктом всегда остается одна и та же задача: обеспечить встречу и слияние двух половых клеток – спермия и яйцеклетки, произведенных в организмах двух разных и по возможности неродственных друг другу особей. А это значит, что для животных-гермафродитов необходимость общения с себе подобными ради продолжения рода почти столь же насущна, как и для раздельнополых организмов, к которым принадлежит абсолютное большинство в мире высокоорганизованных многоклеточных.
Наследственная информация – почтовым переводом
Коль скоро у многоклеточных животных спермин унаследовали от одноклеточных известную долю индивидуальности и суверенности, а именно способность активно передвигаться и разыскивать яйцеклетку, они могут в принципе избавить готовых к размножению индивидов от необходимости отправляться на поиски своей «половины». А мы знаем, что такие поиски при всем желании и не смогли бы предпринять очень многие животные, например, из числа тех, что ведут неподвижный, прикрепленный образ жизни. Задача спермия состоит в том, чтобы перенести на расстояние генетическую информацию о породившей его особи и объединить ее с информацией, содержащейся в ядерном аппарате яйцеклетки. Понятно, что эта задача выполнима лишь в том случае, если путь, который следует проделать спермию, будет достаточно короток, чтобы гонец не утратил по дороге свой ограниченный запас жизненной энергии.
Все преимущества способности спермиев к самостоятельному передвижению наиболее ярко проявляются у тех прикрепленных обитателей моря, у которых готовые к оплодотворению яйцеклетки ожидают своей дальнейшей участи в организме породившего их существа, будь то женская или гермафродитная особь. Таковы, например, уже известные нам губки. Поскольку губки обычно образуют тесные колониальные поселения, это сильно облегчает задачу спермиев, которые в момент их созревания выходят наружу из полости «мужской» особи и пускаются на поиски своей суженой. Сперматозоиды губок, как и прочих водных животных, первое время чувствуют себя в воде на высоте положения, двигаясь по спирали со скоростью около 1 см в минуту. Благо, что до устьевых отверстий-пор в стенках тела других «особей», таящих в своих чревах зрелые яйцеклетки, в колонии рукой подать. Оказавшись около такого отверстия, спермин током воды, постоянно поддерживаемым губкой для дыхания и питания, затягиваются внутрь ее полости. На этом этапе спермин почти выполнил стоявшую перед ним задачу. Теперь дело за другими участниками событий. Особые жгутиковые клетки-хоаноциты, выстилающие полость тела губки, подхватывают удачливые сперматозоиды и передают их подвижным клеткам-амебоцитам, а те, в свою очередь, переправляют наших путешественников к ожидающим их яйцеклеткам.
Оплодотворение на расстоянии, не требующее контакта между носителями мужских и женских гамет, может оказаться выигрышным решением проблемы продолжения рода для тех животных, особи которых сравнительно малочисленны, рассеянны на обширных пространствах и потому должны испытывать определенные затруднения при поисках индивида противоположного пола. Но здесь уже нельзя положиться на подвижность самих спермиев, как это делают губки и другие сидячие организмы в своих густонаселенных городах-колониях. Чтобы сохранить жизнеспособность на случай всевозможных осложнений в пути, мужские гаметы должны быть защищены от разрушительных воздействий внешней среды. Именно по этому пути пошли очень многие существа, у которых самцы выделяют сперму дозированными порциями, упакованными в тонкостенные мешочки-сперматофоры. К числу таких животных относятся, в частности, весьма своеобразные осьминоги-аргонавты.
Если крошечному, не превышающему 1,5 см в длину, самцу аргонавта не посчастливится встретить в сезон размножения желанную самку, он не станет предаваться отчаянию. То, что не удалось сделать самому самцу, сможет осуществить одна из восьми его рук, так называемый гектокотиль. Гектокотиль пронизан открывающимся наружу продольным каналом, который самец заполняет несколькими сперматофорами. В какой-то момент такая рука отрывается от туловища осьминога и самостоятельно направляется на поиски самки. В своих странствиях по водным просторам гектокотиль руководствуется, по-видимому, особым химическим чувством – наподобие того, с помощью которого спермин водных животных разыскивают женские гаметы. Если поиски увенчаются успехом, гектокотиль заползает в мантийную полость самки, которая у аргонавтов раз в двадцать крупнее самца. Сложно устроенный сперматофор этих осьминогов снабжен находящейся внутри его туго скрученной «пружиной» и особой «пробочкой», быстро растворяющейся под воздействием полостных жидкостей самки. При растворении пробки пружина распрямляется, разрывает стенки сперматофора и разбрасывает в стороны сперматозоиды, которые наконец-то получают доступ к яйцеклеткам.
Упаковка спермиев в защитные капсулы-сперматофоры, практикуемая не только осьминогами-аргонавтами, но и множеством других обитателей вод (рис. 6.5), еще более актуальна для сухопутных животных. И это понятно, ибо на открытом воздухе спермий почти мгновенно высыхает и, стало быть, ни на минуту не может быть предоставлен самому себе. Когда же сперма надежно упакована в удерживающие влагу мешочки, у самца появляется возможность оставить их там, где ему заблагорассудится, наподобие своеобразных гостинцев для разгуливающих в округе самок. Именно так поступают существа, живущие в верхних слоях почвы, среди опавших прошлогодних листьев и в гниющей древесине, где повышенная влажность гарантирует почти столь же длительную сохранность заключенных в оболочку спермиев, как если бы те находились в воде.

Рис. 6.5. Самец обыкновенного осьминога (справа) с помощью гектокотиля помещает сперматофор в мантийную полость самки.
Невзрачные, длиной не более 2–3 мм, самцы ногохвосток, этих примитивнейших насекомых, в период любви размещают тут и там на своем пути крохотные шарики-сперматофоры, приподнятые над поверхностью фунта на длинных тонких «стебельках». Разумеется, большинство из этих посланий так и не будут востребованы. Но если самке ногохвостки все же случится обнаружить сперматофор, она наползает на него, втягивая шарик в свое половое отверстие. Здесь происходит оплодотворение яйцеклеток, которые самка затем в виде готовых к развитию яиц откладывает в углубление почвы где-нибудь неподалеку. Сходным образом ведут себя другие обитатели влажной почвенной подстилки, в частности миниатюрные многоножки-симфилы. Наткнувшись на сперматофор, укрепленный самцом над землей на тонкой ножке-постаменте, самка тут же поедает свою находку. Сразу вслед за этим она берет ротовыми придатками созревшее яичко, готовое выйти из ее полового отверстия, и в этот момент смачивает его семенной жидкостью, задержавшейся в особых углублениях ее челюстей. Оплодотворенное таким образом яйцо самка приклеивает к влажному побегу мха, где оно будет наделаю защищено от прямых солнечных лучей.
Поиски супруга не только у людей, но и у животных – дело хлопотное, требующее большой затраты времени и сил и далеко не всегда сулящее гарантированный успех. Только что мы познакомились с одним из способов, позволяющих обойти все эти сложности. Я сказал: с одним из способов, поскольку он далеко не единственный. Так, некоторые животные-гермафродиты, не имея возможности вовремя найти второго партнера-гермафродита, прибегают к самооплодотворению. У обитающих у нас в Черном море каменных окуней каждая рыба в парочке совместно нерестящихся особей поочередно выполняет роль самца и самки. Но если окуню долго не удается найти расположенного к нему партнера, он сначала выметывает икру, а затем сразу же осеменяет ее собственными молоками. Еще проще обстоит дело у некоторых рептилий, например у очень многочисленных в Армении скальных ящериц. У них вообще никогда не бывает самцов, и каждая самка откладывает готовые к развитию яйца тогда, когда ей заблагорассудится. Такой способ девственного размножения называется партеногенезом, и в дальнейшем мы еще вернемся к этому явлению.
Но не следует забывать и еще об одной испытанной форме супружества – раз и навсегда объединиться и уже никогда не расставаться до гробовой доски. Прообраз подобной супружеской верности мы можем найти уже у примитивных одноклеточных. В частности, у некоторых видов простейших-фораменифер две или большее число особей (иногда до 14), при делении которых впоследствии должны образоваться гаметы, сходятся вместе и обволакивают себя общей эластичной оболочкой. Затем каждый такой индивид распадается на множество гамет. При парном слиянии гамет, произошедших от разных «мужских» и «женских» членов такого объединения, образуются зиготы, которые вслед за тем обволакивают своими телами, по сути дела «поедают», лишние гаметы, нашедшие себе партнеров противоположного пола.
Великий английский натуралист Чарльз Дарвин еще до того, как он стал всемирно известным ученым благодаря своему фундаментальному труду «Происхождение видов путем естественного отбора», посвятил много лет изучению весьма своеобразных созданий, так называемых усоногих раков. Тем, кому случалось бродить по берегу моря, должны быть хорошо знакомы белоснежные, сильно усеченные сверху многоугольные пирамидки, которые подчас сплошным слоем покрывают выброшенные волнами поплавки, бутылки, обломки дерева. Это раковины окончивших свой век морских желудей, не имеющих, на первый взгляд, ничего общего с ракообразными, но тем не менее принадлежащих к только что упомянутым усоногим ракам. Все морские желуди – гермафродиты, но они по возможности избегают самооплодотворения, явно предпочитая ему совокупление с себе подобными. Для этого в тесных поселениях морских желудей, формирующихся на прибрежных скалах и на плавающих предметах, есть все условия. Приоткрыв створки своей раковины, прикованный к однажды выбранному месту рачок высовывает наружу свой удлиненный совокупительный орган и с его помощью изливает сперму под створки раковины своего ближайшего соседа. Тот с током воды втягивает спермин в свою мантийную полость, где находятся созревшие яйцеклетки, но при этом с равным успехом способен с помощью своего собственного совокупительного органа оплодотворить яйцеклетку того же либо другого соседа по колонии.
Анатомируя разных представителей усоногих (а их ученым известно сейчас более тысячи видов), Дарвин обнаружил внутри раковин либо в мантийных полостях так называемых морских уточек каких-то крохотных, величиной с рисовое зерно созданий, намертво прикрепленных одним концом своего продолговатого тельца к тканям обладателя раковины. При вскрытии этих живых мешочков, снабженных сильно укороченными, зачаточными конечностями, оказалось, что эти существа буквально переполнены спермиями. Сама собой напрашивалась мысль, что загадочные «паразиты» есть не что иное, как до предела упрощенные в своем строении карликовые самцы морских уточек.
Дарвину было известно, что подобные дегенерировавшие самцы, становящиеся постоянными придатками самок, существуют и у некоторых других животных. Поэтому у него не вызвало особого удивления присутствие таких самцов у тех видов морских уточек, у которых все без исключения взрослые хозяева раковин принадлежат к женскому полу. Но часть видов морских уточек представлены только гермафродитными особями. И, что самое поразительное, карликовые самцы были найдены Дарвином и на телах этих гермафродитов. Такие самцы, заключает ученый, «оплодотворяют яйца не самки, но помогают самооплодотворению гермафродита. Поэтому я назвал этих самцов дополнительными самцами, чтобы показать, что они составляют пару не с самкой, а с двуполым индивидом».
Каким же образом такие самцы оказываются в святая святых самки либо гермафродитного индивида морской уточки? Дело в том, что у этих рачков все особи развиваются из подвижных личинок. Некоторые личинки в определенный момент оседают на дно либо на плавающие предметы, прикрепляются к поверхности своими головными концами, строят вокруг себя из собственных известковых выделений прочную многостворчатую раковину и превращаются либо в половозрелых самок, либо в двуполых взрослых рачков. Другие же личинки заплывают внутрь раковин таких сидячих индивидов и прикрепляются к их тканям, преобразуясь в карликовых самцов. На одной морской уточке-самке может одновременно жить до 14 самцов-придатков, а на взрослой особи-гермафродите – свыше сотни облюбовавших ее самцов. Самцы не имеют рта и пищеварительных органов. Поэтому, выполнив свою миссию продления рода, они быстро погибают. Но, как говорится, свято место пусто не бывает: отмирающих самцов заменяют другие, которые развиваются из личинок, вновь прибывающих в обжитую раковину.
Поразившие воображение Дарвина коллективные образования, обнаруженные им под створками известковых раковин морских уточек, чем-то напоминают по своей сути двуполые «колонии» вольвокса, мшанок или других странных созданий, о которых я рассказывал ранее. И там и тут члены объединения приносят свою индивидуальность на алтарь интересов единого целого. Различие, – впрочем, немаловажное – состоит в том, что у рассмотренных ранее «колониальных» кормусов это самопожертвование вынужденное, обусловленное всем процессом роста и развития «коллективного индивида», тогда как у морских уточек самцы отдаются во власть целого как бы добровольно, движимые непреодолимым инстинктом продолжения рода.
Учитывая сравнительно низкую степень психического развития усоногих раков, такое самопожертвование самцов может показаться не слишком дорогостоящим для них. Иное дело, когда мы встречаем нечто очень похожее у животных, психическая организация которых намного более совершенна, например у рыб. В этом смысле не приходится удивляться тому, что карликовые самцы, играющие, по существу, роль мужских гонад, прикрепленных снаружи к телу самки, найдены к настоящему времени всего у 8 видов рыб из общего их числа порядка 20 тысяч.
Все те рыбы, у которых самец и самка связаны как бы в единый организм нерасторжимыми узами супружества, принадлежат к так называемым удильщикам, обитающим в океанских глубинах, где всегда царит полная темнота. Самки удильщиков – довольно крупные, большеголовые, зубастые создания, обычно от полуметра до метра длиной. Они подстерегают свою добычу, сохраняя полную неподвижность и выставив вперед отходящий от головы отросток, на конце которого, внутри небольшого утолщения, помешается светящаяся железа. Свечение обязано жизнедеятельности особых бактерий и проникает наружу через прозрачные «окошечки» в стенках концевого утолщения «удочки». Жертвами рыболова нередко становятся весьма крупные обитатели океана: рыбы, кальмары и ракообразные.
Самцы всех удильщиков несопоставимо мельче самок – в 100, а иногда и в 200 раз. Самец разыскивает самку в кромешной темноте придонных глубин по запаху либо ориентируясь на характерное для каждого вида удильщиков свечение «приманки». Найдя желанную подругу, самец впивается в ее кожу острыми зубами и остается здесь до конца своей жизни. Потеряв способность самостоятельно добывать и переваривать пищу, самец очень скоро утрачивает глаза, ротовое отверстие и кишечник. Его кровеносные сосуды соединяются с сосудами самки, и лишь питательные вещества, поступающие с кровью из организма супруги, способны поддерживать отныне существование полностью утратившего свою индивидуальность самца (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Самки двух видов удильщиков с приросшими карликовыми самцами (показаны стрелками).
Мимолетные свидания
Верность спутнику жизни до гробовой доски – это, бесспорно, одна из самых почитаемых нами добродетелей. И все-таки даже самый последовательный моралист едва ли не согласится с тем, что у плоских червей-спайников (см. главу 1), морских уточек и удильщиков такая преданность доведена до чрезмерной крайности. Разумеется, подобный обычай брачных взаимоотношений чрезвычайно редок в животном мире. Впрочем, можно сказать, что гораздо более скромные проявления супружеской верности, которые было бы позволительно уподобить длительному единобрачию у людей, также отнюдь не являются правилом для братьев наших меньших – и не только среди низших, психически не развитых созданий, но и у наиболее высокоорганизованных теплокровных, таких, например, как птицы и млекопитающие.
Любопытнее всего, пожалуй, то, что и намека на склонность к длительному единобрачию мы не обнаружим даже у тех наших соседей по планете, которые по общему убеждению ученых связаны с человеком наиболее близким родством. Речь идет о шимпанзе, коалиции которых делят между собой пригодные для их существования просторы африканского девственного леса. Каждая коалиция представляет собой содружество персонально знакомых друг с другом животных, удерживающих в своем владении территорию площадью около 10–15 квадратных километров. В состав такого объединения входят до полутора десятков взрослых самцов, которые совместными усилиями охраняют территорию клана от проникновения самцов-чужаков, и от 6 до 25 взрослых самок. Самки большую часть времени проводят в одиночестве либо в компании своих отпрысков, сохраняющих связи с матерью до восьми-, десятилетнего возраста. Взрослые самцы в отличие от самок предпочитают держаться небольшими группами, персональный состав которых не отличается большим постоянством.
Самцы не проявляют к самкам особого интереса до тех пор, пока та или другая из них не приходит в состоянии течки (или эструса), которое предшествует окончательному созреванию яйцеклеток. Эструс у каждой данной самки наступает с промежутками около полутора месяцев и продолжается в течение одной-двух недель. Готовую к продолжению рода самку легко узнать по ярко-розовым, сильно набухшим кровью выпуклостям голой, лишенной шерсти «половой кожи», окружающей заднепроходное и половое отверстия. Яркое пятно половой кожи подобно сигнальному флажку извещает самцов клана о том, что настало время сватовства (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Самец шимпанзе в возбуждении размахивает веткой, приближаясь к рецептивной самке, поза которой сигнализирует готовность к коитусу. Слева вверху – вид «половой кожи» рецептивной самки.
Самка шимпанзе в охоте, окруженная группой страждущих самцов, уступает их домогательствам неоднократно, причем ее взаимности могут поочередно удостоиться разные избранники из числа сопровождающих самку кавалеров. Что же касается этих последних, то им, судя по всему, вообще не знакомо чувство ревности, а может быть, они просто не хотят омрачать праздник жизни склоками со своими приятелями.
Так или иначе среди самцов шимпанзе не принято препятствовать друг другу в том, чтобы довести ухаживание за самкой до логического конца.
Справедливости ради следует сказать, что изредка среди самцов шимпанзе попадаются и менее покладистые индивиды, явно не желающие делить благосклонность самки даже с наиболее деликатными и уступчивыми конкурентами. Обычно эти самцы-ревнивцы принадлежат к числу наиболее умудренных опытом и высокопоставленных членов коалиции. Такой самец-доминант постарается увлечь приглянувшуюся ему самку в самый удаленный, редко посещаемый другими самцами уголок джунглей, где парочка может уединиться от нескромных глаз. Иногда все заканчивается в считанные часы, но чаще самец и самка не покидают друг друга на протяжении нескольких дней. Подчас время их совместного пребывания в добровольной изоляции растягивается чуть ли не на целый месяц. Но сколь бы длителен ни был период любви, нет никакой гарантии, что те же самые индивиды отдадут предпочтение друг другу при следующем удобном случае.
Итак, в сообществе шимпанзе не существует каких-либо специальных ограничений, призванных тем или иным способом упорядочить половые отношения самцов и самок, вплоть до того, что самка в период эструса иногда покидает территорию своего собственного клана и за ее пределами вступает в интимную связь с удачливым самцом-чужаком. Подобная свобода половых связей, именуемая учеными промискуитетом и проявляющаяся в столь неприкрытой форме у шимпанзе – этих самых «интеллектуальных» представителей животного мира, – являет собой, как выясняется, наиболее распространенный тип отношений между полами как среди движимых слепым инстинктом «бессловесных» низших созданий, так и у высокоорганизованных в психическом отношении существ, стоящих на самых высоких ступенях эволюционной лестницы. Существующие здесь многочисленные различия в способах реализации промискуитетных отношений – это во многих случаях лишь различия в степени половой свободы, а не в самом существе дела. Я имею в виду количество половых партнеров, с которым индивиду приходится взаимодействовать в период размножения, а также длительность существования парного союза, имеющего своей целью продолжение рода.
Так, например, у большинства насекомых, как и у родственных им пауков и ракообразных, любовные свидания весьма непродолжительны. Если мы в погожий летний день пожертвуем несколькими часами, чтобы понаблюдать за поведением крупной стрекозы-коромысла, снующей взад и вперед над гладью лесного озерца, то сможем в случае удачи увидеть немало любопытного. Ярко-голубая окраска длинного «брюшка» стрекозы свидетельствует о том, что перед нами самец, а его стремительные нападения на других точно таких же стрекоз, время от времени залетающих в окрестности озерца, не оставляют сомнений в намерениях нашего самца оградить от посягательств соперников свою кормовую и брачную территорию.
Но вот над гладью воды промелькнула стрекоза таких же размеров, но не с синим, а с черноватым, испещренным желтыми пятнышками брюшком. Самец – хозяин территории устремляется к ней и, оказавшись сверху, ловко захватывает шею самки особыми «щипчиками», находящимися на самом конце его брюшка. У самца уже заранее заготовлен сперматофор, висящий на нижней поверхности его тельца чуть позади крыльев. Совместный полет самца и удерживаемой им самки продолжается никак не более 10 минут, после чего самка на лету загибает свое брюшко вперед, касается его кончиком места прикрепления сперматофора и захватывает последний своим половым отверстием. На этом все и кончается: самец отпускает подругу, которая тут же начинает откладывать оплодотворенные яйца на погруженные в воду стебельки растении. Когда у самки заканчивается запас полученной ею при спаривании спермы, ничто не мешает ей направиться на поиски другого кавалера. Что же касается нашего самца, то он станется на своей территории и будет поджидать здесь появления других готовых к спариванию самок.
Количество самок, с которыми самцу удастся вступить в контакт в течение одного сезона размножения, определяется в основном его умением ориентироваться в обстановке и противостоять притязаниям самцов-конкурентов. У самок же причины, не позволяющие им сохранять верность одному-единственному избраннику, могут быть самыми различными у разных представителей животного мира. В частности, самки насекомых должны накопить в особом отделе своей половой системы, в так называемом семяприемнике, такое количество спермы, которое позволило бы им отложить максимально возможное количество оплодотворенных яиц. У самой обычной нашей бабочки-белянки брюквенницы самка, спарившаяся с мелким самцом и получившая от него соответствующий его размерам маленький сперматофор, вынуждена вскоре искать встречи с другим кавалером. Если и тот не снабдит самку необходимым для нее количеством спермиев, она вновь отправится на поиски любовных приключений. В семяприемнике самки сперма разных самцов перемешивается, так что даже в одной порции отложенных ею яиц разные яички могут оказаться оплодотворенными спермой разных самцов.
Что касается продолжительности любовных свиданий, во время которых самец и самка соединяются в простейший социальный коллектив, то тут многое зависит от самых разных привходящих обстоятельств. Например, у крошечных, почти невидимых невооруженным глазом галловых клещей, которые паразитируют на растениях, вызывая всевозможные болезни, самец весьма предусмотрителен: он разыскивает существо, именуемое нимфой, которому лишь в дальнейшем предстоит превратиться в истинную самку. В ожидании этого события самец размещает несколько сперматофоров вокруг будущей, пока еще неподвижной и неспособной к каким-либо активным действиям «самки» и отгоняет от нее других самцов, покушающихся на ее девственность.
Еще больше времени отнимают подобного рода заботы у самцов некоторых крабов. Дело в том, что к продолжению рода у этих существ способна лишь такая самка, которая при очередной линьке только что сбросила свой твердый панцирь, так что находящиеся под ним «молодые» покровы еще не успели окрепнуть. Поэтому самец, разыскав самку, готовящуюся к линьке, уже не покидает ее, чтобы не потерять предоставившийся ему шанс. На протяжении целой недели он либо сидит на своей подруге, либо удерживает ее «за руку» обеими своими клешнями. Когда же ее панцирь лопается, самец помогает напарнице окончательно освободиться от этих доспехов. Оплодотворив самку, он отправляется на поиски следующей возлюбленной.
При спаривании так называемых стеблевых сверчков кавалер передает сидящей на нем самке довольно объемистый сперматофор, который не входит целиком в ее половое отверстие. Сперматофор имеет форму флакона, так что самка может захватить краями полового отверстия лишь «горлышко» флакона, через которое сперма из полости сперматофора за несколько минут перемещается затем в семяприемник самки. Очевидно, самке в это время лучше сохранять неподвижность, а чтобы ей не оставаться совсем уж бездеятельной, самец готов предложить подруге лакомый гостинец. Это выделения особых желез, которые накапливаются в неглубокой ямке у основания крыльев самца. Пока самка, восседающая верхом на своем избраннике, не съест это угощение до конца, она не покинет места встречи.
У других видов стеблевых сверчков дело обстоит еще проще: в то время как самец передает самке сперматофор, та с видимым удовольствием объедает кончики крыльев своего возлюбленного. После того как сперма оказалась втянутой в семяприемник самки, она поедает также и оболочку сперматофора. Воспользовавшись этим, самец может предложить самке очередной сперматофор и так далее, иногда несколько раз подряд. Если все идет хорошо, время свидания растягивается иногда на 3 часа и более.
Самки стеблевых сверчков не претендуют на многое, удовлетворяя свой аппетит вкусными выделениями желез самца и оболочками опорожненных сперматофоров. А вот самки богомолов, отдаленно родственных сверчкам и кузнечикам, – это создания гораздо более алчные. Самец богомола, который заметно уступает самке в размерах и гораздо слабее ее, инстинктивно чувствует опасность, исходящую от своей желанной, и вынужден тратить часы, чтобы незаметно подкрасться к ней сзади, после чего он одним прыжком оказывается у самки на спине. Отсюда она уже не в состоянии достать его своими пильчатыми передними лапками, лицемерно сложенными в молитвенном жесте. Но если самцу случится неловко соскочить с самки, оказавшись в сфере ее досягаемости, та молниеносно хватает супруга и мгновенно откусывает ему голову. Но даже после этого обезглавленный самец еще способен вскарабкаться на спину самки и по всем правилам совершить акт передачи сперматофора к ее половому отверстию.







