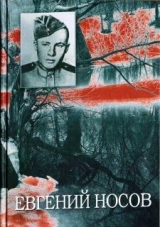
Текст книги "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…"
Автор книги: Евгений Носов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 35 страниц)
– Дядь Саш? А дядь Саш? Поиграть можно?
Тут подала голос старуха, она уловила Ромкин вопрос и, тронув дядю Сашу за руку, тоже попросила:
– Сыграй, милый, сыграй. У нас прежде в дому завсегда весело было. Лексей музыку любил. Он гармошку и на фронт забрал. Я ну его укорять: Леша, сынок, куда ж ты ношу такую, помеху-то? Будет ли тебе там когда играть? А он смеется: сгодится, мама, сгодится. Ну, да он и там время отыщет, он такой… Дак и Коля тоже любил… Сыграй, милый, сыграй.
Дядя Саша пристально вгляделся в старуху и услышал ее. В раздумье повернулся, посмотрел в вопрошающие Ромкины глаза, сказал негромко:
– Давай, правда, сыграем, Роман.
И убежденно добавил, вставая:
– Несите-ка инструменты.
В комнате притихшие было ребята сразу загалдели, загремели стульями, живо вышли в сени за трубами. Подали и дяде Саше его черный чехол, и он вслед за Пелагеей шагнул в горницу. И старуха приковыляла, села в сторонке к окошку. Девчата уже поспешно составляли к стене стол, стулья, освобождали место под танцы.
– Ты что ж, Сим, так и будешь в тренировочном костюме?
– А что? Шейк ведь! Вон и Вера в халате.
– Я не буду,– замялась Вера.– Я не умею такие.
– Ну что ты! Чего тут уметь. Пойдем, пойдем, я тоже туфли надену.
И девушки скрылись за занавеской.
– А ты почему не взял инструмент? – Дядя Саша покосился на Сохина, в стороне жевавшего яблоко.
– Да я потанцую. Хватит вам и одного альта.
– Ты мне нужен как раз. Иди возьми.
Сохин передернул плечами, недовольно вышел.
Ребята, каждый со своим инструментом, окружив старшого, изготовившись, поглядывали, как он распускал на чехле завязку, как не спеша обнажал свой прекрасный, сверкающий чистотой корнет. Делал он это как никогда торжественно, сосредоточенно, будто незрячий. Принаряженные девчата, сдержанно переговариваясь, расселись возле Пелагеи, и та участливо осматривала их прически и платья.
Дядя Саша постучал ногтем по корнету. Трубы замерли в изготовке.
И, глядя вниз, на свои пальцы, что уже лежали на клапанах, выждав паузу, он объявил, разделяя слова:
– Шопен… Соната… номер… два…
Какое-то время оркестранты смятенно смотрели на старшого, глазами, немотой своей как бы спрашивая: какая соната? при чем тут соната? Кто-то удивленно шепнул: «Чего это он?» Девчата тоже переглянулись. И только Пелагея, ничего не поняв, продолжала улыбаться и радостно ожидать музыки.
Дядя Саша опять постучал по трубе:
– Играем часть третью. Вы ее знаете.
– Ну, знаем, конечно…– сдержанно кивнул за всех Ромка.
– Прошу повнимательнее.
Он еще раз оглядел оркестр.
– Начали!
И, все еще недоумевая, думая, что произошла ошибка, оркестранты с какой-то обреченной неизбежностью грянули си-бемольный аккорд, низкий, тягучий, как глубинный подземный взрыв.
Пелагея, для которой слова «соната», «Шопен» означали просто музыку, а значит и веселье, при первых звуках вздрогнула, как от удара. Она с растерянной улыбкой покосилась на старуху, но та лишь прикрыта глаза и поудобнее положила одна на другую ревматические, сухие руки.
Дядя Саша кивком головы одобрил вступление и сделал знак повтора. Парни, все разом переведя дух и взяв чуть выше, уже уверенней, увлеченней повторили эти басовые вздохи меди. Ему было видно, как пристроившийся позади остальных Иван-Бейный старательно надувал щеки, вперив смятенный взгляд в какую-то одну далекую точку.
Возле него маленький круглолицый Сева, давая отсчет тактам взмахами колотушки, отбивал тяжелую медленную поступь траурного марша.
И Пашка с его не просохшими после дождя взъерошенными волосами вторил Севе тарелками, которые всплескивались среди басов и баритонов тревожной медной звенью.
Звуки страдания тяжко бились, стонали в тесной горнице, ударялись о стены, в оконные, испуганно подрагивающие стекла.
Когда была проиграна басовая партия, вскинулись, сверкнув, сразу три корнета, наполнив комнату неутешным взрыдом.
Принаряженные девчата, потупив глаза, уставились на свои туфли, обмякла плечами и Пелагея, и только старуха, держа большие темные руки на коленях, сидела неподвижно и прямо.
Серое ее лицо, изрытое морщинами, оставалось спокойным, и можно было подумать, что она уснула под музыку и вовсе не слышит этого плача труб в ее бревенчатом вдовьем дому. Но она слышала все и теперь, уйдя, отрешившись от других и от самой себя, затаенно и благостно вбирала эту скорбь и эту печаль раненой души неизвестного ей Шопена таким же израненным сердцем матери.
И дядя Саша вспомнил, что именно об этой великой сонате кто-то, тоже великий, сказал, что скорбь в ней не по одному только павшему герою.
Боль такова, будто пали воины все до единого и остались лишь дети, женщины и священнослужители, горестно склонившие головы перед неисчислимыми жертвами…
И тут Вера, внучка, вдруг закрыв лицо руками, кинулась за занавеску.
Девушки тоже поднялись и одна по одной, ступая на носках, пошли к ней.
И как проливается последний дождь при умытом солнце – уже без туч и тяжелых раскатов грома,– так и дядя Саша повел мелодию на своем корнете в тихом сопутствии одних только теноров: без литавр, басов и барабанов.
Это было то высокое серебряное соло, что, успокаивая, звучало и нежно, и трепетно, и выплаканно, и просветленно.
Освободившиеся от игры ребята – басы, баритоны – в немой завороженности следили за этим необыкновенным девичье-чистым пением дяди Сашиного корнета, звучавшим все тише и умиротвореннее. Печаль как бы истаивала, иссякала, и, когда она истончилась совсем, завершившись как бы легким вздохом и обратясь в тишину, дядя Саша отнял от губ мундштук. Бледный, вспотевший, он торопливо, потерянно полез в карман за платком. Он почему-то не стал возвращаться к басовому началу, которое у Шопена повторялось в самом конце шествия. Видно, ему не хотелось заглушать свет этой успокаивающей и очищающей мелодии тяжелой эпитафией.
И когда он утер лицо и не спеша, устало принялся зачехлять трубу, в горнице все еще молчали. Было только слышно, как изредка всхлипывала за ситцевой занавеской Вера.
Старуха наконец встала и, отстранив рукой Пелагею, которая кинулась было поддержать ее, поковыляла одна, шаркая подшитыми валенками.
– Ну, вот и ладно…– проговорила она.– Хорошо сыграли… Вот и проводили наших… Спасибо.
И, остановившись посередине горницы, перекрестилась в угол. Оркестранты молча закуривали.
Они шли к большаку непроглядным ночным бездорожьем. Все так же сыпался и вызванивал на трубах холодный невидимый дождь, все так же вязли и разъезжались мокрые башмаки.
Проходили набухшие водой низины, глухие распаханные поля, спящие деревни, откуда веяло палым садовым листом и редким дымком затухающих печей. Нигде уже не было ни огонька, и лишь недремные деревенские псы, потревоженные чавканьем ног на дороге, взахлеб брехали из глубины дворов.
Шли молча, сосредоточенно, перебрасываясь редкими словами, и старшой слышал близко, сразу же за собой, тяжелое, упрямое дыхание строя.
Как тогда, в сорок третьем…
И дядя Саша, придерживая рукой разболевшееся, глухо ноющее сердце, что донимало его последние годы, громко подбодрил оркестр:
– Ничего, ребята, ничего. Скоро дотопаем…
1973
Костер на ветру
Ровный майский ветер, напористый и упругий, нагрянувши из теплых краев, разбередил, раскачал старые ветлы, и те, оживая от долгого оцепенения, заплескались, заразмахивали никлыми космами, соря на прудовую воду багряной чешуей лопнувших почек. Дол до краев наполнился этим их пробуждением: старческим скрипом стволов, потрескиванием просыхающих корьевых рубищ, порохом падающих стручков и прутьев, не доживших до весны. И все эти низовые шумы перекрывались главным, процеженным сквозь кроны, ветровым солнечным шумом, веявшим горьковатой прянью молодой клейкой листвы.
Из расходившейся ракитовой чащи взмыли два черных коршуна. Подставив ветру рыжие тельняшки, парусно простерев крылья, коршуны норовили отвесно удержаться в поднебесной сини. Но властный ветер опрокидывал и отбрасывал их вспять. Низвергнутые птицы, трепеща каждым пером и оглашая высь отчаянными воплями: «Кью-ю-ю! Кью-ю-ю!»,– скользяще пикировали в ракитовую глушь, с тем чтобы тут же снова стремительно взлететь и еще раз попытаться замереть на ветру в распластанной стойке, подобной гербовому распятию на старинной российской монете.
Временами коршуны как бы теряли управление собой, и тогда ветровой поток сталкивал их друг с другом. Обе птицы падали вниз в едином комке, но над самыми вершинами дерев вдруг стремительно разлетались в стороны, после чего больший коршун, лавируя меж верхушек, с пронзительным вскриком: «Ки-ки-ки!» яростно и смертно пускался догонять меньшего.
– Вот бы пальнуть! – вожделился Авдей Егорыч, сощуренно наблюдая за птицами.– Выждать, когда они вместе сойдутся, да и сразу обоих…
– А тебе зачем? – поинтересовался Алексей, весь заплаканный от огня и дыма.– Для варева, поди, непригодны.
– А чего они тут? Мало ли других мест…
– Ну и пусть себе,– благодушно дозволил Алексей.
– Как это – пусть? Есть такая примета: где коршун загнездует, там и разор…
– Дак куда еще разоряться-то? – не согласился с приметой Алексей.– От нашего селенья всех-то мужиков осталось: я да ты! Ну, ты хоть с бабкой, а я дак и вовсе запечный сверчок – один трюхаю. Вот скоро приберемся, да и прощай, родимый хутор Белоглин. Сотлеет наша с тобой городьба, уйдут в почву черепки да пуговицы, падут на погосте последние кресты, все землей обровняется, как было допрежь, до потопа, и порастет нехоженой муравкой.– Алексей переломил о колено ракитовую сушинку, подсунул ее в костер.– Однако ж ты, Авдейка, не скоро угомонишься. Хоть мы и погодки, а мужик ты справный, доси бреешься. Вон и челюсти стальные вставил… Стало быть, намерен еще долго хлеб перемалывать.
– Ну, понес, понес!..– досадливо покривился Авдей Егорыч и перевел взгляд с коршунов на свои валенки, заправленные в глубокие мокроступы, на носках которых поигрывало солнце.
– А я, кажись, последнюю весну колтыхаю,– весело оповестил Алексей.– В глазах уже черные мушки начали летать. Гляжу как-то в окно, еще зимой: что такое? Неужто скворцы прилетели? Вверх-вниз шальной стаей носятся. Перевел глаза на печь, а они и по печи тако же!
– Это бывает,– согласился Авдей Егорыч.– От магнитных бурь. Або с перебору. В таком деле рассол помогает.
– Дак оно, может, и лучше, ежели я первый сапоги откину,– дробно засмеялся Алексей, весь сморщась печеным яблоком.– Хоть буду знать, что ты меня на бугор отволокешь. А я тебя, братка, извини-прости, никак не осилю: в тебе, небось, поболе центера дармоедины-то? Так что живи давай…
Алексей, долгий, жердеватый, весь в костлявых остряках, с козьим ошметком сивой изреженной бороденки, и впрямь был ветх и квел с виду. Под его щипаным ватником не просматривалось никаких телес, будто одежка висела на голом тесовом кресте. И штаны его, запихнутые в бродни, тоже были пусты, так что ветер трепал и полоскал их вольно и беспрепятственно. И только живые, емкие глаза в подлобных впадинах светились цепко и взыскующе, неусыпно жаждя какой-то истины. Глядя на него, так и вязло назвать, как записано в имяслове: «Алексий – Божий человек».
Авдей Егорыч, напротив, был коренаст и грузен, багров прибранным одутловатым лицом с труднодоступными глазками, затерявшимися в складках подглазий. Одет он в теплый пятнастый бушлат, опоясанный по экватору округлой тушки широким командирским ремнем с двумя рядами дырочек. Чувствовалось, что Авдей Егорыч уважал все военное, прочное, обстоятельное, и даже на фронтоне его серой цигейковой шапки углядывалась вмятина от армейской кокарды. Всю эту экипировку быстрого реагирования, как я узнал впоследствии, Авдей Егорыч приобрел наездами в районе, на привокзальном базарчике в загульные времена дембелей.
Избы – беленая под очеретом Алексея и щелеванная под шифером Авдея Егорыча – стояли друг против друга по обе стороны ставка на взгорьях, поверх низинных ветел. Выставляет ли Алексей новый скворечник или развешивает по плетню для просушки вентеря, красит ли Авдей Егорыч оконные наличники или охаживает ульи в задворном вишеннике – все как есть зримо, что деется у супротивного соседа. Так что когда на Алексеевой стороне заметался по ветру белесый дымок, в скором же времени объявился и Авдей Егорыч.
Я был смущен, что присевший у костра Авдей Егорыч оказался тем самым человеком, который вчера насыпался на меня на плотине. Не успел я сойти с велосипеда, а лишь только опорно опустил уставшие ноги, дивясь переменам, тому, как неузнаваемо урезался зеркалом, зачернел обнажившимся коряжником пруд за время, пока я тут не был, как за моей спиной, будто и в самом деле свалясь с неба, восстал вот этот пегий десантный бушлат.
– Та-а-ак! – устрашающе предварил он дальнейший разговор.– Разрешение имеется?
Я вздрогнул и обернулся растерянно:
– Н-нет… А что? Какое разрешение?
– А вот! – указал он пальцем.– Тут сказано какое…
Я посмотрел в то место, куда мне указывали.
Высоко на раките висело жестяное объявление с восклицательным знаком, оповещавшее о том, что ловля рыбы в оном пруду строго запрещена и что за нарушение сего – штраф – пятьдесят рублей. К числу «50» впоследствии был добавлен мелом еще один ноль, должно, означавший поправку на инфляцию.
– Ты что, дядя?! – сразу завелся я.– Штраф-то за что? За прорванную плотину? За те твои черные пеньки?!
– Ничего не знаю! – напирал бушлат.– Не положено – стало быть, нельзя.
– А-а, пошел ты…
Мы громко заперечили, зажестикулировали, не слушая один другого. Уже опасно заискрил матерок, и я не знаю, чем бы все закончилось, если б не Алексей, прибежавший на неладное.
– Что за рукопашная? – спросил он, хватая ртом воздух.– Это ты, Авдей Егорыч, шумишь? Кого заловил?
– Да вот… шляются тут всякие…– гневно пожаловался бушлат, ища подмоги у прибежавшего.
Но тот, должно быть, углядев в моих глазах зеленую тоску, душевный конец света, умягченно сказал:
– Да чего там! Пусть маленько посидит. Все равно ведь не ловится. Ветер-то какой!
– Ветер не ветер – нельзя, сказано,– упорствовал бушлат.– Закон есть закон.
– Ну все, защемило грыжу,– отмахнулся Алексей.– Пошли, мил человек, на мой берег, я найду тебе место.
– Ну, Леха…– взъярился бушлат.– Супротив все делаешь… Гляди, дособачишься…
– Ладно, не газуй на ровном…
Алексей сделал мне знак рукой и зашмурыгал сапогами по усохшей колчеватой глине грейдера. Я послушно повел за рога свой велосипед. Отойдя подальше, он воспел не своим, испорченным голосом:
– Зако-о-он! Зако-о-он! Сельсовет из себя корчит. И бушлат с ремнем для этого завел. А дай ему десятку, он и замолчит…
– Он что, от рыбнадзора?
– Да какой там! Когда пруд стоял в полном зеркале – сторожем числился. А плотину сорвало – заодно и его отстранили.
– Чего же он тогда?
– Да это он сам по себе. И насчет штрафа – тоже брехня. Сам же старое объявление и приколотил. Лестницу аж со двора приволок – чтоб повыше да не оторвали. Ну да на моем берегу его штраф не действует…
– Как это?
– А тут такая история,– пояснил Алексей.– Когда от пруда одна чуть осталась, Авдей и говорит: «Давай, мол, Алексей, остачу воды напополам поделим».– «Это зачем?» – спрашиваю. «А затем, говорит ,– что ты почти каждый день вентеря ставишь, а я иной раз по неделе дома не бываю. А когда меня нету, небось, и под моим берегом шаришься. А ежли разделимся, тади, дескать, все по справедливости будет: ты лови под своим берегом, а я – под своим». Вижу, Авдей под себя гребет: его сторона поуглубистей, там и русло от прежнего ручья проходит. А где русло – там и главный ход рыбы. Мне же отошла вся луговая, мелкая сторона с пеньками и с мертвостоем. Ладно, думаю, черт с тобой, взяли и поделили.
Алексей обернулся поглядеть, иду ли я, не отстал ли? Дождавшись, подхватил велосипед за левую рулевую поручню – вдвоем, мол, ладнее.
– Ну, да я за крупным карасем особенно не гонюсь,– не противился он разделу.– Мне и мелочь не в убыток. Я сперва сушу, опосля толку в ступе, муку делаю. Для муки все сгодится. Есть мне ничего нельзя, окромя болтушки. Карасиной мучкой и живу. А еще – детскими порошками. Такая моя планида… Ну а тот, Авдюха, накопит корзину и – в район на базар. В бизнец ударился.
Алексей привел меня на тесовое помостье, где я и провел остаток дня в тщетной попытке что-либо изловить на свою пару удочек. Упрямый ветер допоздна гнал косую зеленую волну, гулко и надоедно плескавшуюся под настилом, клал набок поплавки, дугой выгибал лесы, и было ясно, что при такой качке все живое убралось с мелких мест.
Ночевал я у Алексея в сарайке, на сеновале, а проснувшись на заре и выглянув в чердачное оконце, понял по неспавшему ветру, что и сегодня не будет никакого толку.
– Да, незадача…– жалел меня Алексей.– Да ты останься, останься на пару-то деньков. Глядишь, потишает. Майский карась скоро весь на мель пойдет.
Я развел руками, мол, ничего не поделаешь, надо ехать.
И тогда Алексей сплавал на своем дощанике, похожем на поильное корыто, тряхнул в коряжнике вентерек и привез-таки полведра мелочовки, среди которой попался и один с лапоть, пузцом и дородной сутулостью похожий на захолустного столоначальника.
– Нет, нынче нема делов,– сокрушался он, встряхивая в ведре неказистую добычу.
И вот мы сидим у воды под заслоном белооблитого черемушника. Рьяный костер, будто осьминог, далеко выбрасывал свои огненные щупальца, нехотя пробовал несъедобное ведерко, подвешенное на рогулинах, и, отыскав подкинутые сушины, жадно обволакивал их и не отпускал, обращая в тлен и пепел.
Ведро долго не закипало, но наконец забулькало, запарило сушеным укропом, и Алексей, спустив в него карасей, убрал огонь и оставил уху настояться и подобреть на малом жару.
– За ложкой сходить, али ты со своей пожаловал? – поинтересовался Алексей у Авдея Егорыча.
Тот промолчал, задетый, и только натужно покрякал.
– А мы тут решили поминальную ушицу состряпать.
– По какому делу? – не понял Авдей Егорыч.
– Ну как же… Через два дня великий солдатский день… Али забыл?
– А я вижу – дым, дай, думаю, погляжу, кто там балует… На той неделе утку у меня уперли. Гляжу, перья под кустом нащипаны.
– Ага… С дозором, значит. Ты ведь тоже обмотки мотал, давай входи в долю.
– Я обмоток не носил…
– Ну да, ну да… Конвой завсегда в сапогах, это верно. Дак, может, войдешь в долю? Наша уха, твоя выпивка.
– Я на минутку только,– уклонился Авдей Егорыч.
– А то – давай? За нашу Победу. Перваку, небось, уже выгнал?
– Да не гнал я ничего! – Авдей Егорыч засопел и в сердцах оперся о колоду, готовый подняться.
– Сиди уж…– Алексей придержал его за плечо.– Я ить вижу: уже принял маленько… Ну скажи, принял?
– Не бреши. Откуда видно-то? Я в трубку не дул…
– А зачем – в трубку? По глазам вижу…
– И что ты видишь?
– Шибко бегают они у тебя, моргают.
– Я всегда такой. Когда ветер, я и моргаю. Врачи признали: слезная железа ослабла.
– Ну да, ну да! Ослабла… Вот смотри на меня, а я по часам сверю, сколь разов сморгнешь. Самый верный способ! Давай смотри мне в глаза,– смеялся Алексей.
– Да чего мне на тебя глядеть? – сплюнул Авдей Егорыч.– Может, на тебя смотреть – не только заморгаешь, а и зажмуришься…
– А-а, забоялся! – Алексей довольно погрозил пальцем.
– Ну, было у меня на донце, ноги берег растереть…– прижался Авдей Егорыч {73}.
– А я разве что? Я ить не в укор, я – в поддержку компании. Одному пить грешно, убого. А на миру – душа нараспашку, как на исповеди! Вот и уха в самый раз поспела. Схожу ложки принесу.
Вместе с некрашеными ложками-самоделками Алексей принес в рушнике и разложил на опрокинутом тарном ящике все, что нашлось в избе об эту скудную пору: несколько штук бочковых огурцов, несколько уже тронувшихся в рост луковиц, черную хвостатую редьку, связку вяленых карасиков.
Я притянул к себе рюкзак, извлек встречно свою долю: пару плавленых сырков, кусок вареной колбасы, серый батон хлеба, набор полиэтиленовых туристских стаканчиков и бутылку «Столичной».
– Куда с добром! – возликовал Алексей и в свою очередь выловил из ведра и рядком, как безвременно погибших, разложил на рушнике белоглазых отваренных карасиков со смиренно сложенными по бокам плавниками, а в большую эмалированную миску начерпал знойно парившей ухи и поставил посередине, чтобы всем было доступно и ловко доставать ложками.
При виде этой щедрой столешницы, источавшей простой и крепкий дух огурцов, лука, крупно напластанной редьки и горячего варева, смешавших свои ароматы с запахом близкой черемухи, горьковатого ракитового ветра и взопревшей подножной земли, на которой все мы тут сидели и пылал наш костер,– от всего этого отмякла и занялась всепрощеньем душа и возжелала всеобщего братства и согласия.
Алексей расторопно распечатал бутылку, разлил по мягким манеркам и оповестил дрогнувшим голосом:
– Ну, мужики! Давайте вот за что… Мы с вами еще вон сколь прокоротали… Можно сказать, весь оборот жизни прошли… А те, братки наши шинельные, уже полвека где попало лежат… и по России, и по-за ее пределами. Кто под братской плитой, а кто и вовсе неприбранно… Давайте помянем их, бессловесных и безответных…
Мы с Авдеем Егорычем, сидевшие рядом на одной колоде, отрешенно, каждый глядя в свою чарку и бормоча виноватое «пусть будет пухом…», выпили свое. Не выпил только Алексей. Держа перед собой стаканчик, он отошел с ним в сторону, отвернулся, свободной рукой расстегнул ватник, задрал на животе рубаху и, как можно было понять по его движениям, вылил свою водку куда-то под одежку.
– Что это он? – удивился я.
– А-а…– хрустя огурцом, сказал Авдей Егорыч.– Он всегда так… В лейку сливает. Говорит, будто ранение у него такое.
Жалость ознобила меня, но Алексей как ни в чем не бывало повернулся со светлым лицом и, шутливо расправляя на стороны будто бы намоченные усы, весело похвалил:
– Хороша, родимая! Соколом пошла!
Я скорбно глядел на Алексея, забыв о еде, и он, перехватив мой сострадающий взгляд, добродушно загостеприимничал:
– Ешьте, ребята! Юшку стербайте! Она хороша, пока горячая. А меня простите, что я не с вами. Нельзя мне за столом, при людях. Не обращайте внимания. Эх, да чего там! Гляди, какая красота! Солнушко! Небушко! Землица проснулась! Ужли не диво!
Отхлебавши ухи, выпили и еще, на этот раз чокнувшись об Алексееву чарку под добрый знак: «Побудем живы!»
Алексей, все так же отойдя в сторонку и отвернувшись, слил свою долю под расстегнутый ватник, а следом сцедил туда и ушицу из припасенной баночки, предварительно выбросив ложкой картошины и вареный лук.
После двух стопок Алексей заметно охмелел, благостная улыбка не сходила с его лица. Он снял ватную ушанку, огладил книзу, на лоб, взмокшие седые волосы и, подставив вощеное лицо солнцу, зажмурился блаженно. И было видно, как на опущенных округло-выпуклых веках бились синие жилки – секунды бытия.
В весеннем азарте, утратив обычную осторожность, над нашими головами, бреюще, так что виднелись поджатые желтые лапы, стиснутые в кулачки, пронеслись один за другим все те же два коршуна. Черные птицы с упругим посвистом крыльев провиражировали в нервном зигзаге, правя свой стремительный лет чутким креном выемчатых хвостов. И разносилось окрест резкое, однобокое, рвущее ракитовый шум: «Ки-и! Ки-и! Ки-и!»
– А ить это мы с тобой, Авдейка! – объявил Алексей, поводя взглядом за коршунами до того момента, когда они вновь круто взмыли ввысь и там замерли друг против друга в мгновенном противостоянии.– Который поувалистей, погорластей – это ты.
– А ты какой же? – вяло отозвался Авдей Егорыч.
– Я – вон тот, что поплоше, поощипанней…
– Ну-ну… Чего еще наплетешь?
– Всё, как у нас: сколь живем, столь и шпинаешь ты меня, сживаешь со свету.
– Ну, понес! Понес! – Голос Авдея Егорыча обрел раздраженную трубность.– Ну и язык у тебя, Лешка! Минуты не пройдет, чтоб ты не намутил, не набрехал чего-нибудь. От языка твоего и весь несклад твоей жизни, вся худоба.
– Язык мой теперь свободный! – засмеялся Алексей.– Я им не ем, содержу в чистоте, только для разговора. С хорошим человеком – по-хорошему, с худым – по-иному…
– Это когда ж ты со мной по-хорошему балакал? – разгорался Авдей Егорыч.– Ты ж не можешь, чтоб сказать по правде.
– Это не язык мой, а уши твои кривят, прямое на кривое переиначивают. Почистил бы…
– Ну вот, ну вот! – Авдей Егорыч досадливо охлопал свои коленки.– Опять же брехня! Уши мои справные, никогда не отказывали. Комар за десять шагов летит, а я уже чую…
– Небось, на вышке натренировался…– весело предположил Алексей.– Это верно, туда тугоухих не поставят.
– Мели, Емеля! – огрызнулся Авдей Егорыч.– Ну и трепло ж ты, паразит! Что ни слово – все с вывертом, все врастопырку. Ты и про себя все напрочь врешь… Тут с нами посторонний человек сидит. Расскажи, расскажи давай, как ты будто бы один-разъединственный целую роту немцев разогнал… Вот давай свою брехеньку, а человек пусть послушает и скажет…
– Ну, было такое…– кивком подтвердил Алексей, жмурясь, закрывая глаза от солнца.– Ну, может, и не рота, а довольно их было.
– И как три танка захватил?
– Немцы сами их бросили…
– Хе-х! Как же это так – бросили?! Увидели тебя – и драпанули?
– Все верно…– лукаво кивнул Алексей.
– Ну, умори-ил! Во дает! – Авдей Егорыч откинулся так, что сронил с лысины шапку, зареготал язвительным хохотом.– Почище Васи Тёркина. Тот этак-то не брехал, край знал, докуда можно. А ты безо всякого края. Да за такие дела тебе Героя с ходу надо бы давать {74}. А у тебя и худой медали нету. Чего ж командование-то не оценило?
– А его там не было…
– А кто же был? Кто-нибудь да видел?
– Никто и никого…
– Один ты, что ли?
– Один я…
– Ну, елкой твою мать! – развел руки Авдей Егорыч.– Ну, что ты с ним будешь делать?! Врет, а ты терпи, слушай.
– Ладно, коршуна! – вмешался я.– Давайте на костер плеснем. А то искры больно летят…
С этим действом все были согласны, после чего, улучив благодушную минуту, я попросил Алексея все ж таки рассказать толком, как на самом деле было.
– Это где же, на каком фронте?
– Да какие там фронта! – поморщился Алексей.– Только начали выгружать наше пополнение – вот тебе «юнкера». Ну, и началось!.. Остались мы без жратвы, без боеприпасов да так и подрапали налегке… Только прикажут окопаться – немец уже эвон где: то справа, то слева обошел… И опять – дай бог ноги…
– Где хоть это было-то, ну, места какие?
– А леший его знает! В каком-то поселке, кажись, опосля Бобруйска. Я ить и не помню, где мы там блукали. Отходили всё больше ночами. Глядишь, там горит, там полыхает, а какие города, какие поселки – кто знает? Карта солдату не положена, ее и у командиров не было. Разве где школьную подберет. А днем от самолетов по кустам ховались, лесами и пёхали…
– Ну, и как же все получилось?
– А что получилось? – не понял Алексей.
– Ну… насчет того поселка?
– А-а…– поскучнел Алексей.– Да то был и не поселок вовсе. Так, пеньковый заводишко, кострикой заваленный {75}. Ну, а получилось как? Шли мы на переправу, совсем в другом месте от этого заводика. Где-то севернее немец завис над нашими тылами, было велено отойти за реку, чтобы не потерять последние пушки и все колесное. А на переправе – пробка на полторы версты: грузовики, трактора, упряжная артиллерия, телеги, беженцы с тачками, скот, пешей солдатни полно. Крик, ругань, бабы галдят, коровы мыкают… Небритый комендант нагана из рук не выпускает. Слава богу, хоть дождь моросил, самолеты не летали… Ротный побежал выяснять, а мы на всякий случай свернули в обочные сосенки.
Сидим, передыхаем, покуриваем, переобуваемся, портянки сушим…
Смотрим, ротный обратно бежит, планшетка по бедру хлопает. С ним какая-то бабенка в шинелке, между полами белый халат промелькивает. Ротный еще издали кричит нашему помкомвзводу: «Агапов! Бери десять-двенадцать человек, поедешь вот с ней… с этим товарищем».
«Товарищ» оказалась в годах, под береткой седые волосы, худая, опавшая, нос, как у вороны. Глаза, вижу, зареванные, небось, с комендантом ругалась, а может, и еще по какой причине… Стало как-то нехорошо, тревожно на душе: куда? что? А ротный наставляет: «Управитесь – догоняйте! Я коменданту записку оставлю, где нас искать. А про остальное – вот она все скажет. Вы теперь в ее подчинении. По званию она капитан, так что давайте…»А чего давать-то? И та ничего не говорит, а только торопит: «Товарищи, побыстрей обувайтесь, пожалуйста!» А сама долгие пальцы, сведенные стропильцами, всё к серым губам подносит…
Ну, мы, двенадцать человек, обулись, закинули за плечи вещмешки, Агапов прихватил «дегтяря» с двумя запасными дисками, потопали. Невдалеке санитарная газушка стоит с красным крестом на боку. У шофера голова забинтованная, сукровица на виске проступила, из-под бинтов опасливо в небо косится, видать, не нравится это людное место, машину не выключает. Спрашиваем его: «Куда хоть едем?» – «Да тут,– говорит,– недалеко. Мост надо поправить». Ну, мы повеселели: работать – не стрелять, дело подходящее.
Поехали. Вскоре затрясло, закачало, шофер запереключал скоростями на ухабах. В заднем оконце замелькали сосны. Ясное дело, какой-то глухой дорогой едем. Потом дерева перестали мелькать, стало опять видно одно небо, в оконце посветлело, наволочь поднялась и дождем больше не дробило по крыше. Машина прибавила ходу, должно, выехали на открытое, на колевую дорогу.
Слышим, стук кулаком из кабины, шофер орет благим матом: «Мессера! Все из машины!»
Мы посыпались из железной будки, разбежались кто куда, попадали в траву. И правда, два «мессера» друг за другом над самой землей ,и сразу: «Тра-та-та-та! Ба-бах!» Мелькнули белые кресты, обдало бензиновой гарью, забарабанили комья взорванной земли. Еще два самолета промчались чуть стороной. В один миг немцы исчезли за лесом и где-то там опять: «Шара-ах! Шара-ах!» А потом еще: «Бах – бабах! Тра-та-та-та!..» Должно, лупили уже по переправе.
Отряхнулись мы, залезли в кузов, а там три светлые дырки в потолке…
Алексей потянулся за сушняком, бросил несколько коряжин на тлеющие угли и помахал шапкой, добиваясь огня.
– Ну, приехали мы на этот пеньковый завод, вышли из машины. Не поселок, а так – поселишко. Налево – сам завод – долгое кирпичное строение с веселой купецкой лепотой, позади – склады, всякие службы. Направо – улица из нескольких домишек. А между ними – вроде как площадь с бюстом Ленина и Доской почета. На Доске еще целы портреты стахановцев. А внизу – речка и тот самый мост раскуроченный.
Глядим, «мессера» и тут побывали: дымился, догорал один из складов, по всему двору курились ошметки извергнутой огнем пеньки, сам двор воронками исклеван, а на задах две женщины в белом что-то копают лопатами… Наша капитанша как остановилась, так и осталась стоять, обхватимши руками беретку. Увидели ее те две женщины, бросили копать, прибежали с криками: «Ой, Анна Константиновна! Что тут было! Что было без вас! Вот видите, что наделали, сволочи?! Иванькова насмерть убило! Помните, что без двух ног? Вот копаем… Остальные, слава богу, целы, в другой склад перенесли».








