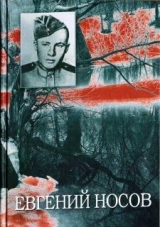
Текст книги "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…"
Автор книги: Евгений Носов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц)
– Даст, раз обещался.
– Дак кто ж его знает… Время теперь такое… Овес вон забрали. И сено могут затребовать. Лошадей-то небось на войне тоже надо кормить. Они не виноватые.
– Сено! Хлеб неубранный остается.
– Да-а…– почесал за ухом Давыдко.– Не ко времени война зачалась. Что б ей погодить маленько? Ну хоть недельки с три-четыре. Пока б сено прибрали да хлеб. Управились бы, а тогда…
– Что и говорить, не в срок затеялась.
– А и когда война была нашему брату-пахарю в пору? – посмеялся дедушко Селиван.– Смерть да война незваны завсегда.
– А я уж было сарайку начал рубить,– сокрушался Давыдко.– Венца три до крыши не довел. Знато, дак уж лучше б не начинал, лежал бы материал в сухом.
– А у меня возле кузни три лобогрейки раскиданы,– покашлял в кулак Афоня-кузнец.– Прошка косится, да чего уж теперь… Делов там еще не на один день.
– Нам, татарам, все равно на Русь итить,– засмеялся дедушко Селиван.– Завсегда дела находятся. То б надо, это бы… Дак вон и у Касьяна баба на последних сносях, пышкает, как квашня перед праздником. Тоже надо бы погодить с войной. Так ли, Касьянушко?
– Да уж скоро б должна родить,– потупился Касьян, почувствовав, как от этого напоминания какой-то тоскливый червь опять тошно соснул меж ребрами.
– Ах ты, осподи, грехи наши! – вздохнул и дедушко Селиван.– Погоди бить, дай пальцы в кулак возьму. Ох-хо-хо… Да што поделаешь? Огонь с соломой все равно не улежится. Так и война с нашими делами. А уж ежели занялось, годи не годи, а бросай все да иди. Тут уж тушить надобно, пока и сама изба не сгорела.
Давыдко снова расплескал по чаркам, мужики, оборвав разговор, согласно выпили и тоже согласно закурили.
Дым сизыми полостями заходил по избе, ища себе выхода.
– А я, ребята, от посыльного слыхал,– заговорил Никола Зяблов,– будто бригадир заявление в сельсовет подал.
– Какое заявление? – насторожились мужики.
– Ну, штоб, значит, взяли его на фронт. Вроде как по своей охоте.
– Да ну! Иван Дронов?
– Еще на той неделе, говорят, подал.
– Гляди ты… А – молчок. Никому ни слова.
– А чего б ему в дуду дудеть?
– Ну, криворотый! Лих, лих малый!
Мужики поудивлялись, покрутили головами, и было заметно, что им почему-то сделалось неловко друг перед другом от этого известия. С ними было такое, как если бы они вшестером тужились одолеть бревно, но так и не подняли, а пришел Иван Дронов, не шибко-то и казист с виду, но, долго не раздумывая, подхватил и понес. И стало оттого совестно и непонятно: как же, мол, так? И в оправдание своей нерасторопности начинала вертеться злая мысль, хотелось придраться, а нет ли тут чего, какого подвоха, по правилам ли сия ноша поднята?
И первым придрался Кузьма, уже заметно охмелевший.
– Да бросьте, не возьмут его! Кто ж будет бригадирить? Это он так, покрасоваться. На него небось уже и бронь наложена.
– Да не, на Ивана не похоже,– сказал Леха Махотин.– Не такой он мужик, чтоб козырнуть заявлением.
– А чего ж: подал – а доси дома?
– Что ж тебе, так вот и сразу? Поди, еще рассматривают бумагу-то. Наверно ж, не один наш Иван.
– Посыльной говорил, в Верхних Ставцах еще сколько-то таких,– уточнил Зяблов.– Да из Ситного учитель.
– Ну вот, вишь… Да по другим селам. В военкомате тоже теперь запарка. Ну-ка всех учти, всех сосчитай, кого брать, кого погодить.
– Так-то, пока рассмотрят,– хмыкнул Кузьма,– дак я, нерассмотренный, поперед их там буду. Какая ж разница? Али за то пули им особые отольют, золоченые?
– А вот та и разница,– сказал Леха Махотин.– То ты сам, а то по повестке.
– Ага…– вертанул белками Кузьма.– В хорошие набивается.
– А ты чего ж не догадался? – спросил Леха.– Ты б тоже, не будь дурак, взял бы да поперед его заявление подал. Глядишь, тебе тоже местечко подобрали б, умнику. Два аршина на бугре. А-а! Кишка тонка! Заткнись лучше.
– А ты? Ты-то сам чего ж не подал? – взвился Кузьма.– Ты ж у нас тоже всех разумней, как послухать. А сам небось первым штаны замарал…
– Не, малый, ошибся,– усмехнулся Махотин.– Штаны мои чистые. Когда надо – пойду. Прятаться за чужие спины не стану.
– Ох, ерой! В земле потурой! А из земли вытащи, дак и лапы кверху.
– Это какие такие лапы? – посерьезнел, насторожился Махотин.– Смотри, друг, говори, да не заговаривайся. Как бы ты свои не задрал…
– Ладно тебе! – одернул Давыдко шурина.
– А чего он, з-зануда. А то враз по соплям разживется.
Махотин привстал, заходил скулами.
– А ну давай выйдем…– сдавленно проговорил он.– Пошли, гад!
– Сядь, Алексей,– нажал на его плечо Афоня-кузнец.– И ты, Кузька, не скотничай. Не гни на людей напраслину. Пока нечего корить друг дружку… Кто подал, кто не подал… Еще только за столом сидим… Кто ж был к этому готовый? Тут и с мыслями еще не всякий совладал. Люди мы невоенные, у нас вон земля да хлеб на уме… Генералы и те небось затылки чешут, не знают, с какой карты лучше зайти, какой бить, а какую при себе держать. С какой ни пойдут, всё не козырь… Все не наш верх…
– Да уж не козырь, это верно,– проговорил Давыдко.
– Вот у меня в кузне,– продолжал Афоня-кузнец,– на што уголь горюч, железо варит, и то не сразу разгорается. Его сперва раздуть надо, а тогда и железо суй. Так и это дело. Не всякому человеку вдруг на войну собраться. Не его это занятие. Ивану, поди, жизнь тоже не копейка. Как-никак трое пацанов. Наверно, ночи покрутился, посмолил табаку. И нечего, Кузьма, чепать его понапрасну.
– Иван партейный,– напомнил Никола Зяблов.– Может, ему так предписано.
– Всем предписано,– сунул бровями Афоня-кузнец.– Да не всяк, вишь, горазд.
И опять помолчали мужики, отрешив себя друг от друга. Кузьма, не дожидаясь череда, потянулся за бутылкой, налил себе одному и единым махом выглотал.
– А я так, ребятки, на это скажу,– встрял в спор дедушко Селиван.– На войну што в холодную воду – уж лучше сразу. Верьте моему слову. А то ежели с месяц так-то просидеть – голова не своя, в поле не работник, дак маета с думой хуже вши заест. Еще и не воевал, а уже вроде упокойника. А сразу – как нырнул. Штоб душа не казнилась. Да и баб не слухать.
– Не говори! – мотнул чубом Леха. Был он хотя и ряб скуластым калмыцким лицом, но смоляной чуб в тугих завивах красил мужика пуще дорогой шапки.– Не говори, дедко! Вторую неделю война, и вторую неделю моя Катерина ревмя ревет. Садимся есть – голосит, спать ляжет – опять за свое. И все глядит на меня, вытаращится и глядит, будто я приговоренный какой… А давеча,– усмехнулся Леха,– когда бумажку вручили, как взялись обе, Катерина да бабка, как наладились в две трубы, аж кобель на цепи не выдержал. Задрал морду и тоже завыл. Хоть из дому беги.
Лехины шутливые слова про кобеля, однако, заставили всех опять запалить цигарки. Касьян тоже закурил и, отвернувшись, засмотрелся в окно, где текли, текли себе, как сон, белые бездумные облака.
Почуяв неладный крен, дедушко Селиван встал со своего места и бочком пробрался по-за тугими спинами мужиков.
– Э-э, ребятки! Не вешайте носов! – сказал он с бодрецой.– Не те слезы, што на рать, а те, што опосля. Еще бабы наплачутся… Ну да об этом не след. Улей-ка, Давыдушко, гостям для веселья!
И, остановившись позади Махотина и Касьяна, обхватив их за плечи, затянул шутовской скороговоркой, притопывая ногой:
Ах вы, столики мои, вы тесовенькие!
А чево ж вы стоите не застеленные?
А чево ж вы сидите, хлеба-соли не ясте?
То ль медок мой не скусён, то ль хозяин не весёл?
Но тут же откачнулся от обоих, мотнул бородкой с веселой лихостью:
– А по мне, дак так: али голова в кустах, али грудь в крестах!
– Ага… Давай, дед, давай…– Кузьма, заломив луковую плеть, потыкал ею в солонку.– Ага…
– Ась? – не уловил сразу Селиван Кузьминой усмешки.
– Ага, валяй, говорю.
– Вроде и не гусь, а га да га,– отшутился дедко.– Ты к чему это, милай? На какую погоду?
– А так…– Кузьма пожевал лук вялым, непослушным ртом.– Хорошо с печи глядеть, как медведь козу дереть…
– Ой ты! – Дедушко Селиван изумленно хлопнул обеими руками по пустым штанам.– Глянь-кось, экий затейник! Али я этого не прошел? Было мое время – и я с рогатиной хаживал. Ходил, милай, ходил! Да вот тебе, хошь, покажу…
Задетый за живое насмешливым хмыканьем Кузьмы, старик проворно спохватился к шкафчику, задвигал, зашебаршил в нем утварью и пожитками.
– Сичас, сичас, сынок,– бормотал он между распахнутых дверец.– Дай только отыскать… Где-сь тут было запрятано. От постороннего глазу… Никому не показывал и сам сколь уж лет не глядел… А тебе покажу… покажу… Штоб не корил попусту… Ага, вот оно!
К столу он вернулся с тряпичным узелком и, все так же присказывая «сичас, милай, сичас», трепетно-нетерпеливыми пальцами начал распутывать завязки. Под тряпицей оказалась еще и бумажная обертка, тоже перевязанная крест-накрест суровыми нитками, и лишь после бумаги на свет объявилась плоская жестяная баночка – посудинка из-под какого-то лекарского снадобья.
– На-кось, Кузьма Васильич, ежли веры мне нету… На вот погляди…
Кузьма пьяно, осоловело смигивал, некоторое время смотрел на протянутую жестянку с кривой, небрежительной ухмылкой.
– Ну и чево?
– Дак вот и посмотри.
– А чево глядеть-то?
Понуждаемый взглядом, Кузьма все ж таки принял жестянку, так и сяк повертел ее в руках, даже зачем-то потряс над ухом и, не заполучив изнутри никакого отзвука, отколупнул ногтем крышку.
Коробка была плотно набита овечьей шерстью, длинными, от времени пожелтевшими прядями.
– И чево? – вызрился, не понимая, Кузьма.
– А ты повороши, повороши,– настаивал дедушко Селиван.
Кузьма недоверчиво, двумя пальцами подцепил верхние прядки, под ними на такой же шерстяной подстилке покоился крест…
Было видно, как у Кузьмы медленно, будто не прихваченная засовом воротняя половинка, отвисала нижняя губа.
Мужики потянулись смотреть.
Квадратный, с одинаковыми концами крест был широколап и присадисто тяжел даже с виду. Из-под голубоватой дымки налета пробивался какой-то холодный глубинный свет никем не виданного металла, и, как от всякого давнего и непонятного предмета, веяло от него таинственной и суровой сокрытостью минувшего.
Его разглядывали с немой сосредоточенностью и так же молча и бережно передавали из рук в руки. Забегая каждому за спину, дедушко Селиван заглядывал из-за плеча, чтобы уже как бы чужими глазами взглянуть на давно не извлекавшуюся вещицу. Он и сам уже почти не верил этому своему обладанию и по-детски трепетал и удивлялся тому, что с ним когда-то было и вот теперь и ему, и всем открылось воочию.
– Орден, што ли?..– наконец с сомнением предположил Леха.
– Егорий, сыночки, Егорий! – обрадованно закивал дедушко Селиван, задрожав губами.
Глаза его набрякли, мутно заволоклись, и он поспешно шоркнул по щеке дрожливо-непослушными пальцами.
– Да-а…– Леха покачал крест на ладони.– Вот, стало быть, каков он… Слыхать слыхал, а видеть ни разу не доводилось.
– Да где ж ты ево увидишь… Нынче этим хвалиться нечего. Раза два уж предлагали: сдай, дескать. И деньги сулили. По весу, сколь потянет. Как за ложку али за серьгу. А я не признался: нету, говорю, и все тут. Давно уже нету. Еще в тридцать третьем, мол, на пшено обменял… Есть, есть и еще старики в Усвятах, которые припрятали. Да токмо не скажу я вам, не открою. Не надо вам знать про то. Теперь уж скоро помрем с этим… Велю с собой положить…
– Или царя обратно ждешь? – усмехнулся Кузьма.
– А меня уже про то спрашивали,– без обиды ответил дедушко Селиван.– Про такого сказать бы: под носом проросло, а в голове не посеяно… Вот, Кузька, тебе мой ответ: ты токмо народился, в колыске под себя сюкал, а я уже, милай ты мой, невесть где побывал. Мукден, может, слыхал? {17}
– Это чево такое? – Кузьма шатко приподнялся и, хватаясь за стену, перебрался на хозяйскую койку.
– А-а! Чево! То-то… Штоб ты знал, есть такой город в манжурской земле {18}. Дале-о-ко, браток, отседова. На краю бела света. Вот аж где! Ужли не слыхал про такой? Дед же твой, Никанор Артемьич, царство ему небесное, тоже тамотка побывал. Разве не сказывал?
– Может, и говорил чево,– дремотно-вяло отозвался с кровати Кузьма.– Уж и дед не помню когда помер.
– Вот, вишь, как оно…– Селиван растерянно замигал безволосыми веками.– Скоро на нас присохло. А уж и текло, текло там красной юшки. У яво, у японца, уже тади пулеметы были. А у наших одни трехлинейки. Ну-тко потягайся супротив пулемета. Ох и полегло там нашей головушки! Вороха несметные. Ну дак и песня есть про то.
Старик остановился лицом, согнал с него все ненужное, обыденное, оставив лишь скорбную суровость, и, опустив руки по швам, повел ломким, заклеклым голоском:
Белеют кресты – это герои спят,
Прошлого тени кружатся вновь,
О жертвах в бою твердят…
Но сил хватило на одну лишь эту запевку, и глаза его вновь заволоклись и повлажнели.
– Такая вот, ребята, песня. Язви тя, голосу не хватает… Я как услышу где, сразу и являются передо мной теи дальние места. И доси помнятся.
Он утерся тряпицей, в которой хранил свой «Георгий», и опять просиял добродушно и умиротворенно.
– А крест тебе за чево, батя? – спросил Леха Махотин.
– Энтот-то? Ну дак ево мне уже за германскую. За Карпаты {19}. Да и про теи места откудова вам знать, ежели не бывали. Тоже вот кампания была, Галицейская. Пожгли-попалили порохов. Да, соколики, все уходит, ничем не удержать. Прах-пепел заносит Вот и Егорий побрякушкой стал. Ехал с войны, думал, поношу, покрасуюсь, а приехал – ни разу и не надел. На всю жизнь эта на мне отметина, будто я лихоманец какой. Я б, может, сичас не таким лохматом был бы. Небось не ниже нашего Прохора… А то, говорят, больно за царя перестарался. А хрена мне царь! Я ево в трактире на потрете токмо и видал. Нешто я за царя «ура» кричал? Я ж за вас, сопатых, за все вот это нашенское старался.– Старик указал пальцем в окошко.– Как же было землю неприятелю уступать? Ворога токмо впусти, токмо попяться, он ни на что на твое не поглядит, перед самим алтарем штаны спустит… Вон опять на Россию идут чего, ироды, делают, ни старых, ни малых не разбирают.
При всеобщем раздумье дедушко Селиван принялся опять укладывать орден в жестянку, бережно укрыл его овечьими кудельками, притворил крышку и, обертывая прежней пожелтевшей и квелой бумагой, а потом и тряпицей, заговорил укоризненными бормотком:
– Приспел и ваш черед «ура» кричать. Теперича выкрикивайте свои ордена-медали.
Мужики молча переглянулись, словно бы оценивая, примеряя каждого к грядущему. Для старика были они сейчас как серые горшки перед обжигом: никому из них еще не дано было знать, кто выйдет из этого огня прокаленным до звона, а кто при первом же полыме треснет до самого донца.
8
Не умел дедушко Селиван долго тяготиться обидой и, видя, как присмирели от его слов новобранцы, уловив этот их перегляд, весело повернул разговор:
– Э-э, робятки, негоже наперед робеть! Поначалу оно завсегда: не сам гром стращает, а страховит неприятельский барабан. А уж коли загремит взаправду, то за громом и барабана не слыхать. Сколько кампаней перебывало – усвятцы во все хаживали и николь сраму домой не приносили. Вам-то уж не упомнить, а я еще старых дедов захватил, которые в Севастополе побывали и на турок сподабливались. Оно ить глядеть на нашего брата – вроде и никуда больше негожи, окромя как землю пластать. А пошли – дак, оказывается, иньше чего пластать горазды.
И опять, засмеявшись, крутанул крепко:
– Гибали мы дугу ветлову, согнем и вязову… А щас пока гуляйте! Давыдушка, улей, улей, попотчевай чем ни то.
И сам тоже выпивши на равных, посопев сморщенным носом, похватав воздуху, хлопнул Касьяна по плечу:
– Все мы тут не таковские, а уж кто середь нас природный воитель, дак это Касьянка. Не глядите, что помалкивает, попусту не кобенится.
– Ты уж сказанешь, Селиван Степаныч,– зарделся Касьян и непроизвольно подобрал под скамью галоши.– С чего выдумал-то?
– А с того, что знаю.
– Я дак из ружья птахи и то не стрелил…
– Это пустое, что не стрелил,– несогласно мотнул головой Селиван.
– Дак тади откуда быть-то мне?
– А вот быть, Касьянка, быть. Нареченье твое такое, браток. Указание к воинскому делу.
– Какое такое указание? – и вовсе смешался Касьян.
– А вот сичас, сичас я тебе все как есть раскрою…
Дедушко Селиван, и вовсе развеселясь, опять полез в свой шкафчик и, оживленно покхекивая, воротился к столу с толстой и тяжелой книгой, обтянутой порыжелой кожей.
– Сичас, сичас, голубь, про то почитаем. Про твое назначение.
При виде книги мужики подтянули поближе скамейки, с нетерпеливым интересом, как малые дети, изготовились слушать неслыханное. Всякая книжица, даже школьный букварь, вызывала к себе в Усвятах почтение, а эта, обряженная медными бляхами и застежками, ненашенских времен и мыслей, уже одним своим обликом заставила всех подобраться, а сбитый с толку Касьян даже пригладил волосы, как делал это всегда при встрече пришлого человека, перед неведомым.
В полной тишине дедушко Селиван с усилием разломил надвое книгу, опахнувшую лица сидевших слежалым погребным ветерком старины, и, отвалив несколько ветхокофейных страниц, нацелил палец в середину листа.
– Ага! Вот оно! – объявил он, обретя и сам подобающую благостность.
– А ну-ка…– заерзали мужики.
Отстранясь и подслеповато сощурясь, дедушко Селиван начал ощупью лепить слова по частям, и от этой их разъятости звучали они торжественно и значительно, будто произнесенные свыше:
– Наре… нареченный Касияном {20} да воз… возгордится именем своим… ибо несет оно в себе… освя… щение и благо… словение божие кы… подвигам бран… ным и славным…
Старик остановил палец и вопрошающе взглянул на Касьяна: усвоил ли тот сказанное?
– А исходит оно… из пределов гре… греческих… из царств… осиянных великими победами… где многия мужи почи… почитали за честь и обозначение пла… планиды называть себя и сынов своих Касиянами… ибо взято наречение сие от слова… касс… кас… сие… кассис… разумеющего шелом воина… воина великаго и досто… славнаго императора Александра Маке… донскаго… и всякий носящий имя сие суть есьм непобедимый и храбрый шле… мо… носец.
Дедушко Селиван отнял от книги палец и ликующе вознес его кверху:
– Уразумел? Шлемоносец! Во как толкуется имя твое! Выходит, сызмальству тебе это уготовано – шлем носить.
– Чего напишут-то…– растерянно усмехнулся Касьян.– Сызмальства я гусей с теленками пас. Да и теперь за лошадьми хожу.
– Теленков-то ты пас, а шелом тебя, стало быть, еще с той поры дожидался.
– Ну дак все правильно! – хохотнул Давыдко.– Пойдешь днями, наденут железну каску – вот тебе и шлемоносец! Все как есть сходится.
Мужики посмеялись такому простому резону.
– Погодите, погодите! – остановил их дедушко Селиван.– Каску на кого хошь можно напялить. И на козла, и на барана. Не в каске суть. Ты вот думал, что ты Касьян да и Касьян, ан ты вишь какой Касьян. Вон как об твоем имени сказано: «Ибо несет оно в себе освящение…– понял? – …и благословение к подвигам». Во как! Это не важно, что ты птахи не стрелил. Наука невелика, обучишься. Но ежели тебе уготовано, ты, и не стрелямши ни в ково, можешь такое сотворить, что и сами враги удивятся и воздадут хвалу и честь твоим подвигам, хотя и понесут от тебя урон и позор великий.
Касьян уже не перечил, а только сидел, нагнув голову, в усмешке терпеливо снося свалившееся на него стариковское празднословие.
– Вижу, парень, не веришь ты этому,– продолжал свое дедушко Селиван.– Дескать, пустое мелется. Ась? Тади давай зайдем с другого конца. Вот скажи, кто есть Прошка наш, Прохор Иваныч?
– Как кто? – пожал плечами Касьян.– Ну, председатель.
– Так, председатель. Верно. А мог ли он об этом знать, что будет председателем, когда вот так, вроде тебя, теленков мальчишкой пас?
– Дак откуда ж ему…
– Тоже правильно. Не мог он этого знать. Нарекли его мать с отцом Прохором, бегал по Усвятам этакий конопатенький ушастый пащенок, ничего не знавший о себе, тем паче наперед. Так?
– Ну так, ясное дело.
– А теперича давай заглянем в книгу…– Дедушко Селиван полистал, пришептывая: – Прохор… Прохор… отыщем Прохора… {21} Ага! Вот он! Ну-кось, как тут про него? – И снова перестроив голос на высокий лад, зачитал: – Смысл нареченья зело пригож… ибо разумеет собой… песно… песноводи… теля… во славу Господню. А составлено сие имя… как всякое зерно… из двух равно… равновеликих долей благозвучнаго грецкаго речения… в коем одна доля «хор» означает совместное песнопение… тогда как другая доля «про»… на оном наречии понимается как старший… А совместно сии доли… воссоединясь в оное имя… означают старшаго над хором, запевнаго человека… сиречь запевалу.
И опять дедушко Селиван поучительно воздел палец:
– Запевный человек? Ну дак ясно, Прошка наш во славу божию песен не поет, он партейный, книга-то не нонешняя, не теперь писанная. Но суть совпадает – запевала! Всей усвятской жизни голова!
– Н-да! – удивились мужики.– А гляди ты, верно ведь!
– А ну-ка, Селиван Степаныч,– заинтересовался Леха,– читани-кось, чего там про меня сказано?
– Дак и про тебя пошукаю. Сичас и про Лексея…
Дедушко Селиван снова потеребил страницы, поперекладывал их туда-сюда и, отыскав нужное место, сперва побубнил про себя, а потом уж дал короткое разъяснение:
– Про тебя, милок, тут такое сказано, што Алексей – это вроде как защитник {22}. Так вот и написано: заступник отечества, всех страждущих, слабых и малолетних, всех человеков и тварей божиих.
– Ишь ты! – Никола Зяблов восхищенно посмотрел на Махотина.– И Леха наш, оказывается, в большом звании. Гляди-кось: защитник отечества! Высо-о-окая, Лексей, у тебя должность!
Махотин остался доволен таким истолкованием.
– Дак теперь давай и про Зяблова,– засмеялся он.– Кто есть таков? А то вместе пьем-курим, а что за прыщ – незнамо.
– Вот и про Николу… А Никола у нас…– готовно провозгласил дедушко Селиван,– Никола, стало быть, так: победитель! {23} Вот как!
Мужики поворотились к Николе Зяблову, сидевшему босо и без рубахи.
– Ух ты, едрит тя в кадушку с обручами! Вот это дак Никола! Вот это дак чин!
– Что ж ты, Николка, в Усвятах-то ошиваешься? – пуще всех хохотал Давыдко.– Тебе бы в портупеях ходить, а ты доси в одной майке бегаешь.
– Ладно вам,– конфузливо осерчал Зяблов.– Шутейное это все. Для смеху писано.
– А может, и не шутейное. Вон про нашего Прохор Ваныча в самую точку. Как влито. Поди, старые люди чегой-то да кумекали, когда писали.
Прочитали и про Афоню-кузнеца {24}, и выходило по-писаному, что и Афоня не просто так, как ежели б какой лопух на огороде, а тоже назван куда с добром: не боящийся смерти! И уже как-то иначе поглядели мужики на обширные Афонины плечи, на вросшую в них сухожильными кореньями быковатую шею. Кто ж его знает, может, его и взаправду никакая поруха не возьмет…
– Не-е, братцы! Чтой-то в этой книжице есть! – блестя глазами, воскликнул Леха.– Видать, не с бухты-барахты писана. Дак и так рассудить: человек зачем-то да родится. Не токмо за сарай бегать. Небось потому и прозвище ему дается с понятием, чтоб, стало быть, направить его на что-то такое, окромя пустого счета дням…
Мужики один за другим потянулись к невиданной книге. Обтерев о штаны лопатистые ладони, глянцевевшие мозольно-сухой кожей, в застарелых, набитых землей трещинах, от которых не могли распрямляться полностью, а лишь складывались пальцами в присогнутые ковши, они бережно и неловко брали книгу обеими руками под кожаный испод, как принимали по вечерам, придя с работы, грудного младенца, не научившегося еще держать головы. И так же бережно, с почтительной предосторожностью, опасаясь учинить поруху, сделать что-нибудь не так, перекладывали ее алтарно пахнущие листы, вглядываясь в причудливо-кружевные заглавные буквицы, расцвеченные киноварью и озеленевшей позолотой. И даже пытались сами разобрать и постичь мудреные строки, но, пошевелив сосредоточенно и напряженно губами и произнеся раздумчиво-протяжное «н-да-а…», охранно передавали ее другому. Было диковинно оттого, что их имена, все эти Алексеи и Николы, Афони и Касьяны, такие привычные и обыденные, ближе и ловчее всего подходившие к усвятскому бытию – к окрестным полям и займищам, осенним дождям и распутью, нескончаемой работной череде и незатейливым радостям,– оказывается, имели и другой, доселе незнаемый смысл. И был в этом втором их смысле намек на иную судьбу, на иное предназначение, над чем хотя все и посмеялись, не веря, но про себя каждому сделалось неловко и скованно, как если бы на них наложили некую обязанность и негаданную докуку. Так бывало еще в детстве, когда матери, обрядив на праздник в новую рубаху, наказывали не мараться, блюсти себя в чистоте, и хотя на душе делалось радостно и приятно от этой обновы, но в то же время, бегая на народе, надо было все время помнить родительский наказ и часом не выпачкать рубаху. И теперь тоже мужики были негаданно озадачены этой обновой, иным значением своих расхожих имен, как будто все они были одеты в новые рубахи перед скорой дорогой и надо было там блюсти себя и не замараться.
– Ну дак а ты ж кто таков, дедко Селиван? – блестя глазами, поинтересовался Леха.– Интересно!
– Дак про себя я уже знаю, давно вычитал.
– А как же тебя?
– А про меня тут, робятки, нехорошо…
– Не-е, давай уж читай. Ежли про всех, то и про себя давай.
– Оно про меня хоть и нехорошо, а тож верно сказано,– легко засмеялся дедушко Селиван.– Леший я. Лесной мохнарь.
– Ох ты! Это как же так?
– А вот эдак – лешачий я Селиванка. В книге так истолковано, кабудто по-греческому, по-римскому ли «сельва» лес обозначает, дремотну чащобу. А Селиван – по-ихнему и есть, стало быть, лешак. Ну да я и согласен. Потому кто ж я есть иной, ежли жизня моя самая лешачья – брожу, блукаю, свово двора днями не знаю. Лешак я и есть козлоногий. Зеленомошник. Тоже и обо мне верно сказано. Значит, такова судьба.
– Дак что ж это получается? – подытожил Махотин.– Выходит, не один токмо Касьян, а и все мы тут шлемоносцы. Про кого ни зачитывали, всем быть под шлемом.
– Дак и я б заодно! – весело объявил дедушко Селиван.– Хучь я и леший, изгой непутевый, да на своей же земле. А чево? Учить меня строю не надобно, опеть же ружейному артикулу. Этова я и доси не забыл, могу хучь сичас показать. Правда, бежать швыдко не побегу, врать не стану. А остальное солдатское сполнять еще смогу, истинное слово!
Был подходящий шутейный момент снова выпить по маленькой, и Давыдко, унюшливый на такое, не упустил случая и тут же оделил всех из очередной сулейки.
– Ну, соколики,– Селиван поднял свою стопку, взмахнул ею сверху вниз, справа налево, окрестя застольную тайную вечерю.– За шеломы ваши! Чтоб стоять им крепким заслоном. Свята та сторона, где пупок резан! А ить было время, сынки, когда воинство, на брань идучи, брало с собой пуповинки. Как охранный, клятвенный знак. Ну да выпейте, выпейте, подоспела минутка.
Выпив под доброе слово, заговорили про всякое-разное, житейское, опять же про хлеб и сено, но Касьян, молчавший доселе, подал голос поперек общему разговору, спросил о том, что неотступно терзало его своей неизбежностью:
– А скажи, Селиван Степаныч… Все хочу спросить… Там ведь тово… убивать придется…
Дедушко Селиван перестал тискать деснами огуречное колечко, изумленно воскликнул:
– Вот те и на! Под шелом идет, а этова доси не знает. Да нешто там в бабки играются?
Касьян покраснел и опять пересунул под лавкой галошами.
– Да я тебя не про то хотел… Ты ж там бывал… Ну вот как… Самому доводилось ли? Чтоб саморучно?
Дедушко Селиван, силясь постичь суть невнятного вопроса, морщил лоб, сгонял с него складки к беззащитно-младенческому темени, подернутому редким ковыльным пушком, в то время как его бескровно-восковые пальцы машинально теребили хлебную корочку, и то, о чем спрашивал Касьян, никак не вязалось со всем его нынешним обликом: казалось, было нелепо спрашивать, мог ли дедушко Селиван когда-либо убить живого человека.
Но тот, взглянув ясно и безвинно, ответил без особого душевного усилия:
– Было, Касьянка, было… Было и саморучно. Там, братка, за себя Паленого не позовешь… Самому надо… Вот пойдете – всем доведется.
Мужики враз принялись сосать свои цигарки, окутывать себя дымом: когда в Усвятах кому-либо приспевала пора завалить кабана или, случалось, прикончить захворавшую скотину, почти все посылали за Акимом Паленым, обитавшим аж за четыре версты в Верхних Ставцах.
– Ну и как ты его? Человек ведь…
– Ясно дело, с руками-ногами. Ну да оно токмо сперва думается, что человек. А потом, как насмотришься всего, как покатится душа под гору, дак про то и не помнишь уже. И рук даже не вымоешь.
– Ужли не страшно?
– Правду сказать, то с почину токмо.
– И как же ты его? – теперь уже допытывался и Леха Махотин.– Самого первого?
– Эть, про чево завели! – не стерпел Никола Зяблов, но его тут же оборвали:
– Да погоди ты! Надо ж и про это знать. Не сено идешь косить. Дак как же, дедко, было то?
– Ну, как было…
И дедушко Селиван начал припоминать.
Оказывается, в японскую стрелять ему не довелось: числился он тогда по-плотницки, наводил мосты, строил укрытия, а больше ладил гробы для господ офицеров. Вместе с артелью изготовил он этих домовин великое множество, навидался всякого, но самому замараться о человека не пришлось. А в первый раз случилось это уже в четырнадцатом, в Карпатах.
– Ну как было… Определили нас на первую позицию. Под Самбором. Еще и немца живого никто не видел, токо-токо с эшелону. И вот утречком начал он по нас метать шарапнели. Ну, бабахает, ну, бабахает! Накидал в небо баранов, напятнал черным, и вот пошел он на нас. Одна цепь да другая. Пока бил шарапнелью, сидели мы по блиндажам да по печуркам, а тут высыпали к брустеру, изготовились, тянемся, глядим через глину, каков он из себя, немец-то. Враг-то враг, а любопытно. А они идут, идут молча, одни ихние офицеры что-то непонятное курлыкают. Идут не густо, аршин этак на десять друг от дружки. Шинелки мышастые, за спинами вьюки, иные очками посверкивают. Покидали мы недокуренные цигарки, припали к прикладам, правим стволы навстречу. Надо бы уж и палять, а то вот они, близко, саженей на триста подошли. А ротмистр наш Войцехович все не велит, все травку кусает: нехай, дескать, подступятся поближче. Да куда ж еще-то? Их небось рота, а нас вполовину мене. Но дело не в роте, а то сказать, что незнамо по какой причине напал на меня колотун. Пот с меня градом, глаза выедает, а я зубом на зуб не попаду. Я уж и к земле жмусь, чтоб остановиться, и руки мои онемели винтовку тискать, в плечо давить – ничево не помогает. И не новичок я был, чтоб так-то пужаться, японскую повидал, а вот затрясло меня всево, хуже лихоманки. Не то чтобы немца боязно, не-е: пока я в окопе, он мне ничево не сделает, да и не один я сижу – и пулемет с нами, а было мне страшно самого себя, подступавшей минуты: как же я по живому человеку палить-то буду? Издаля еще б ладно: попал, не попал, твоя ли пуля угодила али соседская – издаля не понять бы. А тут вот они – уж и пуговицы сосчитать можно. А командир все молчит, держит характер, не отдает команды – и вовсе казнит меня. И гляжу я, в самый раз на меня метит долгущий худобный немец. И вроде бы даже глядит в мое место. Шинелка на нем куцая, неладко так ремнем спеленутая, а голова маленькая, гусячья, и камилавка на оттопыренных ушах – большой вроде бы немец, а какой-то нестрашный. Кто там идет справа, кто слева – не вижу, не гляжу, а приковало меня токмо к одному этому немчину. Лицо бледное, губы зажал, поди, сам в испуге. Ну дак ясно дело, на окоп в рост итить как не бояться? И тут они побежали на нас. Войцехович выхватил леворвер, закричал «пли», харкнули встречь немцам винтовки, зататакал на краю наш пулемет. А я как окаменел, все не стреляю, тяну минуту, а минуты этой уж и ничево не осталось. Да упади ж ты, проклятущий, молю я ево, али отверни в сторону, не беги на меня. Вот же щас, щас по тебе вдарю! А тут уж кругом крик, пальба, гранаты фукают… Велики были впереди Карпатские горы, полнеба застили, а немец набежал – и того выше, загородил собой все поднебесье. Восстал он надо мной и замахнулся по мне прикладом. Господи Иисусе, видишь сам…– только и помолился, да и даванул на крючок, ударил в самые ево пуговицы… Открыл глаза, немца как не бывало, токмо камилавка ево в окопе моем под сапогами… Тут наши начали выскакивать наверх, зашумели «ура», а я хоть и полез вместе со всеми, а ничего не соображаю, кто тут и что. Бей меня, коли в эту пору – бесчувствен я, вот как все во мне запеклось. Нуте: вылез я на брустер, еще не встал даже, еще руками опираюсь, гляжу – а он вот он, навзничь лежит за окопной глиной. Без шапки, голова подломилася, припала ухом к погону. А глаза настежь, стылым оловом… Бегу потом, догоняю своих, а в голове бухает: мой это лежит, моя работа…– Дедушко Селиван пристально поглядел на свои руки и убрал их со стола.– Я дак три дня опосля ничего не мог исты. Все старался подальше от людей держаться. Али работать напрашивался, чтоб поумористей. Ну, а потом обтерпелся, потвердел духом, да и пошло, наладилось дело. Особливо когда сам раз да другой в атаку сходил. Самое главное, робятки, это поле перебежать, до ихних окопов добраться. В поле немец дюже жарко палит. А перебег – тут уж наш верх. В лютости, в рукопашной, ежли сам не свой, дак и убьешь – не почуется. Все одно, что в драке улица на улицу. Огрел ево, а куда угодил, чево раскроил – разглядывать некогда. Гадко токмо, когда штыком повыше брюха в грудную кость гвозданешь. Потом дергать приходится, сам не сымается. Это гадко.








