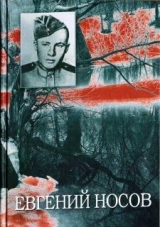
Текст книги "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…"
Автор книги: Евгений Носов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 35 страниц)
Петрован потянулся за бутылкой и, не спрашивая, долил доверху сперва Герасимову посудинку, потом и свою.
– Ну, братка, настал момент, давай еще по маленькой, по нашей фронтовой!
И неожиданно, жмуря глаза, продолженные лучиками височных морщин, пропел тоненько и приятно:
Лучше не-е-ету того цве-е-ету,
Когда яблоня цветет…
– Нет, парень,– не поддержал компанию Герасим,– боюсь, Евдокия заругает Она, вишь, то и дело из-за притолоки выглядает…
– А я загорожу,– нашелся Петрован и в самом деле, зазвенев медалями, развел перед Герасимом полы пиджака.
– Ну, тади ладно…– Герасим покорно приподнял рюмку и немного отпил – все так же сторожко, малыми глотками.
Молча попыряли вилками норовистые, неподатливые рыжики, после чего Петрован снова вернулся к своей досаде:
– Не-е, брат, как ни крути, а моя война вышла неудачная. Я даже эту самую, язви ее, Старую Руссу не видел. Одни только крыши да церквя. Да и то в биноколь. А так всё мелкие деревеньки, теперь уж и позабывал какие. Там ведь такая война: сегодня возьмут, а завтра, глядишь, опять отдадут Так и тягали эту резину. А она – то немца по заднему месту, то – нас по тому же. Самый крупный населенный пункт, куда удалось мне войти с боем и где впервые увидел убитых немцев – некая Кудельщина, под ней мы простояли неполную неделю. Ее я и считаю своим настоящим крещением. По правде признаться, я не столь с немцами воевал, как со снегом и морозом. Ох и нахлебался завирух, ох и нахлебался! И доси по спине мураши… Наш отдельный танковый батальон, где я был водителем тридцатьчетверки, прошел своим ходом от Москвы, от Люберец, до этой самой Старой Руссы. Да не по прямой, а все ковелюгами, не по асфальтику, а – черт знает по чем. Другой раз гонишь, гонишь впереди себя ком, да и зависнешь днищем. Гусеницами туда-сюда на весу болтаешь, а машина – ни с места. Это ж сколько сотен верст?..
А за броней – январь да февраль сорок второго, морозы – под тридцать, снега – как никогда. Не так мороз, как снег донимал. Забивал катки, нарушал обзорность, поедом ел горючку. Особенно доставалось головному танку. Он первым таранил замети, но первым и зависал на сугробах. То и дело набрасывали троса, стаскивали его со снеговых подушек. За сутки прогрызались едва на двадцать верст, а в иных местах и того меньше. Из семнадцати танков нашего и так не полного батальона восемь отстали с разными поломками. Да и то: днем по лесам прячемся, а выходим на дорогу только ночью. Ни боже мой посветить или пыхнуть папироской – такие строгости! Опять же: на дневку в населенных пунктах останавливаться нельзя, а только в лесных чащах, да и то без костров, без варева. Пища – сухари, мерзлая тушенка – ножик не берет,– а то и просто брикеты пшенки или ячки. Спали на броне под регот моторов. Мотор заглохнет – давай подскакивай, пляши чечетку в мерзлых валенках, а то хана, ноги отморозишь, были у нас такие случаи. Валенки-то вечно сырые: не столько едем, сколь толкаем да копаем. Оно хоть и мороз, а обувка все одно мокреет, изнутри парится. За всю дорогу ни разу не умывались. Какое умыванье на морозе? Заводская смазка на новых танках, черные выхлопы, особенно при буксовке,– все это за время пути перешло на наши рожи, так что перестали узнавать друг друга. Ты слышишь меня, Герасим? Лежишь, глаза притворены…
– Слышу,– отозвался тот.
– Не худо? А то я разговорился тут…
– Ничево…
– Ага, ага… Доскажу, доскажу… Так вот, два месяца шли мы до передовой. Уж лучше б сразу: пан или пропал. А то нудой, неопределенностью изошли. Добрались до Калинина, а там – закавыка. Какая-то путаница с назначением. Говорили, будто вместо Старой Руссы – под Селижарово. А это – совсем на другой фронт. А пока выясняли – нас в лес на полторы недели – опять без дневного шевеления, без костров, на полной сухомятке и спать на броне, на лапнике под брезентом. Потом выяснилось, что надо куда-то под Демянск, душить немцев в котле. Пока ехали – новая переадресовка – под Старую Руссу. И там: только раз-другой пальнем – вот тебе отбой, сниматься, получай новое назначение… Но зато я прошел такую школу вождения, так набуксовался, навытаскивался, что и по сей день на тракторах первые места в районе брал. А могу и на танках…
Ну вот… Наконец прибыли мы на свое последнее место дислокации, как раз под этой Кудельщиной. В конце концов после стольких мытарств надо было пожалеть технику – что-то подтянуть, подладить, подрегулировать. Сами уж ладно, как-нибудь перемоглись бы, уже весна скоро: отогреемся, пострижемся, может в баньку сходим…
Стали мы на лесной поляне, расчистили снег, танки лапником закидали, приступили к досмотру. Поснимали бронелисты, обнажили моторы, иные взялись за фрикционы, муфты сцепления или разомкнули гусеницы, чтобы заменить поврежденные траки. Мы свой мотор подцепили таль-балкой, отвезли под ближайшую крышу, где есть тепло: надо было кое-что разобрать, подрегулировать, а то что-то тоже стал барахлить. Он-то ведь танку не родной, с самолета поставлен, М-17. В воздухе он уже отлетал свои две тысячи часов, оттуда его списали, сделали капремонт и передали на танковый завод для дальнейшего использованья. Так что получалось: какие тридцатьчетверки выходили с дизелями, а некоторые, вроде нашего – с летными сердцами. В общем, тянул он неплохо и заводился с одного тыка, но дюжа оборотистый, чуткий к газку, по старой летной привычке все норовил с места в карьер. Только спать на нем хлопотно: не любит малых оборотов, частенько глох… Так что мы не столько спали на жалюзях, сколь отбивали чечета…
Да… Только так вот изготовили домкраты, кувалды, полиспасты, автогенные баллоны, выставили бронелисты и все такое прочее, как вот тебе – сам командующий фронтом, Павел Ляксандрыч Курочкин – в белой дубленке с пуховыми отворотами, бурки – из белого фетра, кожей обшитые, а на голове смушковая папаха топориком – так и отливает серебром, так и играет чешуйчатыми кучерявками, прямо в маршала просится. С Пал Ляксандрычем – всякие генералы, порученцы и адъютанты, тоже все в белом – с неба никакой «фока» не узрит такой маскировки.
Построили нас тут же меж раздетых танков, а мы все – небритые, чумазые, осунулись от недосыпа – никакой бравости. Многие кашляли застарело, а которые даже потеряли голоса и слова как есть вышепетывали. Но Павел Ляксандрыч и таким рад: какие ни есть, а все ж танкисты. А их-то на забытом Северо-Западе завсегда не хватало. Горячо, отечески поздравил он нас с прибытием на передовую, скоро, дескать, на этом участке можно будет ожидать хороших перемен и наши войска наконец-то победно войдут в Старую Руссу. В ответ мы кое-как просипели окутанное паром промерзлое «ура», на которое командующий сочувственно поморщился, но тут же снова ободрился и объявил, что, мол, в знак его личной благодарности в полуверсте отсюдова, в деревеньке Ковырзино, для нас будут истоплены бани с березовыми вениками и прямо в парилки подадут по фронтовой чарке с куском шпика на сухарике. Так что милости просим, в Ковырзино уже топятся сразу несколько бань. «Только не все сразу,– посоветовал командующий,– а поэкипажно, штоб был полный порядок. Пока одни моются, другие пусть работают Дело затягивать нельзя – на войне каждый день дорог… Всем ясно, товарищи?»
В ответ мы еще раз просипели «ура» и подбросили в небо свои просолидоленные шлемы, похожие на дохлых кошек.
Ну, что банька и на самом деле состоялась – слово Павла Ляксандрыча оказалось железным. Нашлось и свежее исподнее белье, которое привезли прямо на ремонтную поляну и раздали поштучно вместе с плоско слежалыми березовыми вениками, небось доставленными с генеральских каптерок.
Приспела и наша очередь, двинулись мы друг за дружкой по глубокой свежей тропе в это самое Ковырзино, а там, на околице у незамерзающего падуна, обещанные бани уже дымы развели. Дымы крученые, выше окрестных берез, бани уже по второму разу топились: прежние клиенты горячую воду начисто повыхлестывали – этак, сердечные, изголодались по теплу! И по стопарю тоже было – все честь по чести, как обещал комфронта. Ну, само собой, стограммового приветствия оказалось маловато. Братва из соседней баньки отрядила молодца с двумя парами нижнего в деревню, и вот вскорости слышим – рвут крышу оттаявшие голоса:
Броня крепка, и танки наши быстры…
В те времена блажили прилипшей на всю жизнь песней, под которую тогда проходила вся призывная служба в танковых училищах. Под нее рубали строевым, завтракали – обедали – ужинали, ложились спать, и ребятки, еще не нюхавшие пороху, верили в нее, как в «Отче наш» {91}.
– У нас, в пехоте, «Белоруссию» орали…– слабым голосом поделился Герасим.
– Ага, ага…– охотно закивал Петрован.– Ну, конешно, нас сразу и задело такое пение: а что, переглянулись мы, у нашей тридцатьчетверки, боевой номер двести шесть, под командованием кубаря Ивана Каткова, уже горевшего под Смоленском, броня хуже, что ли? И наш экипаж, зады и спины в березовых листьях, босиком через сугробы ринулся пособлять хорошей, правильной песне, которая враз сделалась вдвое раскидистей:
В строю стоят советские танки-и-сты…
Опосля и мы сбегали на деревню со своим только что полученным вещевым довольствием… В третьей бане мылись и стегались тоже не лыком шитые – те себе «Катюшу» хором врезали… {92} Тут в самый раз заглянул батальонный политрук Кукареко, тоже нагой и в листьях, прикрывает от бойцов причинное место, а сам пробует давить на тормоза: дескать, полегче, товарищи, чтоб не зашкаливало, а то машины ждут ремонту… А ребята ему: «Все будет, как в часиках, товарищ старший лейтенант Завяжи нам глаза, дак мы и вслепую все сведем и составим».
И пошли экипажники один за другим вылетать из дверей и заныривать в чистейшие, первозданные сугробы: «И-эх… Танки наши быстры…»
Эдак обрадели мы от пару и жару, что и не узрели, как меж тучек промелькнул ихний «фока» – раз да другой – сперва над деревней, а потом и над леском, где мы раскулачили свои танки. После об этом нам местный парнишка рассказывал, уже приученный караулить небо.
Ушлый «фока», должно, все до тонкостей разглядел и раскумекал. Дымы над банями – это не иначе как праздник в деревне. Однако по свежей тропе, протоптанной из лесу к баням, понял «фока», что это вовсе не русский праздник с куличами и самоварами, а обыкновенная солдатская помывка. Вон и сами солдаты забегали по тропе с белыми подштанниками под мышками. Тут «фока» и сообразил, что ежели на одном конце тропы – бани, то на другом должна быть воинская часть. Оставалось только разузнать – какая? И пилот еще раз отклонил рукоятку штурвала и залег в плавный вираж над лесом. «Ага, вон в чем дело,– догадался он,– лесная поляна вся в гусеничных следах, и еловые ветки почему-то свалены в кучи. Русский Новый год давно прошел. А кучи-то недавние: на концах – свежие порубки. Тут и гадать нечего, какие игрушки под ветками спрятаны. А еще недавно три легковушки из этого леса выехали…» Кто же по передовой на шик-машинах катается? И глупой немецкой козе понятно – генералы (по-русски комбриги, комдивы)! Пилот даже подпрыгнул на радостях в узкой гробовой кабине своего «фоккера» и тут же надавил на пупку радиосвязи. Так, небось, и было,– заключил Петрован.– А то б откуда было взяться сразу двум тройкам восемьдесят седьмых «юнкеров»? Один из них откололся и сыпанул по баням, а остальные шершнями набросились на ельник.
Крайнюю баню раскатало по бревнышкам, даже калильные камни размело, как горох. Правда, та баня была пуста, ее топили для Кукареки, но он вышел по своим делам, а потому никого не ушибло, не зацепило, только галифе повесило на березу. Но по черным дымам было видно, что в лесу «юнкера» наделали тарараму. Бежали мы туда кто в чем – в не своих бушлатах, в перепутанных валенках, иные недобритые, с мылом на висках… Вот тебе и «броня крепка»! Снятые бронелисты позакидало аж на болото, в двух машинах горели раскрытые моторы. Хорошо, что мы свой бэ-семнадцатый на деревню свезли, а то неизвестно, как бы еще обошлось: кругом дерева горели, роняли огненную хвою, тлеющие ветки…
Людей тоже потеряли: двух ремонтников – уже помытых, набаненных – наповал, а третьему – ногу по самое колено…
А комфронта перед строем говорил: «Днями, помывшись, будем брать Руссу…»
…На дворе раздался заполошный крик кочета: видать, Евдоха, дождавшись-таки возвращения блудного петуха, пустилась за ним по дворовым заулкам – победную лапшу готовить. «Што ты? Што ты? – высокоголосо возмущался петух.– Я ничево такова! Ничево такова!..»
Петрован, оборвав рассказ, настороженно вертел головой, водил ею за криком, потом привстал с табуретки:
– Пойду скажу, чтоб не ловила…Я к тебе на минутку а она вон на весь аршин…
– Девятое мая,– напомнил Герасим.– Рази не аршин? Прожитое мерять…
– Я все ж выйду, скажу…– окончательно поднялся Петрован.
Когда он появился на крыльце, Евдоха уже стояла возле поленничной плахи с петухом под мышкой и капустным секачом в руке. Петух в крупно связанной серой одежке, с долгими желтыми ногами и бордовым зубчатым гребнем, упавшим на правую бровь, немигающе вызрился на Петрована большим округлым зраком цвета кетовой икры и, казалось, ждал от него последнего слова.
– На-кось ты,– Евдоха поддала петуха бедром.– Мужицкое это дело. А то запыхалась, загонял он меня, скаженный, аж руки трясутся…
– Полно тебе! – вскинул обе руки Петрован, не сходя с крыльца, боясь, что ежели сойдет долу, то настырная Евдоха уговорит сечь петуху голову.– Ничего не надо! Никакой лапши! Я заскочил только показать Герасиму медальку. Должны бы дать ему, а вот, вишь, выдали мне. Ошибка вышла… Так что брось, брось, отпусти петуха.
– Дак ить праздник! Ваш, ветеранский! – продолжала тяжко дышать Евдоха.– Положено. Рази я б за ним зазря бегала б, сердце не дает ходу… По радиву, небось, одни марши…
– Оно верно,– согласно кивнул Петрован и оглядел сплошь синее небо.– Ноне, поди, на Красной площади парад был. Войска в золотых поясах, музыка в тыщу труб… Праздник! Но ты, Евдокия, погляди только: петух ить сам тоже праздник. Душа ликует на него глядеть. Ты только посмотри, какая красота! Это как же природа придумала такое?..
Евдоха с сомнением покосилась на кочета: верно ли красавец?
– А стать-то какая! Как держится, как глядит! Прямо маршал. Вылитый Георгий Константиныч! А ты его секачом хочешь… Какой же после того праздник? Да никакая лапша в рот не полезет…
– А подь ты!..– отшвырнула секач Евдоха.– Хотела, как лучше…
Она отпустила кочета, и тот, ступив на землю, не побежал стремглав, а, встряхнув свой строгий боевой мундир и как бы осуждающе покосившись на широкую лёзгу капустного рубила, направился к пряслам твердой размеренной поступью.
– Все! Отговорил! – возвратился довольный Петрован.– Какая к ляду лапша? И так закуску ставить некуда. Давай, служивый, под яишанку, а то, поди, вовсе остыла.
– Не-е, друг мой. Я – баста. Хватит,– отрицательно повел носом Герасим.– Пришел мой предел.
– Нескладно как-то получается…– поскреб за ухом Петрован.
– То-то же: хвороба придет, дак ноги сведет, а руки заедин свяжет… Весь тебе и склад…
– А ежли короткими перебежками? По чуть-чуть и опять за кочку?
– Нет, братка, ты беги один, ежели охота, а я с тобой не побежчик…
– Один – и я ни с места,– погрустнел Петрован и отставил от себя рюмку.– Одному – совестно как-то. Будто середь бела дня крадешь. А с другом – завсегда пожалуйста. И то, чтоб не молчаком. А, Герась? Слышь? Ну, хоть сколько осилишь…
– Эт какой! – заскрипел койкой Герасим.– Взаправду – «броня крепка»… Ему так, а он тебе – этак.
– Дак за Победу же! – Петрован сызнова приподнял свою стопку.– Святое дело! Глядишь, оно и полегчает. Вот в районе мужики говорили, будто нынче на небе новая звезда должна объявиться. Этой вот ночью, которая придет. Из трех мест будет видать: с Невыреки, с поля Куликова, а еще – с Волги… с южных ее мест… Ты там тоже бывал… И получается святая троица: Александр Невской, Дмитрий Донской и… Георгий Жуков… Больше некому с Волги быть… А ты противишься, не хочешь…
– Тади давай…– опять заскрипел, привставая, Герасим.– Токмо я палец обмакну да пососу… Небось там засчитается… Мое причастие…
Так и сделали: Герасим, немощно изловчась, омочил заскорузлый мизинец в своей долгой рюмке и, высунув сивый обложенный язык, подождал так раззявленно, пока с конца пальца сронится золотистая капля с острым лучиком нисходившего дня, тогда как Петрован, будто и взаправду под ракетными всполохами, поспешно, не пригибаясь, единым махом осушил свой припас.
– Как гвоздь заколотил! – похвалил он себя и с бодрецой испробовал голос, протянул речитативом: «Хороша ты, степ,– степ раздольная, степ стрелецкая, ой да молодецка-а-йя!» А то еще была «кубанская» – четыре двенадцать стоила. Тоже хорошая, но эта, кажись, получше.
Уважительно приподняв почти порожнюю посудинку, Петрован сощурился на яркую картинку с бравым казаком в папахе, уронившей красное обвершье на его правое плечо, и спросил как бы у стрелецкого казака:
– Дак чего? Будешь ли про мою войну слушать? Али утомил я тебя совсем?
– Да говори че-нибудь…– отозвался за казака Герасим.– Говори, а я поотдыхаю…
– Ну, тогда доскажу…– Петрован уважительно поставил бутылку на место.– Мой сказ недолог. Это ежли б ты про свою войну порассказывал, как аж до самого Гитлера дошел, то, поди, и в неделю не управился б… А я што: трах-бабах – и в дамках. Ну, стало быть, устроил нам немец лесную баню. Прибегаем, а ельник вокруг поляны горит, аж стволы ахают, серый хвойный пепел дыхание застит, сама поляна парной землей закидана… Давай на уцелевших танках ближние дерева валять, подальше оттаскивать. Нашу безмоторную машину да еще которую без ленивца на тросах тоже в затишок оттащили. А те три, что уже горели, пытались снегом закидать, да куда там… Потом всю ночь бронелисты искали да на полураздетые танки прилаживали. А ведь нам завтра с рассветом – в наступление, в разведку боем! Сам командующий, когда смотрел батальон, вручил такой приказ командиру боевой группы, к которой мы были придадены. Курочкин отбыл в полной уверенности, что танкисты после баньки и стограммошничка этак завтра навалятся на неждавшего врага, а оно вишь как получилось: восемь единиц, которые в дороге поломались, так и не дошли до нашей передовой. Дохлое дело – на ходу ломаться: запчасти в лесу не валяются, на деревьях не растут. Каждую бубочку добыть надо, похлопотать, пообивать пороги помпотехов. Да и кто этак вот сразу даст тебе – чужому, ничейному экипажу? А ежели и починят, то больше не отпустят, себе заберут. Потому как танки всем позарез нужны. Так что этих восьмерых ждать было нечего, тем паче – наступало распутье, когда по тверским заволочьям {93} не то что тридцатитонный танк, а никакая собака не проскочит. А из тех девяти штук, которые добрались-таки до места, пятеро втемеже и вышли из строя: двести вторая и двести сёмая выгорели дотла, у двести пятой – своротило башню, а у десятки Ежикова порвало гусеницу, срубило правый ленивец. Наша двести шестая, на ту пору безмоторная, тоже оказалась не на ходу. Но командир боевой группы не стал вычеркивать нас из списка живых, а велел отбуксировать на исходную позицию для огневой поддержки разведотряда. Хотя какая к ляду поддержка – у нас в танке оказалось всего шесть снарядов. Обещали доэкипировать по прибытии, да с боепитанием тоже вышел затык.
Наконец-то хмуро забрезжило. Вокруг – серая тишина. На исходном рубеже за стылой броней, хуже, чем до бань, чумазые, ни крохи не спавшие экипажи. Без всякой артподготовки, без единого выстрела, по одной отмашке шапкой, на малых оборотах, втихую выкатились тридцатьчетверки с пехотой по-за башнями. Пошли, пошли помаленьку. Танки рябые, плохо видные, их еще в лесу припорошило снежной осыпью. Автоматчики тоже заиндевелые, закиданные гусеничными выбросами. А деревню Кудельщину, куда выдвигалась бронепехотная группа, ту и вовсе не видать за утренней кунжой. Самая левая машина, Лехи Гомелькова, шла по дороге, ей было полегче, и она дальше всех ушла вперед. Остальные три направились полем. И вот уже послышались сердитые взрыки моторов. Это означало, что снег глубок, и на отдельных участках приходилось лбами таранить сугробины. Оно, конешно, не хотелось, чтоб так оборотились движки, надо бы потише, но пока все обходилось, немец, кажись, ничего не чуял, и та сторона оставалась нема и глуха. Мы выглядывали из своего запрятанного танка и обмирали от ожидания: что-то будет, как-то будет…
А было вот как… Ты не спишь, Герасим?
– Не-к…
– А сталось, говорю, вот как… Пока танки барахтались на этих двух километрах – и вовсе рассвело. И увидели мы, как на дороге что-то сверкнуло и там, где была двести одиннадцатая, подняло облако снега. Когда снег опал, машина оказалась развернутой поперек дороги и никуда не двигалась. Должно, на мощную мину наскочила. Тем же моментом над деревней взнялась малиновая ракета, и по всей полосе деревенской застройки завспыхивали выстрелы, а по снежной целине зачиркали пулеметные и пушечные трассы…
Наш радист Гомельков завертелся на своем сиденье, принялся дергать командира за штанину: дескать, чево зря сидим, давай и мы пальнем, наших поддержим. Но Катков, смердя на весь танк цигаркой, только отпихнул Лехину голову в замусленном шлеме, мол, сиди-помалкивай. А и верно: куда палить-то? Ни хрена ведь не понять, где чего… Просто по деревне – для тарараму? Да снарядов жалко. Их у нас всего-то шесть штучек. Может, еще взаправду понадобятся…
Но в тот раз так и не понадобились снаряды-то… Катков не успел докурить цигарку, как двести первая занялась огнем. Тут же соседская с ней двести тринадцатая черный дым выбросила, и тот пошел виться клубами, забирать в высоту. Крайняя, правая «тридцатьчетверка», не помню ее номера, начала было сдавать назад, но сама же задом нагребла чуть ли не с овин снега, загородила себе отступление. Давай делать боковые развороты, туда-сюда вертеться, дурья башка. Тут левым бортом и словила боковое попадание. Должно, по самым бакам. Потому как разом полыхнуло, аж снег багрово окрасился… Ну а десантники… А что десантники? Тех, как воробьев ветром,– ни одного при танках не осталось. А куда девались – леший их знает! Небось по сугробам залегли. В таких-то снегах разве их увидишь?..
Сдернув кепарики, пригнувшись и вобрав головенки в кузнечиковые плечики, будто в деревенском кинозале, где уже начался показ картины, неслышно пробрались к дверям Герасимовой каморы и присели на пол у притолок те самые пацанята – Колюнок с Олежкой… Они уже знали по опыту что ежли Петрован возвращался из района с бубликами через плечо, то непременно начнет вспоминать про свою жизнь. А нынче еще и медаль получил – должно быть, вовсе занятно. А то, что к началу они припозднились маленько, так это все тетка Евдокия не пускала, жадина. Растопырилась на крыльце: нет и нет! Дескать, Герасим хворый, неча докучать. Но вот уговорили, уканючили – пустила, но чтоб ни-ни…
– А-а! Братики-кондратики пожаловали! – обернулся Петрован.– Давние мои слухачи! И уже в цыпках! Аккурат приспел час про главную мою баталию поведать. Ну, слушайте, мои хорошие, слушайте. Вот вам бублики для веселья. Сидите да погрызывайте… Ну, стало быть, через пару дней наконец-то поладили мы со своим мотором, поставили его на место. Я даванул стартер – мотор рявкнул, будто оголодал, хватанул с полутыка! Заглушил, а потом снова даванул, а он – опять враз искру хапнул. А в нем – более шестисот коней! Ого-го! Зверюка какая! Для интересу пнул лбом матерую елку, та брык вверх кореньями! Сосна пополам изломилась бы, а елка завсегда с корнем выворачивается, будто на тебя медведь, задравши лапы, восстал. Правда, не всякую ель опрокинуть можно, но по мотору чую, что наш-то всякую завалит! С тяжелого бомбардировщика взят, с тэ-бэ-первого. Вон какой нахрапистый!
Вот тебе политрук Кукареко – мрачный, глядит под ноги, на серые катанки. Должно, переживал после той неудачной атаки. Дак и запереживаешь: на тот день никакого батальона уже не было. В наличии одна наша машина осталась. Только-только на собственный ход встала. Да еще «десятка» в кустах пряталась, ждала: с подбитой снимут ленивец, а на нее поставят… Остальные, еще «живые» борты, числились в отставших. Но машины сгорели – ладно: не зная ничего, с ходу на рожон сунулись. Главное – ребята не вернулись. Из четырех экипажей, которые тогда на Кудельщину пошли, а это, считай, шестнадцать человек без десантников, уцелели только трое. Остальные – все истекли кровью в железных коробах, заживо погорели. Их еще и не хоронили, так в горелых танках и остались. Как их оттуда возьмешь? Немец пристрелялся, пикнуть не дает. Теперь уж заберут, когда отобьют Кудельщину.
Кукареко оглядел поваленную елку да как заорет, как заматерится: «А ну прекратить мне эти штучки – елки на передовой валять!» – «Да мы мотор после ремонта малость попробовали…» – объяснился я как механик, ответственный за ходовые механизмы. «Вот я т-те попробую, мать-перемать! В штрафную захотел? С банями катавасию устроили, дак мало им, они еще и у немца под носом дерева давай валять!» – «Да мы всево-то одну елку…» – «А немцу и одной елки достаточно. Он на нас во все бинокли глядит. Вот возьмет, понимаешь, и накидает „бураков“…»
Бураками у нас метательные мины назывались: хвост у них на обрубленную ботву похож: вылитый бурак!
А политрук все пинал елку валенком: «Понимать же надо: шарахнет квадратно по тому месту, где ваша елка, падамши, снег взбучила, да и угодит по танку. Вот пока я тут с вами канителюсь, он небось уже наводит свои минометы. А мина опаснее снаряда, она, подлая, сверху падает. Может аккурат в моторную часть угодить, в самое уязвимое место. А нам ваш танк целым и невредимым позарез нужен: завтра сызнова пойдем на Кудельщину…»
Лешка Гомельков возьми и хихикни: дескать, один, что ли? Кукареко этак строго посмотрел на Леху, должно, ему не понравилась эта Лехина подковырка, и сам спросил Гомелькова:
– Что значит – один? Тут что – сплошные дураки командуют? За такие слова, понимаешь… Танковый экипаж один, это верно, но с вами пойдет десантный батальон лыжников, артналет сделаем, катюша подыграет… А еще двое аэросаней с крупнокалиберными пулеметами. Так что давайте, и чтоб к завтрашнему утру машина была как часы. И чтоб Кудельщину взять без разговоров!
А Леха ему:
– Дак у нас шесть штук снарядов только…
– У двести десятой возьмете. Она все равно без ленивца никуда не пойдет.– И позвал командира танка: – Катков! К шестнадцати ноль-ноль в штаб группы на уточнение операции.
…В прихожей раздались женские голоса – шумливо, звончато, перескакивая один через другой, как на базаре. Это пришла Петрованова Нюша и сразу, с порога вступила с хозяйкой в словесный коловорот, из коего можно было различить разве что отдельные слова и понятия: «Вот околотень! Ну, бродень!» {94} – «Да тута, тута…» – «Двое ден, как дома нету».– «Ну, будя тебе… Не под забором ляжит».– «Ищо чево – под забором…» – «Ой, гляжу, на тебе кохта новая? Гдесь таку отхватила?» – «Кой – новая! Понюхай, нахталином разит».– «А как седни куплена!» – «На какие шиши? Пенсию третий месяц не кажут».– «Да ты проходь в горницу-то, проходь, не разбувайся: в мае грязи не бывает».– «Да я на секунд один, своим глазом глянуть, живой ли?» – «Живой, живой!» – «Не легшает?» – «Ой, девка, уже и не ходит, видать, к тому все идет. Но седни – тьфу, тьфу – вродя ничево, тамотка балакают День Победы справляют».– «Ну, я своему насправляю – мимо дома пробегать!» – «А чево это у тебя под кохтою-то?» – «Да тут… Вот ждала, думала, придет, а он, вишь, по гостям…»
Нюша, сопровождаемая Евдохой, заглянув в камору, продолжила начатое еще в прихожей:
– Ага-а! Вот ты где, голубок! На чужих хлебах устроился! А я, дура, в окна выглядаю: идет – не идет? Вот уж сонце к земи пошло, а ево все нету и нету. Думаю, электричка запаздывает… А он туточки… Медалью похваляется…
Петрован, сбитый со своей главной мысли, ерзал на табурете, воздевал руки, пытаясь отыскать прореху в потоке Нюшиных попреков, но только виновато косноязычил:
– Дак а мы чего? Мы – ничего… Герасим дак и вовсе…
А Нюша как из желоба:
– Глядела-глядела, да и осенило: не иначе как у Герасима, нынче один он из ветеранцев остался да мой ишо. Дай, думаю, забегу, проверю, а то душа сронилась. Времена-то какие: кругом одно охайство. Да ежли ишо сам выпимши…
– Да ничего такого…– упорствовал Петрован.
– Как это ничево? А вон, вижу, бублики на веревке… Твои?..
– Нолики? Ну, мои… Дак это я ребяткам.
– И глаза не на месте, веки не держатся. А ну, глянь на меня, глянь, глянь прямо!
– Дак за какие ляды? Всего-то и дала двадцатку… Кабы б к медали да по стопарику – солдатское дело, а то даже на музыке не сыграли. Иные потом сами складывались – день-то какой! Победа! Но я отошел: мне на электричку надо было. Так, на вокзале кружку пива по-быстрому – и домой! Вот у Герасима початая была – всего нам и веселья.
– Да я не за то…– Нюша наконец высвободила из-под кофты глиняную миску и, на весу освобождая ее от рушника, поставила на свободную табуретку. Миска доверху полнилась румяными шаньгами, еще веявшими теплом и сметанным духом подового печева, томленой картошки и жареного лука.– Я ж их под подушку и кожух сверху… Ну, давайте, пока тепленькие. Ребятки, Колюшка, Олежка, вы тоже берите, берите…
– Ну, как налетела, сполоху наделала! – мотнул головой Петрован, когда Нюша наконец ушла, наказав съесть шаньги, пока теплятся, и не сидеть до звезд.– Перебила весь наш порядок. На чем-то я прервался, не вспомню…
– Как собрались итить на Кудельщину…– подсказал Олежек.
– А-а! Во-во! – воспрянул Петрован.– Собрались, значит, ждем момента. И вот, как сейчас помню, в шесть ноль-ноль утра, по самой ранней серости, еще немец не пивал кофею, заговорила наша матушка-артиллерия. Из-за леса, с закрытых позиций враз ударило несколько батарей. В сумеречном небе заквохтали первые гаубичные снаряды и объявились беглыми вспышками по всему закрайку деревни, где у него была нарыта оборона: бах-бабах, бах-бабах! Будто баба половик выколачивает. Тут же мимо нашей тридцатьчетверки, грюкая лыжными палками, пошли десантники в белых халатах – видны только вещмешки да карабины.
Пришло время и нам выступать, пока артиллерия наш мотор заглушает. Но мы не пошли на рожон открытым полем, следом за лыжниками, которых было предписано поддерживать… помчались краем леса влево, вроде как прочь от боевых порядков. В том месте ельник пересекала не шибко великая речушка и убегала к левой околице Кудельщины. Мы с командиром Катковым еще вчера наведались к ее берегам. Речушка бурливо плескалась по промытому камешнику и этой своей прытью не давала заметать себя снегом и схватывать льдом. Вот тогда-то мы и решили: не переться по открытым полевым заснегам и сугробам, а прокрасться к деревне по речному руслу. Было нам на руку и то, что берега речушки застили нас ольхами, раскидистыми ивами, путаным черемушником и всякой поречной всячиной. Мы, конечно, рисковали: могли залететь в опасный омут или сесть днищем на лобастый валун, и тогда, считай, хана – за порчу военной техники и бегство с поля боя. А мы и на самом деле очутились далеко от того поля, куда ушла наша белая пехота. Там уже гремело вовсю: в полумраке рассвета схлестывались, пересекались ихние и наши огненные трассы, вытягивали змеиные шеи осветительные ракеты. А у нас тут – дремотная глухомань, сцепившиеся над головой заснеженные деревья да бег черной воды по извилистому каменному руслу, которое порой так закручивалось, что танк повертывался к передовой своим задом. Мы пробирались с открытыми люками: я себе распахнул, командир – себе. Башню развернули пушкой назад, чтобы не цеплять ею встречные сучья. Встречались и настоящие туннели из веток и снега, куда в полной темноте заныривать было даже страшновато. Сверху рушились пласты слежалого снега, разбивались о броню, снежной кашей забивало люки. Но на снежную кутерьму мы не обращали внимания: снег не грозил ни поломкой, ни ушибами. Опаснее было напороться на матерую дровину. Катков то и дело втягивал голову в люк – уклонялся от хлеставших по башне веток. Иногда такие попадались дурики, что, чуть зазевайся, снесли бы голову, как кочан капусты с кочерыжки. В таких случаях Катков постукивал ручкой нагана по башенному железу, дескать, не газуй, полегче, потише… Но стучи не стучи, а газовать приходилось, куда денешься: на крутых извивах реки танк залетал в бочаг, опасно кренился на бок, и тогда в бортовых ящиках гремели, пересыпались гаечные ключи и отвертки, а мы с пулеметчиком Лехой задирали валенки от набегавшей в машину воды. Но все обходилось без чепэ: речушка в здешних местах еще не набрала глубины, она появится пониже, и только пугала своими суводинками и портомоями, в которых и впрямь деревенские женщины прежде полоскали ребячьи порты. Но все-таки приходилось натужно выскребаться железом гусениц из заиленных омутов, благо что немец, отвлеченный боем, не слыхал моторного рыка. Но и мотор – молодец: ни разу не подвел – не чихнул, не поперхнулся, а только гневно взвывал и расшвыривал голыши.








