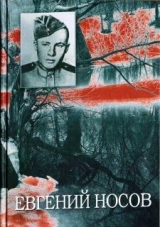
Текст книги "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…"
Автор книги: Евгений Носов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
– А мы тут мажем… Чтоб немец не услыхал,– доложил он и, широко распустив сырой губастый рот, неприятно, всеми внутренностями гыгыкнул.
– О, глянь-кось! Вот он, воитель! В полном соборе! – обрадовался дедушко Селиван, любовно осматривая Касьяна.– На вот дегтярочку, подмажь, подбодри ходки.
– Уже смазаны,– сдержанно ответил Касьян, мельком взглянув на свои успевшие запылиться, потерявшие вид сапоги.
– Тади ладно, ежли так. Догорела свеча до огарочка, пора и выступать. Дожжа вроде не будет.
Дедушко Селиван и сам вырядился в невесть откуда взявшиеся у него чоботы – пустоносые, с заплатами на обоих скульях, но вволю смазанные и расчищенные суконкой. И рубаха на нем была не та – мелким пшенцом по блекло-синему застиранному ситцу, неглаженая, но чистая.
– А Ванюшка-то Дронов еще вчерась надвечер улепетнул,– сообщил он со свежей утренней бодростью.– Один да пеший. Да-а… Побег, побег, соколик… Заглянул я к ему перед тем – молчит, цигаркой коптит, а сумка уже у порога. Так был сух, а то и вовсе сухменью взялся, исхудал бедой. Вот как запекло-то мужика! Погоди, говорю, завтра подводой доставим. Ни в какую! Каждый час, говорит, дорог. Ну да уж, поди, и тамотка, тридцать верст отсчитал по прохладцу. А то небось уж и в ашалоне едет.
– Моя бабка говорит, это его смертушка к себе кличет,– сказал Пашка-Гыга.– Иди сюды, иди сюды – пальцем, гы-гы-гы.
– А ну! – повел бровью дед Симака, и Пашка опасливо отскочил, продолжая мокророто лыбиться.– Выправь-ка лучше телегу на выезд.
Пашка готовно облапил дышло и поволок бестарку на свободное место.
– Двух извозов хватит ли? – спросил дедушко Селиван.– С полста мужиков ежли?
– Хватит.– Дед Симака кивнул-клюнул крупным вороньим носом, зачинавшимся безо всякого перехода прямо в самой пуще жестких бровей.– Хватит и двух – не на Азов поход.
– Тебе, Касьянушко, каких прикажешь запречь? – весело поинтересовался дедушко Селиван.– Выбирай любых, напоследок проедешь.
– Все едино. Не с бубенцами скакать. Коней-то покормили?
– А то как же,– степенно кивнул дед Симака, принявший конюшенные бразды.
– Засыпали, засыпали овсеца,– уточнил дедушко Селиван.– Жую-ют! Я ить сюда чуть свет прискакал. А топчан сладим, дак и ночевать тутотка стану.
– Овес бы поберегли. Не зима – всем овес травить,– заметил Касьян.– Теперь сыпь, да оглядывайся.
– Всего по картузу и плеснули. Нехай разговеются. В такой-то день! С маю небось на одной траве. Как посевную пошабашили, с той поры, поди, и не перепадало. А два дни дак и вовсе в ночном не бывали, незнамо чем и сыты.
– Это наладится,– покашлял дед Симака.– Нынче с Павлом и сгоняем. Некому ж было. Пришел, а кони брошены, доски грызут. Лобов на дежурство не вышел, его день был. И хвуражиров призывают. Сказать, дак люди не виноваты. Им тож собраться надо. Благо хоть вон Павел попить привез.
Его жидкие восковые щеки, беспорядочно иссеченные годами, непроизвольно вздрагивали от какого-то тика, будто держал он во рту зубное полоскание и гонял туда-сюда днем и ночью,– прихварывал старик, маялся грудью.
– Позавчоры стучит в окно Дронов,– сказал он, откашлявшись.– Иди, говорит, побудь на конюшне. Пока, мол, кого подыщем. Ну дак чего ж пока? Пороблю, раз надо. Ишшо ноги носють. А ногам все одно где топать – дома ли, тут ли. Мне б, конешно, стариков в подмогу. Ну да я сам и поговорю с которыми.
– Дак и я пособлю чего ни то,– отозвался дедушко Селиван.– Вот солдатиков провожу, свезу торбы да и переберусь к тебе насовсем. Э-э, Серафим, не журись. Кабы наша там-то взяла, а тут мы присмотрим.– И распорядительно крикнул: – Павел! Слазь-ка, голубь, на сеновал, погляди, нет ли сенца на повозки постлать.
Пашка, сняв ружье и приставив его к конюшенной стене, ловко взбежал по стремянке.
– С сеном нонче разор,– проговорил дед Симака, уставясь в землю.– Ладно ишшо дожжей нет…
Пока старики возились со второй повозкой, Касьян заглянул в конюшню. Но вошел не сразу, а сперва постоял у порога, всматриваясь вовнутрь с чувством недавнего хозяина, невольно примечая, какая поруха успела завестись в его отсутствие. Со света в конюшне было сумеречно и терпко. Солнечные лучи, бившие слева в узкие оконца, сизо дымились испариной над кучками вычищенного навоза, сваленного в главном проходе. Во время чистки Касьян всегда распахивал и те и другие ворота настежь, давал погулять свежему ветерку, но нынче дальние двери были заперты, видно, дед Симака остерегался сквозняков. Войдя, Касьян заглянул в шорницкую, отгороженную при входе. Там тоже наметились перемены. Деревянный ларь с инструментами, седельным войлоком и всякой починочной обрезью, на котором зимой конюха коротали дежурства, был отодвинут, а на его месте стоял еще не доделанный топчан, тогда как вокруг на полу валялись обрезки брусков и теса и было насорено щепой и опилками. На столе вперемешку с рубанком и долотами стоял чужой, незнакомый чайник и глиняная черепушка, прикрытая лопухом. Надо всем этим, под узким, таким же, как и у лошадей, оконцем, торопко мельтешили жестяные ходики, должно, принесенные дедом Симакой из дому. Дед Симака утверждался в шорном кутке прочно и основательно, будто въезжал в новое жилье, но пока здесь было мусорно и неуютно, и все это кольнуло Касьяна, подчеркнув его окончательную отторженность и непричастность к конюшенному бытию. И было странно и неприятно слушать, как где-то на чердаке топал, стучал пятками разговаривавший сам с собой Пашка-Гыга.
За высокими перегородками, так что были видны одни только стегна и холки, наголодавшиеся кони шумно мололи сразу множеством жерновов, довольно пофыркивали, секли по стенкам хвостами. Касьян, тихо, будто чужой, прошелся вдоль стойл, заглядывая через прясла {37}. Занятые едой, уткнувшись в кормушки, лошади не замечали его. Касьян переходил от одной к другой все с тем же чувством своей отторженности, и когда впереди мелькнула молочная спина его собственной кобылы, он родственно затеплился и, минуя остальных лошадей, пошел к ней поглядеть напоследок и попрощаться.
– Данька! Данька! – позвал он еще издали.
Незадолго до колхоза, продав состарившуюся отцову лошадь и прибавив подкопленных деньжат, заимел он некрупную, но броскую молодую кобылку. Была она редкой буланой масти, с белыми аккуратными копытцами, что и перевесило все его раздумья и колебания, и за этот ее теплый молочный окрас, за всю ее девичью игрушечность назвал он кобылу Данькой, подразумевая под этим, что дана ему на счастье. Правда, выглядела она в тот покупной момент тощей и необихоженной, но худоба была не старушечья, поправимая в хороших руках, и он весь ушел в заботы о новой скотине. Увел ее на безлюдный угол займища, сплел себе там шалаш и жил чуть ли не пол-лета, выгуливал свою Даньку на вольной траве, не докучая работой. Только знай гуляй себе, ешь чего хочется. И Данька на глазах стала выладниваться, хорошеть, заволнилась гривой, заходила остренькими ушами с живым интересом к миру. Напоследок Касьян выкупал ее в Остомле, отчистил белым речным песком и еще раз выкупал и, неузнаваемую, сам в душе с праздником привел во двор. Собрал стол, позвал мужиков, те нахваливали: «Хороша, хороша, но да вить корова – молоком, а конь – работой. Опробовать бы надо…» – «Спробуем, как не спробовать,– радовался Касьян.– Для того и куплена». На другой день съездил к Афониному отцу, подковал на все четыре высоконьких, стаканчиками, копытца. После того разобрал старую телегу и на прежних осях и железной оснастке принялся мастерить новый полок. Взвешивал и обдумывал каждую дощечку, каждую спицу в колесе, чтобы возок был и крепок, и не громоздок,– ладил в самый раз по кобылке.
Все у Касьяна в тот год вроде бы ладилось и ладно складывалось для ровной жизни в посильных трудах, но вот завелся в Усвятах колхозец и стал поперек всех его планов, расколол мысли надвое. Что это за новшество, многим не особенно было понятно, и поначалу принимали его не все и не сразу. Мужики при хозяйствах осторожничали, тянули время, кое-кто распродал со двора лишки на тот случай, что если придется вступать, то уж с меньшей потратой. Касьяну колхоз тоже показался не ко времени, да и кое-кто не советовал вязать себя с ним. Но все ж для себя нашел он иной выход, казавшийся ему разумным и справедливым для обеих сторон. О себе заявил так, что-де не против вступить в колхоз, но с тем условием, чтобы и конь, и полок оставались при нем, на его дворе, а он, когда надо, работал бы вместе с конем на общий котел. Уже тогда севший править артелью Прошка показал ему обидную дулю, сказавши, что таких хитропопых подрядчиков ему не надо: вступать так вступать, а не вступать – так и нечего голову морочить… Хорошо ему, Прошке, фигу показывать – сам-то он безлошадно, налегке вступил, и Касьян рисовал себе невеселую картину, как кто-то чужой запряжет его Даньку, навалит на телегу сверх всякой меры и совести, огреет кнутом, бестолково задергает вожжами, заорет матерно и не пособит, не слезет с повозки, когда его, Касьянова, Данька, выворачивая из суставов ноги, будет полоумно выпластываться, лезть из хомута на последнем узволоке. Кто ж побережет не свое, думал он тогда. И, подавая наконец заявление, поставил колхозу новое условие: вступить он не возражает с конем и с телегой, даже прибавит к тому соху, хорошую железную борону и пару полотен кос, но чтоб непременно назначили его конюхом. «Да что ты все ультиматумы ставишь? – вскинулся тогда Прошка-председатель.– Пан-барон нашелся, понимаешь!» Но вспомнив, что Касьян отбывал действительную фуражиром, согласился удовлетворить его, как он выразился, «каприс» и назначил на должность временно, до общего собрания – как оно скажет. С той поры так и пошло: конюхом да конюхом – вот уже целый десяток колхозных годов. Сперва рядовым, потом и старшим. Свою хозяйскую дотошность Касьян, обвыкнув в колхозе, перенес и на общественное добро: терпеть не мог изодранной и пересохшей сбруи, расхристанных хомутов, как попало сваленного лошадям сена, ворчал из-за каждой потерянной подковы, и не дай бог, если кто возвернет с поля коня с потертой холкой…
За время своего конюхования привязался он ко многим лошадям, иных выходил с сосунковой поры, иные выдурились почище Даньки. Мечталось завести даже донцов {38}, подбивал на это Прошку-председателя, но тот, узнав, сколько стоит чистокровная матка, замахал обеими руками, отвернул нос: «Иди, иди, не дурей! За такие деньги два трактора можно купить». Но Касьян не отказался от своей задумки: тем же летом выбрал самую ходкую и статную кобылу Челку и, не сказав никому, махнул на ней в Подзвонье на конный завод. За хороший магарыч, так что и сам вернулся без шапки, поставил ее с записным жеребцом Перепелом, и объявилась первая в Усвятах дончиха. Вон она стоит в шестом стойле – подпашистая, сухомордая, в белых чулках. И назвал он ее по всем заводским правилам: от клички отца взял первую букву «П», приставил к имени матери, и получилось, как влилось,– Пчелка. Всего пока полукровка, но уже по всей справе видать, что не простого замеса лошадка,– красота с огнем пополам! Прошка-председатель присматривался, удивлялся: «Что за краля? Откуда такая?» Должно, метил в свои бегунки. То-то что и оно – откуда… Не случись война, на другой год опять бы съездил в Подзвонье, уже на самой Пчелке, чтоб еще больше приблизить потомство к настоящим кровям. Да, видно, конец всему, того гляди, и самую Пчелку вот-вот заберут…
Были у него и еще коньки хороших статей, стригунки, часами б глядел на сорванцов, как вынашиваются они, на скаку покусывая друг другу холки, или встают друг перед дружкой на дыбки, под грудь загибают шеи. В табуне, что в колоде, есть и козыри, есть и шестерки – всякие, но Данька шла по особь статье: своя лошадь.
Четырнадцатое лето дотаптывает его Данька – три до него да десяток трав под его доглядом. Правда, росточком так и не вышла и даже вроде как ниже стала, оттого что раздалась задом, разломилась повдоль сытой спиной,– от былого, конечно, ничего не осталось, но масть и теперь красит – видная лошадь! В первые годы, уже будучи колхозным конюхом, набрасывал Касьян на нее седло покрасоваться перед миром, когда выгонял табун в ночное, дескать, знай наших! Потом растолстела, разбочкалась, под седлом неудобна стала, и Касьян года три как пересел на рослого Ясеня. Хотел и дальше вести от нее редкую масть, да не сыскал пары, такого же молочно-топленого конька. А хорошо б было! От своих же, усвятских, несла она всякий разнобой, двух жеребяток почему-то сбросила, а главное – получались они и самой мельче. Какие-то нелады у нее с племем, не способная к этому. Сказать по совести, малость просчитался он с ней: вгорячах, когда покупал, мерещилось большее. Масть-то масть, да не слезь в грязь. Оказалось, лошаденка-то без старания, норовом себе на уме – лишнего не положи, в паре без кнута валек не натянет,; а чуть что – и куснуть горазда. То ли была отроду такой, то ли уже здесь, в колхозе, забаловалась. В своем хозяйстве эта порча сразу бы и обнаружилась, а тут, за другими лошадьми, как-то не примечалось. Да кто ж знал! Иной вон и бабу за одни глаза берет, размечтается, думает, царевну ухватил, ни у кого такой нету… И все ж любил ее Касьян, может, потому, что сам на ней не пахал, не сеял, а только ходил, да чистил, да глядел на буланую шерстку. Между тем мужики брали ее в наряд без особой охоты, когда уже выбрать было не из чего, и это задевало Касьяна. Знал он и про то, что бивали ее, с глаз отъехавши, но промалчивал. За другую лошадь поднял бы шум, начертыхал бы по самую завязку, а тут – молчок, неловко было за свою лаяться. Иной раз вернется кобыла на конный двор, а на пыльном гузье – свежие полосы {39}, следы осерженного кнута. Может, и за дело бита, да и как не за дело, но Касьян состроит вид, будто не заметил, замкнет рот, а в самом заворошится обида пополам с жалостью. И жалея, потом в ночи украдкой подсыплет, хоть на пригоршню, да овсеца побольше, а сенца помягче…
Но вот стоял он нынче с заплечным мешком перед ней, и та не заметила, не оторвалась от чужой подачки.
– Данька, Данька! – позвал он еще раз, играя голосом, не зная и сам, чего добивался от лошади.
Кобыла, услыхав привычный оклик, подняла голову, свернула глаз к заплечью и недолго, непомняще посмотрела на хозяина, деловито, размашисто жуя, гоняя рубчатые желваки по широким салазкам. Белое овсяное молоко проступило в ее сомкнутом сизогубом зеве.
– Это я! Али не видишь? – поспешил удержать ее взгляд Касьян и зачем-то посвистел, как при водопое. Но та, еще не дожевав, жадничая, опять сунулась в обслюнявленный ящик.– Эк поспешает! – обиделся Касьян.– Успеешь еще, день велик. Нынче и вовсе никуда не тронут. Некому трогать. Нынче у тебя пустой день.
Кобыла продолжала хрумкать, сопя и шарясь мордой по опустевшему ящику, и Касьян, дожидаясь, пока она управится и вскинет голову, униженно рассматривал приколоченную к столбу табличку. Когда вселялись в новую конюшню, он собственноручно выстрогал эту досочку и старательно написал чернильным карандашом крупно, с замысловатыми завитками эти четыре буквы – «Даня». Потом какой-то лихоман перечеркнул букву «а», а сверху написал «у», и Касьян ночью выскребал ножом эту обидную, насмешливую букву.
– Ну дак чего… Пошел я…– растерянно проговорил он, оглянувшись на выход, мимо которого как раз промелькнул Пашка с охапкой сена.– Ладно, жуй, раз такое дело. Может, больше и не доведется. Овсеца-то. Без меня теперь будешь.
Он потянулся через прясло, прощаясь, почесал пальцами крутую конскую ляжку. Кобыла в ответ досадливо трепнула долгим белым хвостом, будто отмахивалась от докучливого слепня.
– Ну не буду, не буду… Твое теперь дело: кто дал – у того бери, кто ударил – тому беги,– проговорил он, неудовлетворенно, с обидой отступая от лошади.– Ну, бывай! Пошел я…
Касьян опасливо обернулся в оба конца, не видит ли кто этого его тайного свидания со своей давней застарелой болячкой, и, отступая от стойла, вдруг в конце прохода, среди ровного ряда хомутов, развешанных на столбах,– каждый против своей лошади,– подцепил нечаянным взглядом какой-то лишний, ненужно выпиравший предмет. Всмотревшись, Касьян распознал морду старого Кречета. Положив тяжелую, сумеречно-серую голову на прясло, он затаенно следил из-за хомутов за Касьяном, словно догадывался, что видит его в последний раз.
– А-а, это ты! – обрадовался Касьян внимательному взгляду мерина, о котором как-то и не вспомнил и, наверно, не подошел бы, не попадись тот ему на глаза.– Ну как ты тут, а? Живой?
Касьян шел к нему, заранее протянув ладонь, будто для рукопожатия, и конь нетерпеливо загремел копытами, сунулся грудью в перекладину и безголосо заржал, издав какой-то долгий сухой сип, под конец которого прорезался немощно озвученный, изъеденный старостью голосок.
– Узнал, а? Узна-ал! – растроганно выговаривал Касьян, увидев, как рванулась к нему лошадь.
Он подошел и потрепал старого коня по замшелой гулкой скуле, и тот ткнулся колючими усатыми губами под Касьяново ухо, засопел довольно.
– Что ж ты не ешь, а? Али не естся? Ты давай ешь. Вон как твои друзья-приятели овес рушат. За ухи не оторвешь. И про прежнего хозяина забыли. А я ж их из грязи, можно сказать… Сколь болячек повымазал…
Конь, положив голову на Касьяново плечо, слушал, водил ушами, и эта доверчивая тяжесть была приятна и радостна Касьяну.
– А я, вишь, ухожу. Война, браток, война! Негожее дело затеялось. Сена не запасли, овес вон подчистили… Вот беда: и дать-то тебе нечего, нету гостинчика. Забыл я про тебя, запамятовал, что ты есть. Ну, прости, прости… Заморочили бабы голову, ревут да голосят. Насилу из дому вырвался… А ты дак не забыл – помнишь! Вот, видишь, как оно…
Наговаривая все это, Касьян в который раз сокрушенно шарился по карманам, ища хоть какую случайную корку, хотя бы зернышко для прощальной утехи коню, ведь всегда ж чего-нибудь носил, не являлся порожний. Но карманы, как назло, были пусты, должно, Натаха, сбирая одежу, все повытрусила оттуда, и от этого сделалось ему неловко и совестно.
– Как же я, а? Нету, нету ничего… Забыл начисто.– И вдруг, задержав руку в пустом кармане, обрадованно замер: – Постой! Как же нету? Как же это нету? Е-есть! Сичас, сичас, браток…
Он сбросил с себя мешок и, присев на корточки, принялся торопливо распутывать затянувшуюся петлю. Кречет, перегнувшись шеей через прясло, осторожно теребил губами картузную маковку.
– Ну как же нет? Вот же…– бормотал Касьян и, выхватив ковригу, ломанул от нее закраек.– На-ка, друг, испробуй солдатского!
Мерин потянулся к хлебу, но сразу не взял, а долго нюхал, тонко играл, вздрагивал ноздрями, вдыхая острый ржаной запах, и лишь потом робко, стеснительно, как бы не веря – не по чести,– заперебирал по горбушке губами, ловчась откусить истертыми до десен негодными резцами. И так и не откусив, вобрал все в рот и, зажмурясь, благодарно запахнув глаза, неспешно, словно вслушиваясь в душистое, солоноватое лакомство, повернул тяжело гуркающую челюсть в одну сторону, в другую…
– Ешь! – подбадривал Касьян и, жалея лошадь, обломил о колено еще кусок.– Худо твое дело. Кабы не война, дак, может, еще б пожил промеж других. А то, вишь, война…
Когда Касьян впервые принял конюшню, Кречет уже и тогда в годах был, но еще выглядел крепким, богатым конем в серых морозных яблоках. Привел его с собой в колхоз ныне покойный Устин Подпряхин, а сколь жил до Устина и где обитал, где его настоящая родина, никто в Усвятах не знал. А нашел его Подпряхин аж в девятнадцатом году в Ключевском яру в полной сбруе, под боевым седлом. По-за тем яром по Муравскому шляху – Касьян тогда мальчишкой был – ходили конные сотни, секли друг дружку – то белые налетят, то красные,– и неведомо было, чей это конь, кому служил, за что бился. Коню ведь все едино, куда скакать, чьей рукой направят. За эту его темность Прошка недолюбливал Кречета, называл его в шутку контрой. Ну да, может, и был за конем грех какой, дак после того с лихвой изгладил вину: годов двенадцать на Устина робил, пятерых ребятишек таким вот хлебом на ноги поднял, да потом в колхозе, пока не избил копыта, пока не подошел край.
– Да, братка, не станут тебя больше держать. Хватит, скажут. Что поделаешь? Не до тебя теперь. Не помогальщик ты больше. Рази тем токмо пособишь, что шкуру отдашь на солдатские ремни… Так что ешь. Последний твой хлебушко. Не увидимся больше…
Касьян поддавал ладонью, помогал Кречету взять остро растопыренные корки, сминал кулаком потуже мякиш, уже не замечая за словами, сколько раз ломал от ковриги.
Неожиданно кто-то поддал его в спину, и Касьян увидел Варю, тянувшуюся к нему из соседнего стойла. Отросшая порыжелая челка рассыпалась по ее шоколадной морде с белой пролысиной. Кобыла, коротко гоготнув с густой сдержанной мощью, ревниво скосила на Кречета темно-сливовый зрак с отраженными в нем квадратиками противоположного окошка. Под ее боком толокся такой же шоколадный и тоже с белым переносьем сосунок, дрожливо, как лесная коза, нюхал поверху хлебный воздух, еще не ведая, что это такое, беспонятно волнуясь, перебирая копытцами.
– А-а, Варвара! – обернулся к ней Касьян, всегда уважавший эту сильную, безотказную и добрую лошадь с самым большим хомутом во всех Усвятах.– И тебе хлебца? Дам и тебе. А как же… На, на, матушка. Тебе да не дать…
Он и ей обрадованно отщипнул кусок и еще поменьше протянул жеребенку. Тот, однако, не знал, что делать с хлебом, бестолково тыкался в Касьянову руку, потом потянулся к материным губам, любопытствуя, что она такое жует.
– Экий дурак! – опять растрогался Касьян, ловчась погладить, поласкать несмышленыша, и был он в эти минутки прощального избывания как во хмелю: обостренный ко всему, то горестный, то невесть отчего счастливый. И, снова, обращаясь к Варе, говорил: – Тебя с дитем на войну не возьмут, не должны б взять. Так что тут останешься. Это вон Ласточку с Вегой, Ясеня, к примеру,– тех подберут. Дак и Пчелку, само собой… Ласточка с Вегой в извоз патроны возить або пушку. Куда ни назначь – добрая пара. Дак и Ясень… А Пчелку, ясное дело, под седло, под командира. Увидит – не расстанется командир. Многих пошерстят. Может, какой десяток-полтора и останется. Так что тут тоже не мед. Хомуту не просыхать. Вон сколь хлебушка в поле. Тебе, Варвара, жать да возить. Ты уж, матушка, выручай тут. Сколь малых ребятишек на тебе, на твоей хребтине остается. Эх, кругом разор!
То ли запахом свежего хлеба, то ли голосом своим растревожил, расшевелил Касьян чуть ли не всю конюшню, и то рядом, то за проходом напротив кони загукали полом, застригли навостренными ушами. Принюхиваясь издали, высунулись за входные барьерки стоявшие рядом Вега и Ласточка, с тихой волнистой протяжцей подал молодой голос Касьянов ездовой Ясень… Кто-то там дальше уже зассорился с соседом, взвизгнул зверино, саданул в доски – не иначе Данька, ни с кем не уживается, подлая. Уже два станка сменил ей Касьян, а все то же…
На виду у коней Касьяну было неловко прятать остаток ковриги в мешок, заела б, замучила совесть, и он пошел по рядам, отламывая и раздавая последнее, сам облегчаясь намученной душой.
– Дядька Кося! – встал в солнечном проеме ворот Пашка-Гыга.– Каких выводить? Которых?
Но увидав, как тот ходил по станкам с искромсанным ломтем, поумолк, вырисовываясь деревянным ружьецом за плечами.
16
Лошади были поданы к конторе за полчаса до объявленного срока.
Распрощавшись с дедом Симакой, который, выкликнув вслед: «Ну, с богом! С богом!» – остался маячить посеред конюшенного двора с непокрытой головой, Касьян на Ласточке с Вегой, дедушко Селиван на Ясене с Мальчиком на рысях подкатили к правленческому майдану.
Но еще издали, трясясь в задней телеге, Селиван окликнул непонятно за колесным грохотом, ткнул кнутом в сторону конторы, и Касьян увидел, как в утренней синеве над соломенной кровлей свежо и беспокойно полоскался новый кумачовый флаг, вывешенный, должно быть, только что, в самое утро, заместо старого, истратившегося до блеклой непотребности.
На пустыре уже набрался усвятский люд: подорожно, не по погоде тепло, с запасом одетые мужики с разномастными самодельными сумками, и с каждым пришли его домашние, провожатые. Люди облепили конторское крыльцо, кирпичную завалинку, толпились кучками, лежали и сидели в тополевой посадке. Мелькнул широкой спиной с полотняным мешком Афоня-кузнец, по старой Махотихе, сидевшей с ребятней на порожках, Касьян догадался, что и Леха был где-то тут. Под кустиками в большом кругу Матюха Лобов перебирал, пробовал на частушечных коленцах свою старую, никому теперь не нужную дома ливенку. Но, несмотря на всплески гармошки, празднично-яркий флаг над конторой и безмятежную синь утреннего неба, во всем: и в том, как неулыбчивы, с припухшими глазами были лики провожавших женщин, как, скорбно понурясь, сидели на крыльце и по завалинке старушки и как непривычно смирны были дети,– чувствовалось сокрыто копившееся напряжение, выжидание чего-то главного. И как знак этого главного, у коновязи одиноко и настораживающе стоял нездешний и обликом, и мастью, и крепким воинским седлом пропыленный конь в темных, еще не просохших подпотинах: кого-то он доставил казенным посылом, кто-то поспешно прискакал по ранним безлюдным верстам… Впрочем, сразу же и узналось, что приехал райвоенкоматский лейтенант по мобилизационному делу, чтобы на месте отобрать намеченных людей и доставить их в организованном порядке.
А из усвятских проулков, выбираясь на полевую, околичную дорогу, по которой еще недавно бежал и сам Касьян, всё шли, поспешали, мелькая головами по-над хлебами, новые и новые куртины людей. Кто-то недокричал своего, недовыголосил дома, и теперь из-за пшеничного окрайка, где колыхались платки и картузы и мелькали все те же заплечные сумки, долетал обессиленно-вскидливый голос какой-то женки.
Касьян, поискав и не найдя своих, Натахи с матерью, подошел к мужикам, окружившим Лобова, здороваясь и всем пожимая руку с той облегчающей братской потребностью, с какой деревенский общинный житель всегда стремится к ближнему в минуты разлада и потревоженной жизни. И те, тоже откликаясь приветно, потеснились и дали место в кругу, где Лобов, охватив гармонь, подвыпивши, красноязычил:
– А все ж должны мы ево уделать, курву рогатую! Хоть он и надеколоненный и колбасу с кофеем лопает, а – должны.
– Ужо не ты ль? – подзадорил кто-то.
– А хоть бы и я! Ежли один на один? Подавай сюда любого. Давай его, б…дю! Окопы рыть? Давай окопы! Дело знакомое, земляное. Неси мне лопату и ему лопату. Да не ево, а нашу, на суковатой палке, чтоб плясала на загнутом гвозде. Нехай такой поковыряет. Я вон на торфу по самую мотню в воде девять кубованцев махал. Пусть попробует, падла!
Лобов сдержал обещанное, пришел-таки в лаптях, вздетых на высоко и плотно обернутые онучи, казавшие кривулистые, имками, ноги {40}. Картуз он подсунул под гармонь и теперь больнично голубел наголо остриженной шишковатой головой, отчего вид у него был занозливый, под стать и самому разговору. Однако мужики слушали его с готовным интересом: коротали время.
– Али пешки итить. Нате, мол, вам по полста верст. Ему полста и мне полста: кто поперед добежит. Токмо чтоб без колбасы, такое условие. Мне в котелок кулешику и ему кулешику. А мы тади поглядим. Дак я и без кулеша согласен. Пустобрюхом не раз бегано. Но чтоб и он пустобрюхом! На равных дак на равных.
В трудный тридцать третий год Лобов вербовался куда-то один, без семьи, обещал потом вызвать свою Марью с младенцами, но что-то там не то нашкодил, не то еще чего и отбыл за то три года сверх договора. Домой вернулся вот так же без волос, но зато с гармонью и среди усвятцев слыл хотя и балаболом, но бывалым мужиком. В общем-то, по обыденности, несмотря на причуды, был он человеком сходным, но, подвыпивши, любил похвастать, или, как говаривал о нем Прошка-председатель, заголить рубаху и показать пуп.
Касьян не все слышал, что там еще загибал Матюха, отходил, глядел по сторонам, искал своих, не подошли бы, и когда вернулся снова, тот продолжал потешать новобранцев.
– Я солдат недорогой,– говорил он, оглаживая стриженую макушку.– Много за себя не спрошу, кофею не затребую: шинелку, опояску, махорки жменю, а нет, дак и моху покурю. Спробовал уже: курить можно. Хоть вонливо, зато комар не ест… Три дня кухню не подвезут – ладно, сухарика из рукава поточу або гороху за окопом пощиплю. И в болоте без раскладухи заночую, леший не нанюхает. Вша, сказать,– тыю тож за жисть повидали. Так что немцу неча со мной тягаться. Нечем ему меня напужать – пужанный всяко. Не на того наскочил, халява.
Лобов сплюнул, задел плевком гармонь и поспешно вытер ладонью.
– Один на один да без ничего – это и я согласный,– отозвался Никола Зяблов, подбрасывая спиной неловко сидевший мешок.– А то ведь, сказывают, на машинах он да с автоматами. Тут одним живучим брюхом не посрамишь. А ну как да и Россию-то б на машины…
Тем временем дедушко Селиван, встав в телеге, шумел свое:
– Робятки! Слышите ль? Давайте пехтеря-то свои. Чего ж их за собой таскать? Афанасей! Лексеюшка! Давайте складывайте.
Мужики зашевелились, начали обступать повозки, и дедушко Селиван, принимая и укладывая сидора́, весело приговаривал:
– Не всегда ходоку сума барыня, надоть и плечи поберечи. Уложимся загодя – и вся недолга. Вали, робятки, облегчайся! Все как есть к месту доставим.
Лобов, послушав, чего кричит Селиван, заперебирал пуговицы на ладах, гармошка, будто вспорхнувшая бабочка, замелькала рисунчатым коленкором своих мехов, и ее хозяин выдал скороговорицу:
Ты, телега, ты, телега,
Ты куда торопишьси-и-и?
На тебя, телега, сядешь —
Скоро ли воротишьси-и-и…
На гармонь, на лобовскую запевку откуда-то из-за толпившегося народа внезапно отозвался жестяной надсадный выкрик, вырвавшийся из охрипшего и ободранного горла:
Ох, д’кричу песни-и-и…
И через промежуток:
Кричу вволю-ю…
И еще через паузу:
Ох, д’напоюсь на всю недолю-ю-ю…
Все обернулись на эту охрипшую частушку: по выгону к правлению двигалась толпа, человек двенадцать Кузькиных родичей и гостей, в основном баб, наехавших из окрестных околотков, и в середине сам Кузьма, поддерживаемый под левый закрылок Давыдкой, а под правый – своей бабой Степанидой. На Степаниде, так же как и на Давыдке, белели лямки холстинного мешка, туго, до желваков набитого снедью. Кузьма, ведомый под руки, сморенно волокся, загребая пыль форсисто осаженными сапогами, обвисая головой со сбитой набок кепкой. Выглядывая одним глазом в расселину свалившегося чуба, словно в заборный пролом, он искал игравшего, пытался пристроиться к ладу:








