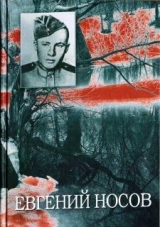
Текст книги "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…"
Автор книги: Евгений Носов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 35 страниц)
– Это что же – госпиталь был? – догадался я.
– Ну да! – кивнул Алексей.– Полевой санбат какой-то дивизии. А где сама дивизия – никто не знал. Связи с ней не было никакой.
Собрались было медики эвакуироваться своими силами, вот тебе немецкий самолет. Покрутился, выглядел тамошний мост, снизился и саданул фугаской. Бомба вырвала под тем берегом метров двенадцать, раскидала настил, повалила опоры. Сами раненые кое-как перекинули над провалом две латвины. Там, за рекой, верстах в десяти, была какая-то станция. Туда они и потопали, кто как мог: кто на костылях, кто в обнимку. С ними ушли провожатыми два санитара и несколько семей из поселка. Добрались они до станции или нет, никто не знал: санитары назад не вернулись. В поселке остались одни тяжелые, человек сорок. Лежали они в заводских складах, прямо на пеньковых тюках. Пенькой их и перевязывали вместо ваты. Провизия тоже кончилась, кормились с брошенных огородов пустыми капустными щицами, мятой картошкой да подсоленным отваром из-под нее… И у нас с собой ничего…
– Да! Положеньице! – посочувствовал я.
– Потому начмед, та самая Анна Константиновна, и решила починить мост, чтобы за несколько рейсов вывезти всех тяжелых на своей санитарной машине. Хотя бы до той самой станции. Тут было ближе и безопасней, чем колесить в объезд, через войсковую переправу.
Ну, оглядели мы этот мост. Бомба раскурочила его основательно, главное, повалила опоры. С правой стороны все сваи как бритвой срезало. Видать, центнера на два жахнула чуха. Двенадцать метров прогона – дело не шутейное. Надо было бить новые сваи або подводить козлы. А сперва – материал припасти – напилить сырья или же разобрать подходящее строение. Чем попало мост не залатаешь. Да все это снести на берег, обмерить, опилить, затесать стыки – легко сказать! Возни порядочно. На все ушло бы дня два-три, а то и поболе. А время-то тикает, душу щемит: немец ждать не будет, пока мы управимся. Разведка его шныряет, нюхает, где слабинки да пустоты в нашей обороне. Так что каждую минуту в тревоге. Все, бывало, прислушиваемся, не стреляют ли где… А каково тем, бедолагам, что на пыльной пеньке в темном сарае обездвиженные лежат? Им и вовсе мир с овчинку, жизнь на волоске. Зайдешь туда, аж муторно становится: затхлые сумерки, гнойным телом разит. И сразу: «Ну что там? Где они?..»
Агапов, наш командир, говорит начмеду: пусть, дескать, мост останется как есть, а лучше давайте плот состроим, так будет быстрей. Сперва санитарную машину переправим, а потом – раненых. Главное – машину, чтобы сразу начать возить. А то, пока мы будем с мостом канителиться, газушка останется на этом берегу без дела стоять. Шофер заупирался было: утопите мне машину, то да се… Вы, говорит, потом смоетесь, а меня – под трибунал… Но Константиновна только глянула на него и приказала: «Делайте!»
Сразу и начали: на поселке отыскали две пилы, несколько топоров, в заводском цеху нашлись пожарные багры, железные ваги. Не мешкая, принялись разбирать топливный склад, рубленный в лапу. Завалили три ближних световых столба, смотали с них проволоку – для крепежа. Двух солдат отрядили крутить из пеньки веревки. Дело – делом, но на всякий случай на чердаке главного корпуса поместили бойца с ручным пулеметом – послеживать за дорогой. А то мы всё на берегу под горюй возимся, а что делается окрест наверху – от реки не видать.
…Привлеченная, должно быть, теплым веянием углей, прилетела крапивница, доверчиво покружилась над Алексеевой непокрытой ковыльной головой, отпорхнула было в сторону, но вернулась снова, облетев еще раз Алексея и неожиданно села на пустую теплую от солнца полиэтиленовую кружку. И, присев, распахнула свету свой густой оранжевый бархат с цыганскими синими оборками по краям.
– Во! Красавица наша! – изумился Алексей, обрывая свой рассказ.– С самого детства люблю эту божию птаху! Ах ты, люба моя! Ты гляди, Авдюха, какой добрый знак! Указание-то какое! Стало быть, еще чуток выпить нам велено! Ты уж сходи, мил человек, принеси четверочку.
– Ничего не хочешь понимать! – попрекнул Авдей Егорыч.– Ноги у меня болят! Май, а я, гляди, в валенках.
– Ну да ладно тебе! Я ж не плясать тебя заставляю. Ты – помаленьку да полегоньку, а там – и побежишь, знаю. Все равно зря сидишь: все, что я тут балакаю, ты ить слыхал. Неинтересно тебе это, враки мои.
– Экий ты, паразит, настырный! – Авдей Егорыч, однако, встал, нарочито кривясь и морщась, и молча поковылял к плотине.
– Только, слышь, приходи! – крикнул вдогон Алексей.– А то возьмешь и запрешься на завалку. С тобою станется… А я зря ждать буду.
– Ладно, приду,– не оборачиваясь, пообещал тот.
– Ну что…– вернулся к рассказу Алексей.– В июле дни долгие, солнце еще токмо заводскую трубу начало задевать, а мы уже с плотом управились. Вязали прямо на воде. Три телеграфных столба упластали вдлинь, штук двадцать пятиметровок с сарайки уложили поперек, где проволокой скрепили, где скобами. Нашлись две порожние бочки из-под горючего, их по краям приторочили, чтоб не было боковой качки. Через речку перетянули веревку. Веревка, правда, лохматая, в один жгут, но – как получилось. Отпихнули чуток, держим баграми, шофер по накинутым лавам тихонечко-тихонечко тронул машину, смотрим, плот осел, в санитарке все-таки более двух тонн весу, вода показалась меж бревен, но ничего, обошлось. Ну и оттолкнули мы с богом. Шофер с плота веревку перебирает, мы, раздевшись, забредя в воду, баграми придерживаем, пока глубина позволяла. Потом отпустили, само пошло. Машина благополучно переправилась и выехала на ровный берег. Куда хлопотней оказалось с ранеными. Медперсоналу надо было переписать, подготовить личные дела, а нам – сперва вынести из склада, потом с носилками – а их оказалось всего пара – спуститься к реке, перенести по доскам на плот, уложить, на том берегу опять перекласть на носилки, подняться на берег, переместить в машину. Это ж тебе не мешки, а живые люди, они стонут, матерятся, хватаются за руки, закусывают губы от каждого неловкого движения. Так что пока переправили партию, пала глухая ночь. В машину запихивали уже потемну, шофер жег зажигалку и светил в лючок из кабины. Четверых тяжелых поместили прямо на полу, на пеньковой подстилке, двоих пристроили на подвесных боковых койках, а кто мог сидеть – тех устроили на откидных сиденьях – всего вошло десять человек. А их осталось еще тридцать. Правда, двое умерли уже при нас. Стало быть – еще на три таких ездки. Это ежели и дальше все обойдется… Да еще не было известно, куда их девать на станции. Поэтому в первый рейс поехала сама Константиновна, не спавшая уже какие сутки.
За день мы тоже вымотались до упаду, даже на гору больше не пошли. Сестра-хозяйка принесла нам ведро горячей картошки, поели без хлеба, покурили да и полегли у воды, благо пенька и тут выручила: натаскали ее изрядно, чтобы устилать плот.
Часу в четвертом побудил нас автомобильный гудок с того берега: наши приехали! Зашевелились мы нехотя, кажется, вот-вот только заснули, во всех костях гуд, ломота после вчерашнего. Реки не видать, должно, туман сел, гимнастерки набрякли, зябкий дрожак бьет. Зачиркали зажигалками, закурили. Слышим, по лавам, по остатку моста шаги: Константиновна топает. Подошла, закурила с нами. Красный жар махры высветил ее острое, обрезанное лицо с резкими тенями на салазках. «Ну, как там?» – спрашиваем. «Бомбят, сволочи! Возле путей одни горелые коробки. Пока положили в школе. Да там и без наших уже полно раненых, кто откуда. Начальник станции обещает отправить при первой возможности. Вот, говорит, если не разбомбят вагоны с колючей проволокой, к вечеру разгрузим, ими и заберем».
Константиновна увидела взбуровленную пеньку и прямо-таки пала на колени: «Ох, товарищи, я тут полежу минутку… Если что – разбудите… А вы начинайте, пока сверху не видно…»
За рекой, над лесом, проступила вялая бледность – вставала новая заря. Мы подхватили носилки и побрели в гору – начинать еще один неведомый день.
С плотом мы управились еще до солнца. Загрузили машину, и та ушла.
А ровно в шесть, будто по графику, снова загромыхало. Уже не на севере, а на северо-востоке, как в большую обложную грозу. Видать, немцы, проспавшись и попивши кофею, принялись за свою работу – заводить свой железный невод. Через недолгое время они сведут его концы, вытряхнут богатый улов и довольно, старательно пересортируют, кого куда: раненых добьют, живых погонят в лагеря, собак перестреляют на шапки, скот отправят на колбасу, а железо – на переплавку…
А вскоре по реке густо повалила поруха: вырванная с корнем осока, древесная щепа, совсем свежие ракитовые ветки, доски, ощеренные гвоздями, бревна… Осевши на один бок, сундуком пронесся тюк прессованного сена. По нему туда-сюда бегала суетная трясогузка, тикала долгим хвостом. Следом огрузло, нахлебавшись воды, опрокинутая вниз дном проплыла, посверкивая лакированным козырьком, армейская фуражка с красным околышем, может, даже и генеральская… Спустя к опорам моста прибило гнедую лошадь. На ее вздутом, мокро блестевшем боку посверкивали латунные бляшки на ременной шлее… Никто не знал, откуда несло эту погибель – река-то длинная… После вчерашних «мессеров» от той переправы, где мы были вчерашним днем, такое же месиво поплывет в этих местах, только спустя двое-трое суток. А еще дня через три закачаются на зеленой воде всплывшие трупы…
Машину решили не дожидаться, а сразу начали носить раненых для следующего плота. Правда, было опасение, что могут налететь самолеты. Но и в складе держать людей – хорошего мало, тем паче что один склад уже сгорел от бомбежки. «Уж ежели погибать,– говорили сами раненые,– дак лучше здесь, на бережку». Они лежали в исподнем, прикрытые шинелками, и было видно, как после сарайного мрака радовались разгороженной воле, просторному небу над головой. Угостили куревом, расспросили, нет ли среди них земляков. Все они оказались нашего, шестьдесят третьего, корпуса, разрозненного лесами, и теперь не знали, где он и что с ним. Да и мы тоже про то не ведали…
И вот тут, пока мы балакали, над крышей завода метнулась красная ракета, и сразу полоснуло долгой пулеметной очередью. А втемеже еще и еще раз…
Мы переглянулись оторопело, будто не понимали, что это такое, хотя каждый про себя ждал, ходил, жил и спал с этим… Первым вскочил Агапов, заорал, вздулся шеей: «Двоим остаться, остальные – за мной! Где винтовки, мать-перемать, сколько говорил, иметь при себе!» – хотя сам был тоже с пустыми руками.
Винтовки наши были наверху, да и чего их, казалось, таскать с горы да в гору. Зато и взбежали мы, порожние, что было духу. Сестры вместе с Константиновной тоже высыпали на заводской двор. Прибежали, похватали оружие, смотрим, в чердачное окно пулеметчик Кукода высунулся, не то перепуганный, не то обрадованный. «Товарищ сержант! – кричит он Агапову.– Только что немцы были!» – «Как – были?» – «На двух мотоциклах с колясками. Один мотоцикл я сразу срезал, а другой умотал, гад! Пыль поднял такую, аж не видно, куда стрелять… Но зато того я садану-у-ул! Аж кверху коляской завалился!» – «Ладно, заткнись! – помрачнел Агапов.– Теперь жди привета!»
…Наконец вернулся Авдей Егорыч, не ко времени перебивший рассказ Алексея. Цигейковую шапку он сменил на красный вязаный «петушок» с веселым махорчиком, делавшим его просторное багровое лицо забавно заостренным кверху и похожим на кочета с зазубренным гребнем. Он извлек из кошеля и выставил на тарный ящик неполную бутылку, заткнутую газеткой, шмат сала, банку румяных маринованных помидоров пополам с желтыми перчиками.
– Ну, жани-их! – восхитился Алексей.– Хоть на полтинник чекань!
– В шапке жарковато стало,– польщенно сказал Авдей Егорыч.– Вот, принес прошенное…
Алексей потетешкал в руках бутылку с желтоватым питьем:
– Ты уважил бы, медком сдобрил-то…
– Разбавил, разбавил,– заверил Авдей Егорыч.– Не видишь, что ли?
– Ну, тогда порядок в отставных войсках! – объявил Алексей и, сощурясь, прицельно разлил по стаканам.– Давайте, служивые!
Бесшумно торкнулись чарками, Алексей, прихватив помидор, как и прежде, пошел за черемуховые кусты залить свою дозу. И уже возвращаясь, отбросив выжатую помидорную шкурку и освобожденной рукой запихивая в штаны рубаху, на ходу продолжил прерванное.
– Ну, такое, значит, дело… Всем скопом, женщины тоже с нами, пошли смотреть подбитый мотоцикл. Честно сказать, никто из нас, разве что Агапов, не видел убитых немцев. Бить – били, а битых не видели, потому как всё назад да назад… Лежали они над люлькой крест-накрест, во всем своем виде чужие, страховитые, какими бывают приконченные волки. Который за рулем, так и окорячивал сиденье, прижатый машиной. Сам – в темных, глухих очках под насунутой каской, руки в долгих кожаных перчатках похожи на скрюченные лапы. Второй вывалился из люльки навзничь, придавил нижнего, каска съехала на затылок, было видно рыжее лицо, забрызганное веснушками. А ресницы белые, как у молодого кабанчика. Веки не успели прикрыть остекленелые глаза, и они пусто таращились на всякого, кто в них заглянет… Немцы были в черных комбинезонах, рукава закатаны по-за локти. На обоих черные автоматы, какие-то ребристые коробки, а на шее – желтоосмыганные бинокли. Одна из сестричек, Татьянка, заглянула за мотоцикл и сразу отпрянула: «Мама моя, страшные-то какие! Как с чужой земли!»
Мотоцикл оказался простреленным и непригодным. Агапов попробовал отвинтить люльковый пулемет, но что-то не получилось. Тогда он снял с убитых автоматы, вытащил из-за голяшек запасные ложки, велел принести ведро и слить из бачка горючее: «Разольем по бутылкам – мало ли что…» Из карманов выгреб курево, зажигалки, серые немецкие копейки. Потом снял с обоих часы и одни, покрасивше, протянул Татьянке: «На, носи!» – «Да вы что? – отстранилась она.– С убитого?» – «А я возьму! – твердо сказала Константиновна.– Мне часы нужны, пульс не по чем мерить. Оботру спиртиком – небось, и мне не соврут».
– Это же горе, какие мы были вояки! – всплеснулся Алексей.– Часы разглядываем, монетки, фотокарточки из ихних кошельков: «Глянь-кось! Это тот, рыжий, должно, со своей невестой!» – «Фу ты, краля какая!» – «А это очкарик с охотничьим ружьем и собакой, гляди, битыми петухами обвесился».– «Это не петухи, это фазаны, птицы такие». Таращимся этак, мишуру вырываем другу друга, а сами на открытом месте собрались-то, да еще женщины в белом, далеко, небось, видать… Тут и шарахнула мина, совсем близко вскинулась рыжим, пыльным кустом. Ясное дело, первая пристрелка! Сейчас за тем бугром немец подкрутит ручку, и следующая мина как раз будет тут… «Бегом! – заорал Агапов.– Перебежкой, перебежкой! И сразу ложись!» Едва мы отбежали и попадали, как вот тебе три мины, одна возле другой, аж мотоцикл перевернуло кверху колесами. И началось, началось, голуби вы мои!.. Лупил, лупил по дороге, начал бить по заводу, вылетели все наружные стекла, подломилась и повисла на одной жилке железная заводская труба, разворотило крышу. Пулеметчик Кукода кубарем слетел с чердака. Ладно, в склад не попало…
Минут этак пять немец бегло крошил и рушил, а потом замолчал – посмотреть, как себя поведем, чем ответим? А чем отвечать? У нас всего-то один «дегтярь», остальные – винтовки. Ну, еще два трофейных автомата. Правда, некоторые легкораненые поступали сюда со своим оружием, и Константиновна прятала его в подвал. Там нашлось еще несколько винтовок, сколько-то подсумков с патронами и кучка лимонок и противотанковых гранат. В общем, не густо.
Пока было тихо, Агапов собрал всех на короткую планерку, распределил, кому и где держать оборону. Порешили больше не связывать себя с санитарной машиной, а вынести раненых всех до единого из склада, переправить их на ту сторону, а остатки моста взорвать, чтобы немцы не могли его починить. Пока они наведут новый, мы будем уже далеко.
Мне и еще одному – Хлопову – досталась дорога – на тот случай, ежли появится какая техника. Другого въезда в поселок не было. Агапов выдал нам по бутылке бензина, сказал, что больше нету, остальное горючее Константиновна велела отдать шоферу, ему, мол, каждый грамм дорог. А еще осталось по противотанковой толкушке РПГ. Агапов спрашивает: «Бросал когда?» – «Нет,– говорю,– не приходилось…» – «Все просто: вырываешь чеку, вот эту вот штучку, а рычажную скобу, вот она, зажимаешь ладонью. Смотри, до броска не отпускай, а то могилу под тобой выроет, а хоронить будет нечего… Усек?» – «Ну, усек…» – «Повтори!» – «Да ладно, не забыл».– «И вот еще: граната увесистая, дальше двадцати метров не кинешь, так что не трусь, не швыряй раньше времени. Поближе подпускай, чтоб наверняка. Все понял?» – «Да вроде все…» – «Ну, вот и давай… Оставаться тут, пока всех не отправят. Отходить по зеленой ракете, как договорились».
Стали окапываться, рыть ячейки, каждый себе. Хлопов – у того края дороги, я с этого, со стороны завода, метрах в трех от его угла, так что мне сразу две стены видно: и ту, которая к немцам, и которая на выгон, где Ленин стоит. Земля иссохшая, глыбистая, лопата идет туго, приходится больше рубить. Копаю, а сам поглядываю по сторонам. Впереди – клеверное поле с горбинкой, версты за полторы небом кончается. Где-то там, за гребнем, немец затаился… Глянул назад – вижу все лесное заречье, зелено, хорошо так… Плохо только – не видно моста, не знаешь, что там делается, заводская стена застит. У Хлопова позиция получше: как раз над окопом разлатый куст торчит, маскирует Хлопова, можно хоть по пояс высовываться. А главное – видно всю переправу. Кричу ему, чтоб поглядывал туда, держал в курсе.– «Да гляжу, гляжу…» – «И чего?» – «Сестры туда-сюда с носилками бегают, кажись, последний плот собирают…»
Вдруг опять: шара-ах! шара-ах! – минами. Обвалом, без передыха. С заводского двора клочьями взвилась кострика, вороньем закружила в небе. Враз все затянуло пылью, толовой вонью поволокло… Хоп, из-за косогора выскакивают два немецких грузовика, мчат напропалую. Подскочили поближе, через борта запрыгала солдатня и давай вправо-влево рассыпаться, цепью ладиться. Бегут, из автоматов хлещут.
Сам Агапов стал за пулемет, с кирпичного чердака, с обзорного места долгой очередью полоснул по машинам. Одна втемеже полыхнула, занялась жарким пламенем. Вторая даже не развернулась – задом, задом укатила за бугор. Слышу, запукали наши винтовки по разным местам, нескладно, разнобойно. Рядом Хлопов раз за разом садит из-под своего куста. Я тоже начал стрелять, когда немцы поднимались и перебегали. Сведу рамочную прорезь с мушкой, выжду, пока фриц сам на мушку набежит, нажму пальцем – вот тебе вскинулся руками, обронил автомат… Пересуну затвор, выцеливаю нового… Ну да из винтовки много-то не настреляешь, эвон их сколько! И все из автоматов метут, будто горох пересыпают. Пули то и дело – фьють, фьють! – над головой. Вроде голодные пчелы проносятся за взятком. Рядом кирпичная стена от их очередей курится красной пылью…
Но Агапов – молодец! Уложил-таки фрицев, прижал к земле, ловкими очередями не дает им раздогону. Гляжу, шевелятся клевера, мелькают саперки: немцы принялись окапываться, лежа рубят клеверную дернину, выгребают землю из-под себя. Значит, уходить не собираются, будут ждать подмогу… Эх, побыстрей бы, думаю я про плоты, побыстрей надо б…
Посмотрел за дорогу: над Хлоповым окопом вьется дымок. Самого не видно. Небось, сидит на дне, выдохся солдатик. У меня тоже руки дрожат: не могу огнем поймать цигарку. Не со страху, а от напряжения. Оно боязно только до стрельбы, когда ждешь. Думки всякие вертятся: ежли поранят – вылезу ли сам из окопа, ну, и хуже того… Когда ж впервой тряхнет землю, тут только зубы смертно зажмешь и – давай! А вот опосля, когда все стихнет, отпустишь стянутые жилы – вот тут-то и начинает колотун забирать.
Кричу в обе ладони: «Эй, Хлопов! Живой?» – «Жив пока…» – «Много немцев набил?» – «А хрен их знает…» – «Чего делаешь-то?» – «Курю, чего еще… Вон сестра-хозяйка с узлом на спине под горку скандыбает, должно, хозяйство свое на плот несет».—«А плот где?» – «На этой стороне».– «Нам бы еще полчасика продержаться…» – «А там чего?» – «А там – зеленая ракета!»
Покурили, поговорили этак, еще подладили свои окопчики, не знаю, сколь прошло времени, как немцы опять принялись долбить минами. Гадкая это штуковина – мина: от пули за всякой кочкой можно укрыться, даже за воткнутой лопатой, а эта, сволочь, и на дне окопа достанет, и хоть за каменной стеной. Она ить в отвес падает, прямо с неба, будто кара от самого Господа Бога. Убрался я в окопчик, втянул голову, но от этого еще муторней, потому как не видишь, что делается наверху. Улучил минутку, зыркнул поверх кучки земли – мать честная – танки идут! Три штуки из-за бугра вылезли, пока нас минами колотили. Один прямо по дороге, два – обочь, по клеверам, который по дороге – этот точно по мою душу. Вперился в него глазами, как примагнитило. Покошусь на тех двух и – опять на своего. Говорят, так-то гадюка жертву к себе привораживает. Едва успел ухватить глазами, будто светануло у него на башне, как тут же, в един дых, с хлюпом и свистом, аж обдало сквозняком, пронеслось что-то над головой и, когда грохнуло позади, далеко за речкой, только тут понял, что это из танка. Не знаю, куда он целил, но если в меня, то взял высоковато маленько…
Танки не шибко спешат, небось, знают, что против них у нас нет никаких средств, даже паршивой пэтээрки. Останавливаются нахально, водят головастыми башнями, ищут, куда пальнуть. И бьют, особенно по самому заводу, аж в мой окопчик нападало кирпичного крошева. Вот они поравнялись с полегшими автоматчиками, те повскакивали, пристроились сзади, попрятались за броню. Они идут, а ты, как дурак, торчишь в своей ямке и ничего не можешь поделать. Вот тут и заползает в душу ознобная робость. А может, и к лучшему, ежли бы ранило… Ну, не сильно, а так, черкануло бы по плечу или еще как… Крикнул бы Хлопову, дескать, так и так, давай помогай. И мы бы с ним, он – как провожатый, под стеночкой, под стеночкой, а там вниз – и на плот вместе со всеми… Никто ничего не сказал бы, имеем такое право. Ну, ежли так, тогда и вовсе всем крышка, и нам с Хлоповым – тоже. Выскочит сюда танк, увидит плот с ранеными и жахнет по нему без всякой промашки. И поплывут, как тогда, по реке щепки и бревна, пеньки и окровавленные, изодранные в клочья шинелки. А дня через три всплывут и сами бедолаги и замелькают на воде их белые рубахи и подштанники, а среди них – и мы с Хлоповым. А потом уже по деревням заголосят, зайдутся от черной юдоли бабы, прижмут к подолам своих сирых, замолкших воробушков, получивши бумажки о пропаже без всякой вести… Вот этакие мысли забредают в голову, пока нечего делать. И я хватаю винтовку, зажимаю зубы и начинаю бить по своему танку в тупом расчете, что, может быть, хоть одна пуля да залетит в какую-нибудь щелку и врежет гада между глаз.
Таки досадил ему! А может, это и случайно… Как звезданет по дороге, как раз между моим окопом и Хлоповым! Да не раз, а через минуту-две еще раз, едва успел убрать голову. Окликаю Хлопова: «Эй, сосед! Живой?» Молчит… «Эй, слышишь?» Опять молчит. Высовываюсь, гляжу – куста как не было… А вместо окопа – воронка дымится…
Вот, братцы вы мои, какова солдатская жисть… Только что курил и враз – нету, как не было… Подвел его этот чертов куст. Торчал один у дороги, показался танку подозрительным… Давай, Авдейка, улей по граммушке, не могу я этого вспоминать…
Алексей утер кулаком завлажневшие глаза, крякнул, потряс седыми вихрами.
– Ну ладно, ну ладно, все хорошо…– виноватился он, все еще потряхивая головой.– Все хорошо…
Скорбно выпили, и он, взбодрясь, зарассказывал снова:
– Метрах в трехстах немецкие автоматчики опять рассыпались по полю, открыли пальбу. За танком прятаться хорошо, да стрелять нельзя… Стало быть, пошли в последнюю атаку. Тут бы секануть по ним из пулемета, но Агапов что-то молчит, теряет время… Трофейные автоматы похоже, куда-то подевались. Слышны только одни винтовки, три, не то четыре, бахкают с поселковых заводов. Там уже и загорелось что-то, тесовым дымом несет. Ну, а что такое триста метров? Это даже если идти – и то считаные минуты. А они бегут… Правого танка я уже не вижу, скрылся где-то в огородных ракитах. А мой идет прямо на меня. Я уже вижу навешанные на передок гусеницы и даже орудийную дырку на башне… Снял каску, чтоб не маячила, не блестела на свету. Без каски не так заметно выглядывать из-за кучи окопной земли: я русый и земля русая, нашенская. А он уже – вот он, вот он, вот он… В глазах рябит от мелькания гусениц, горячий моторный воздух маревом дрожит за башней… Нагнулся, цапнул в печурке горло бутылки с бензином. Одной ногой заступил на окопный порожек, чтобы враз вскинуться из ячейки… Ну, с богом! Бутылка закувыркалась в небе, описала дугу, угодила в тупой лоб, рассыпалась, как ледышка. Черта с два! Как шел, так и идет! Нырнул я к печурке, схватил гранату, присевши, вырвал кольцо, мертво зажал ту самую скобу… И тут окоп затрясло железным грохотом и лязгом. Черно надвинулось днище, будто на мое укрытие насунули тяжелую плиту. Танк сбавил обороты, и гусеницы провисли над моей головой. Я успел услыхать, как в его утробе глухо урчали шестерни. Теплая капля масла мазнула меня по щеке. Было мелькнула догадка, что немцы собираются меня вытащить живьем и забрать в плен… Но танк задержался лишь на самую малость, в нем что-то заскребло, заскрежетало надсадно, должно, водитель переключал рычаги, мотор взревел ярым храпом, обвислые гусеницы дернулись и заходили на месте вправо-влево. Окоп заволокло пылью и дымом, обвальная тяжесть земли рухнула на мои плечи и спину, чем-то тупо ударило по голове. Я враз обмяк и пьяно полетел в тартарары. Небось, брать меня в плен немцам было меньше интересу, нежели вот так закатать гусеницами, вогнать в готовую могилу, сравнять с землей!..
Не знаю, други-голуби, сколь пробыл я в этой забытости. Но едва в моей голове, вроде как в темном погребе, занялся вялый свет, наперед всего подумалось про гранату. Не о том, что со мной, где я – об этом после пришло, а сперва про нее. Видать, заноза эта сама собой царапала меня изнутри, пока я оставался в беспамятстве. И втемеже похолодел, ознобился до самых пят, когда дошло, что граната осталась без чеки!..
Я долго не смел пошевелить даже пальцами, но потом боязно сжал их и почувствовал округлость рукоятки и упиравшуюся в ладонь скобу. Оказывается, саму гранату я удерживал сдвинутыми штанинами и прикрывал животом. Убейте – не помню, почему я так сделал… Наверно, когда посыпалась земля, я испугался ее уронить и сунул под самый пах. Таким вот манером я оказался скрюченным в три погибели, и токмо ступенька, земляной окопный порог не дал мне свалиться на дно. Ноги мои затекли, а согнутая, придавленная спина оцепенела до судорог. Ежли б меня завалило сыпучим песком с головой, верное слово, я точно бы задохнулся. Но, слава богу, что это была земля… Почти все самое крупное, комья и глыбы, заторилось на мне сверху, и потому я все-таки не лишился кое-какой малости воздуха. Голову мою сильно ломило. Но я остался живой! Живой, братцы мои! Немец не затолок мою душу!..
Надо было, братцы, как-то выкарабкиваться отсюдова. Сиди не сиди, а рано или поздно, когда ослабну вовсе, граната сама выбросит меня из окопа. Было б спрятать чеку в карман! А теперь где ее искать? Я ить и руками пошевелить не способен. Стал я толкаться левым плечом: туда-сюда, так и этак… Земельная мелочь зашуршала, просыпалась под меня, в пустотцы, душно потянуло пылью. Перемогся малость, скопил духу и снова задвигал оплечьем. Вроде как подалось, передвинулось что-то, руке посвободнело. Тогда давай я пальцами копать, печурки делать, потом и всей ладонью грести. Гыречка по гыречке – все вниз да под себя, куда можно. Целую пещерку выбрал с левого боку. Потужился спиной, раз да другой – пещерка обрушилась. Долго обирал себя и обкапывал так-то – вот тебе светушек объявился! Ах сердешные вы мои, глянь-кось, сколько его теперь-то над нами! Дыши, радуйся – не хочу! А тогда и эта малость, дырочка светлая, вот как обнадежила, поманила меня туда, к оставленной жизни! Я не знал, что там, наверху, где немец – про то и не думалось в те минутки. И как было думать, когда я сам свою смерть в руке держу. Сперва надо было с ней совладать, а уж опосля другой смерти бояться. А она не ждет, торопит: вконец онемела моя правая ладонь, не держат гранату пальцы, вот-вот потеряю я над ними власть, выпущу скобу… Напрягся я из последних сил, давил-давил затылком, аж кровь прилила в глаза, да и сковырнул ту глыбину, что саданула меня чуть не вусмерть. Попил воздушку, прояснил голову, давай дальше выкапываться. И выбрался-таки! Оставил там свою винтовку, лопатку саперную, вещмешок с пожитками, сняло землей сапоги, дергал-дергал, да одни босые ноги и выдернул… Но гранату не бросил.
Вылез я поверх осыпи, перехватил гранату из затекшей руки, свернулся в ямке калачом, никак не отдышусь. Была мыслишка швырнуть эту гадину куда попало. Ну да что толку: будь я тут один, а то ж немцы где-то поблизости. Сбегутся на взрыв да и прикончат прямо в ямке. Чего ж я тади выкапывался, жилы рвал? И пришла минута глядеть, что делается на этом свете, куда деваться? Привстал на четвереньки, высунулся самую малость: все вокруг исцарапано, разворочено гусеницами, погрызы аж антрацитом блестят. Здорово танк на мне покобенился! Не жалел зла! Небось, за ту мою бензиновую бутылку… Еще чуть приподнял голову, высунулся за край – и аж по́том прошибло: танки немецкие! Вот они – рукой подать! Все три стоят на выгоне под заводской стенкой. Как раз возле Ленина. И все амуницией обвешаны: на пушках, на буксирных крюках – автоматы, ремни с кобурой, фляжки-баклажки всякие. На моторных решетках штаны с френчами навалены. А возле катков – сапоги парами. У Ленина на шее тоже кипа всякого оружия висит. А самих немцев – нигде ни одного. Токмо голоса ихние слышно, долдонят что-то, регочут по-жеребчиному, вроде как на заводском дворе. И жареным мясом несет, небось, в самый раз обедают.
Ну что, куда деваться? Глянул в поле – ни живой души. Смотреть соблазно, да куда денешься, ежли вдруг мотоцикл или машина какая… И куда придешь? Идти в поле – судьба неведома… И защемило идти к реке, прямо к своим. Каких-то полтораста метров, минуты две ходу. Думаю: по-за стеночкой, по-за стеночкой, только бы завод пройти, округлые ворота, потом вдоль забора и – вот он мост… Перебежать по плахам – а там уж: дудки! Ищи-свищи!
Выбрался я наверх, чувствую, шатает меня, ноги как без костей – не то что бежать, идти – и то боязно. И голову ломит. Шажок по шажку – минул голое место. Добрался до танков. Честно сказать, жутковато проходить мимо: набоялись мы этих чудищ, пока на восток уходили, наслушались про них всякого. Даже на погляд лютые. Особенно кресты пугали. И оружие – вот оно, любое. Но не имел я к нему интереса, геройствовать не собирался, не было сил. Одного только хотел – на тот берег.








