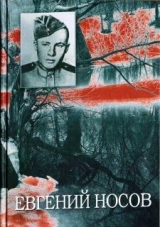
Текст книги "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…"
Автор книги: Евгений Носов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
Памятная медаль
В канун Дня Победы Петр Иванович Костюков – по-расхожему Петрован – получил из района повестку с предписанием явиться тогда-то к таким-то ноль-ноль по поводу воинской награды.
– Это которая-то будет? – повертел бумажку Петрован.– Сёмая не то восьмая? Уж и со счету сбился…– нечаянно приврал он.
– А тебе чего? Знай вешай да блести! – разумно рассудила почтарка Пашута, одной ногой подпиравшая велосипед у калитки.
«Когда и успела этак-то загореть, обветриться: лицо узкое, темное, новгородского письма, подкрашенные губы – те и то светлее самого лика. Свежая еще, а ведь ей, поди, уже под семьдесят»,– просто так подумалось Петровану.
– Не себе, так внукам-правнукам потеха. Да и сам когда тряхнешь при случае,– как бы уговаривая, весело прибавила Пашута, как привыкла, объезжая околоток, помимо почтового дела – старого утешить, малому нос утереть.– Пляши давай!
– Этак никаких грудей не хватит,– мучился смущением Петрован.– Аж пиджак на перекос пошел: пуговицы с петлями не стали сходиться. Хватит бы… Я ведь только одну неделю и побыл под Старой Руссой. А они всё вручают и вручают… Вон Герасим, тот до самого Берлина дошел, на ристаге расписался – на него и вешали б…
– Вешать-то не на кого: плохой стал Герасим. Его теперь всякая граммуля долу тянет.– Пашута поправила алый шарфик, продернутый серебряной нитью, забрала его за ворот куртки.– Давеча была я у него: сам не вышел, внучка выбежала, за повестку расписалась. Говорит: лежит дедушка, не встает.
– Ну да, ну да…– запнулся Петрован.– Стало быть, Герасима тоже согнуло… Дак ить он аж два раза навылет простреленный. В грудях и доси свистит. А ежли закурит, дак курево вроде из-под рубахи выходит. Весь дырявый. Бывало, засмеется: через меня оса наскрозь пролазит…
– Небось шуткует,– усмехнулась Пашута.– Дак и у тебя эвон какой рубец – во весь лоб. Как и живой только… И на руке пальцев нету, даже кукиш не сложишь.
– Э-э, девка! – отмахнулся Петрован.– Кабы б я руку в самом логове повредил, это б совсем иная разность. А то вроде как у тещи на огороде. В том-то и досада.
– Ну, да теперь какая разница? Кровушка-то все равно пролита?
– Тебе, может, и без разницы, а мне и доси обидно…
– Ну, в общем, Петр Иваныч, поздравляю с наградой!…– Пашута, собираясь ехать, оттолкнулась от штакетника.– Давай готовь пиво, скликай гостей.
– Ты, может, зайдешь? – намекнул Петрован, придержав Пашуту за небесную болоньевую куртейку, озарявшую все вокруг себя голубым и весенним.– Ты ить первая весть принесла. С тобой и чокнемся!
– Не, парень.– Пашута мотнула вольными, без косынки, кудрями.– Мне сичас нельзя: за рулем я. Еще ж в Осинки педали крутить.
– А там к кому?
– К Пожневу. Василь Михалычу.
– А Макарёнок живой?
– Это который?
– Ты че, Макарёнка не знаешь? Он ить тоже из наших, из ветеранских…
– Да кто ж такой – не упомню?..
– Изба за протокой. Всегда под его окнами гармошка пиликала, народ толокся.
– А! Макар! Макар Степаныч! – вспомнила Пашута.– Шавров его фамилия. У меня по спискам – Шавров.
– Ну, тебе – Шавров, а мне – Макарёнок: в одну школу бегали.
– Этого давно нет, дом крест-накрест заколочен. Года два, как нету…
– Уехал куда? У него, кажись, сын в Набережных Челнах.
– Из больнички не вернулся. Стали старый осколок доставать, будто бы мешал, что-то там передавливал, а мужик и не сдюжил… Не пришел в сознание.
– Дак, а Ивашка Хромов?
– Тому медали больше не дают.
– Это почему? – насторожился Петрован.
– А он по электричкам подался. На культе рукав задерет и – «Подайте минеру Вовке!..»
– Он же Иван, а не Вовка?
– Дак это – участник Великой Отечественной войны, а сокращенно – ВОВ. Ну, а он себя – Вовка. За то и не дают ему медалей. Боятся, что пропьет. Он же все свои прежние пустил на похмелку.
– Ну и посадили б, раз так.
– Дак вроде не за что: не украл…
– Лучше б украл: все ж варево на кажный день. И в баню сводили б… А так позор заживо съест.
– Это правда. Видела его на станции: опух, зверем зарос, босый ходит, ногтями по настилу стучит. От меня отвернулся, будто не знает такую.
– Стало быть, в Осинках теперь – ни души?..
– Один Пожнев и остался. Да и тот все ногу на подушке держит, лопухами обкладывает Ему б на грязи, да грязи нынче кусаются… Такие дела… таковские… Тот раз, к писятлетию, шестерым повестки возила, а нынче – только одну.
– А в Клещеве – как?
– Туда уже не шлют…– Пашута перекрестила шарфик.
– Да-а,– обреченно заозирался по сторонам Петрован.– Лихо косит нашего брата. Уже к последним рядкам укос подобрался: к двадцать пятому да двадцать шестому году. То спереди меня, то позади вжикнет… А иные раньше моего под стожары убрались.
– А чево хотел? Народ вовсе брошенный. Особенно в деревнях. Я езжу, дак вижу: ни ёду, ни марлички. Здравпункты травой поросли, обрезают туда провода, режут за неуплату телефоны… Что случись – не докричишься… Ну, поехала я, а то не туда мы заговорили. Надо б радоваться: за медалью зовут, а мы… Держись, Петр Иваныч, не поддавайся лиху… Да собирай гостей…– И Пашута белым курносым кедом порывисто надавила на взведенную педаль.
– Да, Пашка, да, девка…– неопределенно проговорил Петрован и перевел прищур с мелькавшей кедами почтальонки на разбродно и ленно бредущие в майском небе облака, как бы безвозвратно уносившие в вечность земные дни и мгновения.
В прежние времена из Брусов, где проживал Петрован, за юбилейными медалями отправлялось немало бывалого люду, из коего, если б подровнять носки, можно было выстроить не меньше взвода. Но вот и в Брусы пришел предел, и теперь из всех уцелел один Петрован, пока пощаженный лётом времени, поди, из-за того, что был он сух, скрипуч и шершав, как пустырный кузнечик. Несмотря на недочет пальцев, остался он хваток до всякого дела: тесать, пилить, виртуозничать стамеской, плести грибные кузова, класть легкодымные печи и лежанки и много еще чего. Но пуще всего отдавался он тракторному делу, которым заболел еще мальчонком, и два года перед войной провел прицепщиком. Семь ребячьих шкур спустил на жаре, по августовскому чернопаху, и белых мух вдосталь наглотался из снежных зарядов, а однажды задремал за плугом да чуть было не сбрушило лемехом, расчищенным добела. Но ничто не отвратило его от трактора, от керосинового пота и натужного рева и грохота. Даже в свои семьдесят лет он, как прежний Петька Костю к, в неизбывной восьмиклинке с пуговкой на макушке, еще гонял на многопрофильном тягунке: окучивал колхозную, уже ельцинскую, картошку, морил колорадского жука, подбрасывал солому на ферму, бульдозерил на разъезженных дорогах – делал из грязи асфальт и ровноту. Он и теперь бы колесил на своем «Беларусе», понимавшем Петрована с одного кивка, если бы колхоз не распался на дольщиков, из коих кто-то однажды ночью выкрал из того «Беларуса» еще теплое сердце – чиненый-перечиненый движок, а на прокеросиненном сиденье оставил крутую лепеху с огуречными семечками…
Тем же вечером Петрован велел жене Нюше истопить баньку и, пока та носила в котел воду и шебуршала берестой, налаживая пар, он, стащив рубаху и приладив на поленнице косяк битого зеркала, обстоятельно и придирчиво обстриг покороче отпущенную было на волю, не шибко дружную бороденку, а заодно и укоротил лешачьи брови, уже начавшие застить белый свет.
– А ну глянь, ровно ли? – представился он жене, вскинув подбородок.
Нюша, крупная, рукастая женщина, ухватила Петрована за сухонькие остряковые плечи и повертела туда-сюда, сощуренно отстранясь и сведя губы дудочкой.
– Ну, чего? Нигде не торчит?
– Вылитый царь Николай! – усмешливо одобрила Нюша.– Чуток бы росточку и – в самый раз на престол!..
– Ладно тебе! – не принял похвалу Петрован.– Все шуткуешь. А мне на люди идти. Глянь заодно, как там плешка: далече ль расползлась? Мне ить не видно. И зеркало никак не наведу – пляшет все…
– А тебе какая разница? Все одно в картузе пойдешь…
– Оно-то так…– задумчиво потупился Петрован.– Дак бесова печать и под картузом свое берет, человека изводит А ить еще недавно со сна расчесать не мог. А? Нюш? Ужли забыла? И у тебя какая коса была – сущее перевясло! {86} Куда все девалось…
– Туда и девалося…– Нюша шутливо взъерошила легкую седень на детской голове своего суженого и поддала ладошкой под зад, по пустым дряблым штанам.– В чем пойдешь-то: в сапогах али в плетенках? На дворе уже обсохло, можно и в плетенках: эвон сколь пёхать – умаешься, ноги в сапогах набьешь… Оне теперь и вовсе негожи. Сколь им годов-то? Боле полста минуло? Ты в них ишо аж с войны вернулся.
– А чего им сдеется? – Петрован еще раз взглянул на себя, стриженого, в косое зеркальце.– Я в них только на чево важное. Однова в году, а то и реже. Даже подковки целы. Бывало, и за два, и за три года ничего такого, чтоб в сапогах… Правда, последний раз не так давно обувал. Той осенью, на Покрове,– в Ряшнице Сингачёва хоронили, одногодка. Наград – куда больше мово, двенадцать мальчиков несли… Из карабинов палили. Раз, да другой, да третий… Да-а… А больше никуда не хаживал, все чаще в кедах да плетенках. Теперь дак и на похороны не зовут: дорого стало. Приезжего человека надо ж приветить, угол ему определить, опять же и поужинать, и позавтракать. Допрежь так-то было, а теперь не стало, ближними обходятся. Сколь уж за последнее время нашего полку отошло, а я про иных и не знаю. Радио молчит, небось, проволока соржавела, а газет не читаю – опять же накладно… Ты, Нюша, вот чего… Помажь-ка сапоги деготьком, а я, когда помоюсь, в теплой баньке повешу на ночь, они и помягчеют расправят слежалые колдобья. Только голяшки не пудри: кирзу удабривать бесполезно.
После бани, неспешной и расслабляющей, Петрован надел все чистое, запашистое, отутюженное, прибавившее ему довольства и еще большего умиротворения, и так, в исподнем, с незавязанными тесемками на груди и с распушенной головой и округлой ежовой бородкой, похожий на равноапостольного святого – разлюбезного целителя Пантелеймона {87}, с запихнутой за спину подушкой, чтоб ненароком не продуло, не задело задремавший с пару радикулит, пил с Нюшей крутой чай из разговорчивого самовара, в точности отражавшего одной стороной всю его, Петрованову, белизну и заоблачность, тогда как другим боком цветасто пестрел новым Нюшиным халатом. Чаевничали перед окном, распахнутым в майский румяный вечер с золотой полоской над дальним лесом, в завтрашний Велик День, коим в этой избе уже более полувека считалось Девятое мая.
Петрован в таких случаях требовал себе блюдце, придававшее чаепитию особую неспешность и значимость. Испив и накрыв чашку, он сладостно утирался красно размереженным рушничком, им же обмахивался, будто веером, и добродушно говорил что-либо обычно молчавшей Нюше:
– Вот ты давеча: картуз да картуз… Да не картуз вовсе! Не картуз, а фуражка. Фу-раж-ка! Сколь тебе говорить? У картуза околыш просто так, штоб на ушах держался, глаза не застил. А у фуражки околыш со значением. Чтоб издаля было видать, кто перед тобой, в каком войсковом служении. Допустим, идет тебе навстречу чин с красным околышем, кто таков, а? Ну-ка, скажи…
Нюша делает вид, будто не расслышала вопроса, принимается подкладывать Петровану засахаренную клюкву.
– Нет, ты скажи, скажи, не увиливай,– начальственно твердел голосом Петрован…– Кто таков в красном околыше?
– А-а подь ты! Ничево я вашева не знаю.
– Погоди, сразу и не знаю… Я ж тебе про все это рассказывал…
– Забыла я за ненадобностью.
– Ну, вот тебе – за ненадобностью. А ежли я тебе встречусь, то в каком околыше?
– А ляд ево знает…
– Запомни: в черном я буду. В черном!
– А пошто – в черном-то? Али ты хуже всех?
– Танкист я, вот пошто. Танкисты черные околыши носят А еще – артиллеристы. Потому как техника. Сталь да чугун, дым да копоть. Тут красное или зеленое не к лицу. А черное – в самый раз. Это по праздникам. А так, по будням, я в шлеме должен быть. Дак на войне и ходили только в одних шлемах. А фуражек и не было, не успевали получать, потому как праздников не случалось: всё бои да ремонты. Рваную гусеницу закувалдишь – фрикцион полетел… Сходил в атаку – башню заклинило… Да оно зимой фуражка и не по делу: уши только морозить. А ветром сдует, дак потом сколь по снегу бежать за ней…
Когда ходики хлопнули дверцей после одиннадцатого кукования, Нюша окончательно изнемогла и, не убрав посуды, хватая притолоки и простенки, тучно квохча и булькая чаем, убрела в свою каморку. Петрован, вобравший в себя столько банного и самоварного тепла и благодати, потом долго онемело остывал и приходил в себя, сонливо, уморно слушая, как постанывал и покряхтывал старый оседающий дом, а в сухом сосновом стояке, с виду крепком и надежном, мелко строчила невидимая крошечная козява, прогрызая себе новый ход и изводя сердцевину стояка, опору дома в мучную праховину. И лишь когда усталая кукушка вяло оповестила час ночи, Петрован спустил ноги в стоявшие у подножья стула разлатые, надрезанные в голяшках домашние валенки и белым привидением беззвучно прошел к глухому самодельному шифоньеру, все еще угарно отдающему тяжелым смоляным лаком. Из его глубины он извлек свой специальный наградной пиджак и, неся его выше себя через горницу, зацепил крюком вешалки за лобный вырост лосиной лопатины, приколоченной меж горничных окон.
Пиджак был куплен намеренно из темного сукна, чтобы лучше виделись чеканные знаки поощрений. При этом Петрован руководствовался не мелким тщеславием, дескать, глядите, какой я герой, а вековым крестьянским почтением ко всему, что свидетельствовало бы о российской истории, ее поворотах и разворотах, участником которых он чувствовал себя теперь только через этот свой пиджак, лунно отсвечивающий медалями, к которому и Нюша тоже относилась уважительно и даже побаивалась его важной и отутюженной солидности, что, впрочем, не помешало ей набить рукава и внутренние карманы терпкой огородной полынью – от моли. На левой его стороне висело семь медалей: четыре в верхнем ряду, три – в нижнем. Казалось, Петрована приглашали на завтра только затем, чтобы окончательно заполнить нижний ряд недостающей медалью.
По правде сказать, эти знаки на левой стороне уже давно не вызывали у него полностепенного удовлетворения: он испытывал чувство какой-то непричастности к их торжественному побренькиванию и блеску, и когда вынужден был надевать этот свой парад, то ходил на два румба недоразвернуто левым плечом, обремененным ликующей тяжестью медалей. Наверно, причиной такой неуверенности явилось то, что среди его наград не было за оборону Москвы, Сталинграда, Кавказа, Одессы или Севастополя, так же как не было и за взятие Вены, Будапешта или Праги и тем более Берлина. Ничего этого Петрован не оборонял и не брал, потому как никогда не был в тех городах и странах. Просто все его медали имели юбилейный статус, то есть считались не боевыми, а лишь «по случаю» и «в ознаменование», что и заставляло Петрована носить их как бы бочком, с застенчивой отрешенностью. К тому же, как говорили иногда между собой старые солдаты, наградного кругляша, заменившего все остальные знаки внимания и поблажки, с годами становилось лишковато, а его звон все дробней и чешуйчатей, что вовсе не прибавляло славы и твердости в поступи, а только вызывало снисходительные улыбки заматеревших внуков.
Это всё – на левой стороне бравого пиджака, тогда как на противоположной, у края лацкана, где-то ниже ключицы, одиноко обозначалась темной эмалью «Красная Звезда», ничем не приукрашенная, без взблесков и сияний, в своем простом естестве больше похожая на солдатскую шапочную эмблему, нежели на боевой орден, долженствовавший вызывать у зрящих незаурядность свершенного. А между тем сей одинокий знак, некогда почему-то отнесенный статусом на пустую левую сторону, Петровану был дороже и родственней всех остальных семи, издававших главный звон при параде. Порой, взглянув на него, Петрован все еще испытывал внезапный сердечный толчок, горячо обжигающий подреберье, наверное, оттого, что воочию ощущал в бордовой, как бы загустелой пятиконцовой заливке ордена собственную спекшуюся кровь, в которую, казалось, и теперь можно было макнуть палец… Однако все свое наградное хозяйство Петрован блюл и содержал в надлежащем порядке, никакой чеканке не отдавал предпочтения, а каждую обстоятельно протирал обмакнутой в соду льняной тряпицей, давая просохнуть, и затем уж принимался гонять бархоткой. После такой процедуры, совершаемой в полном одиночестве глубокой ночи или когда никого нет дома, Петрован помещал каждую воссиявшую награду в целлофановый пакетик от сигарет. Приходящиеся весьма кстати пакетики он заведомо собирал и в такой оболочке оставлял медали висеть на пиджаке до очередного выхода.
И вот завтра, на рассвете, он натянет остро пахнущие сапоги, пройдется в них туда-сюда, примеряясь к неблизкой ходьбе, потом, поплескавшись под кухонным рукомойником-чурюканом, обрядится в летнюю комсоставскую рубаху в четких квадратах лёжки, привезенную племянником аж из самой Москвы для таких вот случаев, разберет на две стороны остатки своего русокудрия: поменьше – на правый висок, побольше – на проступившее темечко, непослушный пробор смочит с руки чайной заваркой и, оглядев себя в зеркале, подведет некий итог: «Не сказать, што герой, но уже и не лешай». И лишь перед самым выходом торжественно и бережно наденет всегда готовый, отутюженный пиджак, ожидающий его на лосином роге, снимет с медалей целлофановые сигаретные обертки, энергично, до звука воссиявшей бронзы одернет его полы и на всю дорогу построжает лицом, помеченным над левой бровью багровым шрамом.
Дорога в район не длинная, но бестолковая. Прежде, при советах, мимо Брусов раза четыре за день пробегал пазик: полчаса – и там. Пока картошка варится, можно было смотаться за камсой и хлебом. Нынче автобусик куда-то подевался, и приходится сначала верст пять пёхать в обратную от района сторону, а потом уж – на электричке. Да и то: электричка приходит не в город, а на станцию, от которой еще топать и топать до центра. Или гони еще два рубля за вокзальный автобус. Правда, с Петрована, особенно когда он весь в медалях, не брали ни копейки.
Петрован при такой крутне не успел в одночасье справиться со своими делами и воротился домой аж на другой день.
Он вошел в родные Брусы, устало опав плечами, перехлестнутый прямо по медалям пеньковым шнурком с бубликами, которые в последнюю минуту купил в электричке. От пыли его надегтяренные сапоги сделались похожими на серые валенки, и шоркал он ими нетвердо, с подволоком, как в старых, разлатых пимах. Фуражку с черным околышем он нес в руке, а вместо вчерашнего пробора на голове трепетал спутанный ковылек, светлым нимбом серебрившийся против солнца.
Первыми, еще у околицы, встретились ребятишки, Колюнок и Олежка, весь день выглядывавшие его на дороге.
– Дядь Петрован,– канючили они, семеня обочь.– Получил медалю? А дядь Петрован?
– Подьте вы…– продолжал брести Петрован.
– Покажь, а?
– Эки репьи!
– Пока-а-ажь. Хоть издаля…
– Ну, че? – остановился наконец Петрован.– Че показывать-то? Ну, вот она…– Петрован выколупнул из-под деревянно загремевших бубликов яркий, совсем новый бронзовый кругляш с каким-то дядькой, одной только головой во всю окружность…– Вот она…
Колюнок и Олежка вытянулись молодыми петушками, затаенно примолкли.
– Хоро-о-шая! – едино признали они.– Эко блестит!
– Блестит-то она блестит…– сокрушился Петрован.– Да… как вам сказать, ребятки… Не моя она…
– Как – не твоя? – вроде как испугался Колюнок.
– Ты ее нашел? – раскрыл рот и Олежка.
– А-а…– трехпало махнул Петрован и, заломив несколько бубликов, насыпал румяного крошева в черных маковых мушках в подставленные ладошки.– Давай, мыши, грызите… Вам этого не понять…
Над его избой струилось бездымное прозрачное маревце, пахло печеным. Это означало, что Нюша, дожидаясь его с наградой, истопила печь и напекла шанег. Но домой он, однако ж, не пошел, а, минув еще три избы, свернул к четвертой, Герасимовой.
Немогота хозяина удержала его жену Евдоху выставлять зимние рамы, а потому в избе накопилась испарина, запотелые окна тускло, заплаканно глядели на волю. К духу упревших щей, заполнявшему жилье по самые матицы {88}, примешивался пронырливый, как буравец, запах валерьянки – от Герасима, из его каморы.
– Ляжит… Ох, ляжи-ит!..– сразу заголосила согбенная, встрепанная Евдоха, увидев на пороге Петрована.– Проходь, проходь к нему, касатик. То-то буде радый! А то нихто ничево… Слова днями не слышит. Одна я… Ну, да я ж ему че путного скажу-то?.. Очертела, поди… Хуже скрипа колодезного… Вот ждал-ждал внуков – по головке погладить, а и те по чужим городам… Кабысь не себе рожали… Наказание господне… Проходь, проходь, Петя…
– Кто там прише-ел?..– квело донеслось из-за горничной глуби, следом послышался сухой свистящий кашель и долгий изнуренный стон.
– Иди, не бойся,– подбодрила Евдоха.
Сняв с себя бублики, Петрован обладил виски, и, невольно приподняв плечи, как бы крадучись, ступил в горничный проем. Слабо мерцавший в углу святой Николай приветно покивал ему огненным острячком лампады, и тот ответно осенил себя торопливой щепотью, отчего на его груди тонкой звонцой загомонили медали, услышанные, однако, Герасимом.
– Да кто там? Петрован… ты, что ли?
– Да я, я… Кому ж еще…
– Че дак… путаешься? Ай ход забыл?
– Дак иду. Вот он я!..
В мерклом, безоконном застенке Герасим дожидался его в своей кровати, нетерпеливо приподнявшись на локте. Он был в исподней рубахе, бледно-желт иссохшим лицом, оснеженным на скульях и подбородке сивой недельной небритостью. Петрован неловко поддел под Герасима руки, обнял его, как если бы то был мешок с чем-то, и, сам сбившись с дыхания, поздравил с ветеранским праздником.
– А рази не завтра? – усомнился Герасим, обессиленно отвалясь на подушку.
– Не, братка. Седни аккурат девятое число. В районе прям на домах написано. И флаги кругом…
– Ага… Может, и так… А я лежу тут, в застенке… Только мухи и гундят… Деньки стороной обегают, без меня обходятся. Намедни будильник и тот итить отказался… Вконец свое истикал… Дак и я тоже…
– Давай посмотрю,– предложил Петрован, еще умевший ладить часы, правда не дюже мелкие.
– А-а…– Герасим прикрыл темные, отяжелевшие веки.– Теперь и ни к чему… Часом больше, часом меньше… Тут, без окон, все едино: што день, што ночь…– и, взяв с приставленной тумбочки ложку, позвякал ею по белой эмалевой кружке.
На стук объявилась настороженная Евдоха.
– Че тебе?
– Как это – че? День Победы нонче! Вон и гостьва пришла – Петр с Иваном. У тя нету ли маленько? От Степки, кажись, оставалось?
– Осталось, дак на дело: когда че заболит…
– Вот и давай…
– Дак тебе низя! – воспротивилась Евдоха.
– Ладно – низя. Не твое дело.
– Как же – не мое? А за «скорой помочью» кому бечь? К телехвону? Четыре версты до сельсовету. Тот раз побегла, а там – замок, работа кончилася. Благо Митрохин малый на мотоцикле попался, домчал до станции. Дак чуть не обмерла рачки сидеть. А он, блудень, как нарочно – по кочкам да по калюжам… Ужасть чево натерпелася…
– Ладно тебе маневры делать, зубы заговаривать. Ить же сказано: День Победы! Чево ишо говорить? Тут не можешь, а – надо… Огурчиков-помидорчиков тоже подай…
– Май на дворе – какие огурчики?
– Ну чево найдешь…
– Да чё я найду-то? Али не знаешь? Ждите, картохи наварю. А то вон Петрован «ноликов» принес… Целую снизку.
Козюлилась-козюлилась баба, а чуть спустя, сгорнув с тумбочки аптечные пузырьки и все остальное ненужное, принесла миску квашеной капусты, перемешанной с багряными райскими яблочками, подала в глиняной чашке рыжичков в ноготь, так и оставшихся оранжево-веселыми еловичками, потом – тертый хрен, запахом затмивший и квашеную капусту, и бочковые грибки. Уж больше и ставить некуда, но, потеснив посудинки на самую середину тумбочки, Евдоха водрузила жаркую сковороду с шепеляво говорившей глазуньей. И лишь после всего внесла сразу на обеих ладонях, как бы притетешкивая на ходу, бутылку «Стрелецкой степи», располовиненную еще сыном Степаном, нечаянно нагрянувшим зимой из своих Челнов по случаю командировки.
– Можа, петуха изловить? – предложила Евдоха, недовольно оглядывая в пять минут сотворенный стол.– Все равно не нужен пока: клухи уже с цыплятками, а яйца и без петуха сгожи… Да я б и зарубила, а только забежал кудысь, гуляка…
– Куда ж с добром! – остановил Петрован бабий пыл.– И так ставить некуда. Вон сколь всего!
Правда, в доме не оказалось хлеба, но Евдоха и тут выкрутилась, не сплоховала, а принесла Петровановы «нолики» и зацепила за шишку Герасимовой кровати.
– Ну, брат…– торжественно вздохнул и недосказал Петрован и, ерзнув, пододвинулся вместе с табуреткой поближе, половчее. Он осторожно, будто опасную мину, приподнял бутылку и медленно, бережно наклоняя, тонко разлил по шестигранным, на долгих ножках, старинным рюмкам, еще звеневшим, поди, на Герасимовой свадьбе, нечто полынное, взаправду стрелецкое и степное.
– Ну,– повторил Петрован, озабоченно вглядываясь в Герасима.– Вставай давай, што ли… Рано тебе еще…
– Да где уж…– полулежа на правом боку, Герасим дрожливо приподнял свою долгую хрупкую рюмку, похожую на балетную барышню. Задумчиво глядя на золотистый налив вина, охваченного хрустальными гранями, мерцавшими в полусвете каморы, он трудно, одышливо изрек из своей напряженной глубины: – Што теперь… Я не за себя поднимаю это… Мое все проехано… Больше хотеть нечево… Я за неприбранные кости… Вот ково жалко…
Отдыхая, он помолчал, подвигал сопящими под рубахой мехами, и, умерив дыхание, тихо продолжил:
– Перед глазами стоит… Упал в болотину и затих… Мимо пробежали, прочавкали сапогами – не до нево… День лежит, неделю… Никово… Вот и воньца пошла… Муха норовит под каску, к распахнутому рту… Потом села ворона, шастает по спине туда-сюда: ищет мяснова… Набрела на кровавую дырку в шинели, долбит, рвет сукно, злится, отгоняет других ворон… Ночью набредет кабан, сунется рылом под полу, зачавкает сладко… А там само время съест и сукно, и металл… И забелеет череп под ржавой каской, осыпятся ребра, подпиравшие шинель… На том месте опять ровно станет… Молодая березка проклюнется скрозь кострец… А любопытный волчок отопрет в чащу сапог, чтобы там, в затишке, распознать, што внутри громыхает… Как зовут его, этого солдата, откудова родом – уж никто и никогда не узнает…
– Ну, будя, будя! – Петрован заотмахивался свободной рукой.– Тебе нельзя говорить столько. Эко повело!
– А таких миллионы,– продолжал выговаривать свое Герасим.– Это ж они, не прикрытые землей, теперь не дают ходу России. С таким неизбывным грехом неведомо, куда идти… Сохнет у народа душа, руки тяжелеют, не находят дела… И земля не станет рожать, пока плуг о солдатские кости скрежещет… Оттого и не знаем имени себе: кто мы? Кто – я? И ты кто, Петра? Зачем мы? И чем землю свою засеяли?
– Ну все, Гераська! Давай лучше выпьем! Чтоб всем пухом…
Петрован протянул свою рюмку к Герасимовой и подождал, сочувственно наблюдая, как тот, выпятив губы, будто конь из незнакомой цибарки, короткими движениями заросшего кадыка принимал победное питье. И только когда Герасим одолел половину граненой юбочки и опустил остальное, Петрован испил свое до самого донца.
Хозяин долго лежал навзничь с закрытыми глазами, и темные его веки мелко вздрагивали от толчков крови в синих подкожных прожилках.
– Живой? – озаботился Петрован.– Ай не пошла?
– Да вот слушаю,– как бы издалека отозвался Герасим.– В груди вот как замлело! А в голове – вроде красной ракеты. Махром расцвело…
– Ну, слава те…– расслабился Петрован и враз развеселился: – Красная ракета – это тебе сигнал: «В атаку!.. За мны-о-ой! Короткими перебежками – пше-е-ол!»
– А-а…– тряхнул желтой кистью Герасим.– Тут хотя бы до ветру… А то пришло – в бутылку сюкаю… Расскажи лучше, как съездил-то? Медаль получил?
– Да, считай, получил…– как-то нехотя признал Петрован.
– Покажь, чево там напридумывали?
– Да вот… Маршала Жукова дали {89}.
– Жукова?! – оживился Герасим.– Ох ты…
Петрован высвободил из нижнего ряда новую свою награду и протянул Герасиму. Тот бережно принял ее в восковую ямку ладони, поднес к глазам.
– Он, он! – сразу признал Герасим.– Эт как беркутом глядит! Из всех маршалов – маршал! А ты што ж ево не по чину-то? На нижнем ряду повесил? Ево надо эвон где, сверху всех медалей. Там, где Ленина вешают.
– Дак она и дадена не по чину…– крутнулся на табуретке Петрован.– Не тому Федоту.
Петрован принял медаль обратно, но не стал вешать на прежнее место, а как ненужную сунул в пиджачный карман.
– Как это – не по чину? Ты че мелешь?
– Неправильно это… Я и там комиссару говорил, что со мной ошибка какая-то… Не тому медаль выписали… А он только смеется, по плечу хлопает, дескать, все правильно, носи на здоровье.
– Дак че неправильно-то? – опять притворил веки Герасим.– В чем ошибка, не пойму я?
– Ну, как же! У нас совсем другой командующий был. Под Руссой-то… На Северо-Западном. У нас генерал-лейтенант Курочкин, Павел Ляксандрыч {90}. Лысоватенький такой, ростом не шибко штоб, годов сорока, а вовсе не Жуков. Маршал Жуков у вас командовал, на главных направлениях. Потому медаль эта неправильно дадена. Как же я ее выше всех повешу, ежли она незаслуженная? И так уже сколь надавали…
Герасим оставался лежать с закрытыми глазами, и Петрован, озаботясь, что тот вовсе не слушает его, пустился еще рьяней объяснять случившееся недоразумение.
– Вот тебе Жуков в самый раз. Ты ж и под Москвой окопничал, и под Сталинградом, и на Курской дуге, а потом Берлин брал… И все под Жуковым. Эвон сколь прошел! Чево повидал, насмотрелся… А я чево? Да ничево! Все под Старой Руссой да под Старой Руссой. Там все мое направление, весь главный удар…
– Ну, дак тоже небось не в карты играли…– не открывая глаз, проговорил Герасим.
– Играть, может, и не играли, окромя разведки. Но, бывало, как занесет, как заметелит, аж колючей проволоки не видать, поверх заграждений навалит. Передок – што неписаная бумага – нигде ни точки, ни запятой. И вправду, хоть сдавай под дурика. Однако с картами было строго. Заметят при солдате карты или крестик нательный – сразу в особотдел. Разведчики, те поигрывали – на трофейные сигареты, на немецкие пуговицы. Они картами у немцев разживались. У тех почти у каждого по колоде. И по губной гармошке. Пошвыряют в нашу сторону минами, измарают снег вокруг окопов торфяной жижей и – в теплую избу кофей пить, под хвениги резаться. Отчего б и не резаться? На то тебе все условия. Зимуют они на высоких местах – в теплых сухих блиндажах да избах, русские печи топят, амуницию сушат, спят на двухэтажных топчанах, до подштанников раздеваются. Тут же в сенях из выпиленных амбразуров пулеметы торчат, а то и орудия. Культурно! Чего ж так-то не воевать? Ну а у нас война совсем другая. Болота да низины. На два штыка копнул – вот уж и вода. Какой тебе блиндаж? Приходится не в землю зарываться, а землей обкладываться… Ну, конешно, в таких условиях ни поспать по-людски, ни посушиться… Мох чуть ли не на шинелках растет, в стволах за ночь ржавеет А ежли чего подвезти, то сперва гать кладут, сколь лесу изводят… Одна из этого польза: мины да снаряды часто не взрываются: как уйдет в хлябь, так и с концами.








