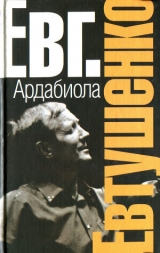
Текст книги "Ардабиола"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
– Скучно… – сказал он, лениво отталкиваясь ногами от земли. – Не пить – скучно, пить – тоже скучно… Особенно эту дрянь… При всей фантазии «Розовое крепкое» не «Белая лошадь», которая, как в стойле, застоялась в шкафчике у твоего предка, Фантомас… Редкое в Хайрюзовске животное… Правда, это всего-навсего сувенирное пони. Ты меня усек?
– Усек, Философ… – подобострастно соскочил с качелей белобрысый толстый подросток, похожий на кролика-альбиноса, и растворился в темноте. Другой подросток со значком «Бони М» на куртке, ожидающе вытянув хрящеватый носик, усеянный мелкими веснушками, перестал качаться, готовый тоже соскочить и раствориться в темноте, если надо. В его еще совсем детских глазах, рыжих, как перепрыгнувшие с носа веснушки, одновременно светились и жажда, и страх перед указаниями. Но указаний пока не было.
Философ продолжал раскачиваться, уже не сдерживая качели. Его лицо то попадало в полосу света из окна детсада, то ныряло во мглу. Но с каждым появлением из мглы на свет оно менялось. Глаза стекленели, черты окаменевали. Философ думал. Качели взлетали все выше и выше, и все дольше лицо Философа, покидая свет, находилось в темноте. А когда оно возвращалось, то набранная там, вверху, темнота оставалась внутри напряженных, но мертвых глаз. Философ взлетал уже до самой перекладины.
– Сорвешься, Философ! – испуганно закричал веснушчатый подросток.
– Заткнись, Пеструшка! – раздался сверху жестяный хохот.
Философ взвился уже выше перекладины. Но трос заскрежетал, и стальная петля выскочила из крюка на перекладине. Качели рухнули на землю. Философ остался лежать ничком в беспощадной полосе света из окна детсада. Спрыгнув со своих качелей, Пеструшка бросился к Философу. Но тот зло оттолкнул его, уползая из полосы света в темноту. Философ сел на барьер детской песочной площадки, облизывая ладонь, с содранной кожей. Философ увидел подбегающего, запыхавшегося Фантомаса с белыми бровями, светящимися в темноте, и протянул руку. В руке оказалась крохотная сувенирная бутылочка «Белой лошади». Философ сначала плеснул из нее на ладонь, а потом запрокинул и жадно выпил.
Философ старался не показать виду, как его унизило, что эти двое видели его падение. Особенно Пеструшка. Отшвырнув бутылочку Пеструшке, Философ взял детский совок и поддел песок, наблюдая, как он сыплется.
– Мы с вами между детским садом и кладбищем. Здесь – зануды-воспитательницы, «В лесу родилась елочка» и тошнотворная манная каша. Там – могилы с червями и кресты, изъеденные короедом… Скучно… И балдеть тоже скучно. Пора завязывать балдеж… До чего мы докатились – до мелкой спекуляции билетами в кино…
– То, что у нас спекуляция, в Америке – частная инициатива… Ты же сам об этом говорил, Философ… – осторожно напомнил ему Фантомас.
– Дело не в самой спекуляции, а в ее масштабах… – поморщился Философ, отбрасывая детский совок. – Ты не сечешь моих мыслей, Фантомас. Только большое дело дает большой кайф. А на какое большое дело способен, например, ты, Пеструшка, если хнычешь, что не можешь достать себе фирменные джинсы и ходишь в какой-то рижской подделке?
– Вам хорошо… – обиженно стал оправдываться Пеструшка. – Тебе твой отец, Философ, «вранглеры» привез со стройки плотины в Сирии. Твой отец, Фантомас, строил находкинский порт, а там «леви страусов» – ты сам рассказывал – навалом. А чо мой отец может?
– Избавляйся от местного акцента… – брезгливо заметил Философ. – Достал же тебе твой железнодорожный предок японскую куртку, как у нас. Пусть и джинсы фирменные достанет. Дави на него.
– Я давлю… – понурился Пеструшка. – А он мне в ответ: «Джинсы на толкучке мою месячную зарплату стоят. Чо я, на твои штаны целый месяц вкалывать буду?»
– Дело не в самих джинсах… – оборвал его Философ. – Наполеон джинсов не носил, но был Наполеоном. Но если бы он захотел, они бы у него были. Их бы соткали покоренные народы.
Пеструшка не все понял насчет Наполеона, но вздохнул.
Философ продолжал:
– Как говорил Мичурин, не надо ждать джинсов от природы, а надо их взять. Нечего надеяться на предков. Это расслабляет. Меня вчера мой предок спрашивает: «Что собираешься делать после десятилетки?» Сколько я его помню, никогда ни о чем не спрашивал. Всю жизнь по уши в цементе и бетоне – только шляпа оттуда торчит. Подарками отделывался. Например, этими «вранглерами». И вдруг сыном заинтересовался. А я молчу от потрясения, что отец со мной заговорил. Как в басне – «от радости в зобу дыханье сперло». А мать отцу со всей ее месткомовской прямотой: «Да что ты с ним разговариваешь! Он же безмозглый!» Знала бы она, что у меня в мозгах, – может быть, поежилась. Всю жизнь она попрекает меня другими детьми – всеми этими пианинными гениями, одуревшими от гамм. Математическими прыщавыми вундеркиндами. Красногалстучными завывающими поэтиками при Домах пионеров. Пыхтящими тупицами из кружка «Умелые руки». Юными натуралистами, пропахшими морскими свинками. Шахматными наркоманами. Вот, мол, какие вокруг талантливые дети, а ты бездарь. А у меня другой талант, нашим советским вундеркиндизмом не учтенный. Я философ. Но я не тот, разрекламированный «Литературкой», сопливый дошкольник из Омска – изрекатель трехкопеечных афоризмов типа: «Пучина – корни моря». Я философ действия. Людьми интересней двигать, чем шахматными фигурками.
– А куда двигать-то? – задохнувшись от загадочных горизонтов, спросил Фантомас, всовывая в руку Философа другую сувенирную бутылочку.
– «Мари Бризар»… – прочел Философ надпись на ярлыке, протягивая бутылочку в полосу света из окон детсада. Но лицо его оставалось в тени. – На ту сторону шахматной доски. Туда, где пешки становятся ферзями. Разве тебе, Пеструшка, не хочется стать ферзем?
– Да я вообще-то… да я как-то… да я чо-то… – растерялся Пеструшка.
– Но чтобы двигаться в ферзи, надо сбрасывать с доски другие фигуры, – жестко добавил Философ.
– Какие фигуры? – даже вспотел от волнения Фантомас.
– Которые на пути в ферзи, – четко ответил Философ. – Дружинников легко узнать по красным повязкам. Надо создать антидружины. Сначала тайные. Среди красных повязок мы должны узнавать друг друга по невидимым. А когда мы увидим, что нас много, то можно перестать прятаться. Даже перед собственными предками.
– А не попадет? – испуганно спросил Пеструшка.
– Попадет, если будем бояться, – усмехнулся Философ. – Нужен постоянный аутотренинг для победы над страхом. Но не путайте этот тренинг с хулиганством. Скука – мать хулиганства. Но хулиганство без сверхзадачи – это только сошедшая с ума скука.
Философ рывком поднялся с барьера песочной площадки и, обхватив ногами качельный столб, стал карабкаться вверх. Оказавшись на перекладине, он властно крикнул:
– Кидайте трос!
Философ снова надел стальную петлю на крюк, с которого она соскочила, и спрыгнул вниз, усевшись на те же самые качели, и снова раскачиваясь.
– Так что мы будем делать прекрасной темной ночью между детсадом и кладбищем? Я знаю что! Смешаем кладбище с детсадом! За мной! – И рванулся с качелей.
Пустые качели еще долго покачивались, то попадая в полосу света, то снова ныряя во мглу.
Возвращавшийся от Ивана Веселых Ардабьев вздрогнул, увидев за забором детсада темный контур могильного креста, и встряхнул головой, стараясь прийти в себя, видно, сильно он перебрал, если такое может почудиться.
Но когда после завтрака квохчущая, как наседка, воспитательница детсада повела детишек с ведерками и лопатками на песочную площадку, она остолбенела. Ровно посредине песочной площадки стоял, вкопанный в нее рассохшийся от времени могильный крест. По его трещинам ползали захваченные вместе с крестом рыжие кладбищенские муравьи. А в песке около креста валялись две сувенирные бутылочки.
3
Оранжевый пикап подъехал к белой коробке обыкновенного чертановского дома, и Ардабьев-младший с тоской подумал о том, что лифт уже целый месяц на ремонте. Придется таскать одному завтрашний бессмысленный банкет на восьмой этаж. Подведя пикап задом к подъезду, Ардабьев стал выгружать банкет на тротуар под любопытными и не всегда одобрительными взглядами пенсионеров, прогуливающихся вдоль чахлых дворовых топольков. Стук костяшек домино на деревянном столике перед домом прекратился. От козлозабивателей отделились три личности без особых примет и приблизились, не без интереса глядя особенно на один из ящиков.
– Помочь? – хором спросили три голоса. – Какой этаж?
– Спасибо, – покорился судьбе Ардабьев, заранее вычтя из содержимого ящика одну бутылку. – Восьмой.
– Тут одной ходкой не обойдешься… – многозначительно поскреб затылок доброволец в сетчатой майке, синих тренировочных брюках с белым кантом и почему-то в женских тапочках с помпонами. Но это была его единственная особая примета. – Правда, если ящик на ящик поставить, – заразмышлял доброволец. Крякнув, взял на грудь ящик с водкой и кивнул на ящик шампанского.
Двое других ловко поставили ящик с шампанским сверху. Доброволец с помпонами слегка осел под тяжестью, но выдержал. Второй доброволец – не без чувства ущемленности на лице – потащил ящик с минералкой и яблоки. Третий – два ведра: одно – с помидорами, другое – с огурцами. Ардабьев одной рукой прижал к груди трех поросят, другой – охапку зелени, среди которой пряталась ветка ардабиолы, и понуро стал подниматься по лестнице в хвосте торжественной процессии.
На четвертом этаже доброволец с помпонами, закряхтев, опустил оба ящика на лестничную площадку.
– Перекур, – сказал он, отдуваясь. – А что у вас – свадьба, что ли?
– Нет… – несловоохотливо ответил Ардабьев и упер подбородок в розовый хвостик верхнего поросенка, чтобы тот не упал.
– День рождения? – не унимался доброволец с помпонами.
– Нет, – мрачно ответил Ардабьев. – Диссертация.
– Докторская?
– Кандидатская.
– А на какую, извиняюсь, тему?
– Ардабиола, – неожиданно для себя соврал Ардабьев.
– Ага… – глубокомысленно наморщил лоб доброволец с помпонами.
– Передохнули? – спросил Ардабьев.
– Что-то отдышаться не могу. У меня, вообще-то, давление высокое. Ничего тяжелого поднимать нельзя, – пояснил доброволец в тапочках с помпонами, поглядывая на ящик с водкой.
– А у меня низкое… – захихикал второй, с минеральной и яблоками.
– А у меня аритмия. Мерцательная, – добавил третий, с помидорами и огурцами.
Ардабьев понял намек.
– Дегустация на восьмом этаже… – сказал он.
– Так до восьмого еще большой гак… – лукаво глотнул доброволец в тапочках с помпонами. – Как говорится, этапы большого пути. Поправиться надо.
– Ладно, – устало сказал Ардабьев. – Поправляйтесь.
– Только вы с нами… Уважьте… Все-таки диссертация, а не фунт изюму! – захлопотал доброволец в тапочках с помпонами, доставая из ящика бутылку водки и отвинчивая пробку.
Видя, что руки у Ардабьева заняты поросятами и зеленью, он с легким благородным наклоном всунул ему горлышко бутылки в рот, и затем рука другого добровольца отечески вложила в зубы Ардабьева пол-огурца. Когда бутылка была опустошена, доброволец с помпонами аккуратно завинтил ее и поставил обратно в пустую ячейку ящика, восстановив симметрию.
– Пошли, ребята! Приятному человеку приятно помочь!
«Неужели они и в мою квартиру завалятся?» – убито думал Ардабьев, опустив поросят и зелень перед своей дверью на пол и нарочито долго ища ключи.
– Спасибо вам за помощь. Теперь я сам управлюсь.
– Чего там! – покровительственно сказал доброволец в тапочках с помпонами. – Раз уж мы взялись за дело, то его надо прикончить.
– Надо прикончить! – поддакнул второй доброволец, позванивая минералкой и роняя яблоки.
– Прикончим! Это мы мигом! – закончил третий, бряцая ведрами с помидорами и огурцами.
«И прикончат…» – безнадежно подумал Ардабьев, с чувством обреченности открывая дверь. Сразу за порогом на резиновом коврике лежала телеграмма, брошенная в дверную прорезь. Ардабьев поднял ее, хотел развернуть, но в его спину мощно уперся ящик с водкой в руках напирающего добровольца с помпонами. Ардабьев сунул телеграмму в карман и посторонился, впуская в квартиру добровольцев. Когда они вошли, то в квартире сразу стало тесно от их сопения, покряхтывания и разнообразных идей. Первым делом доброволец с помпонами по-хозяйски открыл холодильник, оценивая его содержимое и вместимость.
– Так… – сказал он задумчиво. – Эту банку с баклажанной икрой, я извиняюсь, выброшу. Она вся зацвела. Майонез пожелтелый. Тоже долой. Горчица засохлая. Долой. Морозилка, слава Богу, пуста. Туда мы водочку определим. Помидорчики-огурчики в нижние ящики. – Но главное – чтобы поросята впихнулись. Зелень вот сюда. Шампанское не влезает, подлое. Но мы его в ванную…
Ардабьев, безропотно подчинившись добровольцам, опустился на диван и развернул телеграмму. Телеграмма была короткая. «Отец умер. Похороны среду. Мама».
– А как насчет второго захода? – игриво подтолкнул Ардабьева в бок подсевший к нему на диван доброволец с помпонами. – Вспрыснем диссертацию?
Ардабьев поднял глаза от телеграммы и увидел каких-то совершенно незнакомых людей. «Как они попали в мою квартиру? Чего они хотят? Отец умер… Значит, ардабиола – это блеф. Значит, все провалилось. А я плел той девушке, что я самый нужный человечеству человек. Похороны в среду. Почему у этого типа на тапочках помпоны?»
– Приканчивайте… Только скорее… – вздохнул вслух Ардабьев.
Доброволец с помпонами открыл еще одну бутылку водки. Второй доброволец достал из застекленного шкафа рюмки. Третий обтер о рукав несколько яблок и положил их на стол.
– За кандидатскую! – выпил и хрустнул яблоком доброволец с помпонами. – За вами задержечка…
Ардабьев вдруг понял, что у него в руке рюмка, и тоже выпил.
– Что у нее лицо такое, как будто его растягивали? – заинтересовался доброволец с помпонами репродукцией женского портрета Модильяни на стене.
– А она со сплющенным лицом родилась. Вот его и растянули, – прикрылся иронией Ардабьев.
– Перестарались малость… – покачал головой доброволец с помпонами. – Чего только с людьми не творят! А что это за кустик в ящиках с землей?
– Для красоты… – ответил Ардабьев.
– Да разве это красота? Вот фикус – это я понимаю… Ну, а теперь, с вашего позволеньица – за докторскую! – Но доброволец с помпонами вдруг поперхнулся и замер.
Ардабьев поднял глаза и увидел, что посреди комнаты стоит его жена. То есть уже не жена, потому что они разошлись. И в то же время жена, потому что они еще не развелись. Ее вещей в квартире не было, но второй ключ у нее остался. Ее красные замшевые туфли с белой прошвой наступили на уроненную в суматохе ветку ардабиолы. Но Ардабьеву теперь было все равно.
Добровольцы сразу поблекли под насмешливым взглядом ее глаз и гуськом удалились. Доброволец с помпонами вышел на цыпочках.
– Это твои новые друзья? – спросила жена Ардабьева, садясь и закуривая. Насмешливое выражение в ее глазах оставалось, но зажигалкой она щелкнула нервно, неуверенно.
– Ага… – сказал Ардабьев. – Новенькие. С иголочки.
– А где же твоя подруга Алла? Клетка пуста. Она что – тоже от тебя сбежала?
– Она умерла.
– Про крыс обычно говорят: сдохла.
– Она умерла.
– Хорошо, пусть будет по-твоему. Ты всегда был гуманен к животным. Этого у тебя не отнимешь… Извини, что я без звонка. Твой телефон не отвечал. Я хотела тебя поздравить с защитой. Мне сказали, что ты завтра наприглашал гостей. Многие ведь не знают, что мы живем отдельно. И я подумала…
– Что ты подумала? – спросил Ардабьев, поднимая с пола ветку ардабиолы и крутя ее в руках.
– Я не напрашиваюсь в гости… Я подумала, что квартира, наверно, захламлена. Хотела тебе помочь… А у тебя чисто. Тебе кто-нибудь помогает?
– Никто.
– Молодец. А ты догадался что-нибудь купить?
– Догадался.
Она подошла к холодильнику, заглянула в него:
– Ты растешь как домохозяйка, Ардабьев… Даже поросят достал. А кто жарить будет?
– У тебя права с собой? – спросил Ардабьев.
– С собой. Почему ты спрашиваешь?
– Отвези меня в Домодедово. А завтра принимай гостей. Выручи меня. Мне некогда звонить, извиняться.
– Что? – застыла она с открытой дверцей холодильника.
– Отец умер.
Она сделала невольное движение к нему, но удержалась.
– Когда? Что с ним случилось?
– Так ты меня отвезешь?
Она подошла к стенному шкафу, вынула из него две рубашки, белье, носки, и снова ее поразило, что все было чистым, отглаженным.
Когда она вошла в ванную, чтобы взять бритву, то, прежде чем заметить груду бутылок шампанского в воде, она увидела две еще невысохшие рубашки на деревянных плечиках, трусы и носки на батарее, и поняла, что Ардабьев стирает сам. Ей захотелось заплакать и от этого, и оттого, что его отец умер. Но она не заплакала, а только взяла бритву и еще одну пару носков, которые на ощупь оказались сухими.
Некоторое время они ехали молча.
– А ты когда-нибудь думал о том, что и ты можешь умереть? – спросила она, включая подфарники, потому что потемнело.
– Думал. Я бы не хотел, чтобы это случилось именно сейчас. Я не имею на это права. Я многого не успел, – хмуро сказал Ардабьев.
– А ты думаешь, что в истории есть хотя бы один человек, который все успел? – спросила она, снова закуривая. – Все, что умерли, чего-то не успели. Не успел Христос, чтобы все люди стали братьями. Гитлер не успел засунуть всех евреев в газовые камеры. Твой отец не успел увидеть своего внука, которого я убила в себе без твоего разрешения. А я тоже умерла, потому что не успела стать матерью.
– Не казнись, – вобрал голову в плечи Ардабьев.
– Я убила твоего ребенка, потому что любила тебя, – продолжала она. – Мне казалось, что ребенок будет тебе мешать. Я хотела, чтобы ты защитился, встал на ноги. А ты мне не простил. Ты перестал со мной говорить. Ты мне не рассказывал ничего. Ни о том, почему вместо канарейки у нас в клетке стала жить крыса. Ни о том, что у твоего отца рак. Ты думал, что я тебя разлюбила. А можешь ты себе представить, что есть такая любовь, когда ради нее можно убить собственного ребенка? За что ты возненавидел меня?
– Я не возненавидел. Я не мог забыть, – тяжело вздохнул Ардабьев. Он думал о девушке в кепке, почему она тоже это сделала?
– Не надо меня добивать, Ардабьев. Я наказана. Тем, что люблю тебя и никого больше. – И задрожавшим, срывающимся голосом она тихо спросила: – Скажи, а ты когда-нибудь сможешь забыть? Сможешь простить?
– Не знаю, – ответил Ардабьев, и замолчал. Он молчал до самого аэропорта. И только открывая дверь оранжевого пикапа, сказал: – Не надо говорить про смерть отца гостям. Придумай другую причину моего отсутствия. Какую-нибудь смешную, чтобы им было весело. Запомни – Мишечкиных я не приглашал.
– А если они припрутся? – спросила она, вытирая слезы, но уже другим голосом.
4
Ардабьев шел за толпой пассажиров по взлетному полю. В левой руке он держал весь свой багаж – привезенный им из Африки портфель с крошечным крокодилом, похожим на ящерицу, вшитым в кожу другого крокодила, который при жизни был, наверно, побольше. Лапки крошечного крокодила болтались над замком портфеля. Правой рукой Ардабьев прижимал к груди спящего мальчика лет двух, обнимающего его за шею рукой. В руке был цепко зажат игрушечный луноход, щекочущий своей антенкой затылок Ардабьева. Мальчик как будто сошел с картинки на пакете детского питания. У мальчика были белые стружечные кудри, лукавый вздернутый нос и такие круглые тугие щеки, как будто под каждой из них лежало по яблоку. Мама шла рядом с Ардабьевым и несла на руках грудного младенца в белоснежном свертке. Надетая на руку, с ее локтя свисала авоська, набитая апельсинами, колотящаяся на ходу о бедро. Одна из ячеек авоськи прорвалась, и путь мамы по взлетному полю был отмечен оранжевым пунктиром нескольких упавших апельсинов…
Еще час назад Ардабьев безнадежно совал телеграмму о смерти отца начальнику службы перевозок, обалдело глядящему озверевшими и одновременно затравленными глазами на тянущиеся к нему руки с другими телеграммами, командировочными удостоверениями и разнообразными красными книжечками с золотым и прочим тиснением. Дальневосточные и сибирские линии были закрыты двое суток, и сотни людей спали на скамьях или просто на полу. Телеграмма Ардабьеву не помогла. В аэропорту Домодедово привыкли к тому, что кто-то где-то каждый день умирает. Когда объявили, наконец, позавчерашний рейс, Ардабьев раскрыл телеграмму и, показывая ее, медленно пошел вдоль очереди на регистрацию. Большинство людей отворачивалось. У всех были дела и, может быть, смерти.
– Постойте… – вдруг раздался голос, и Ардабьев увидел молодого армейского капитана с пушечками в петлицах. Лицо капитана было покрыто двухдневной золотистой щетиной, но глаза были прозрачные, человеческие.
Капитан держал на руках спящего мальчика, и во сне не выпускающего игрушечный луноход. Рядом с капитаном стояла мама и застенчиво кормила грудью младшего брата.
– Вы уже второй раз проходите мимо нас с телеграммой, – сказал капитан. – Мы тут с женой подумали. Сможете взять на себя контроль над этим вождем краснокожих? – и показал на мальчика в своих руках.
– Попытаюсь, – сказал Ардабьев. – Но у вас же их двое.
– Ничего. Я полечу другим рейсом, – сказал капитан. – У меня еще два дня отпуска. А вы полетите с моей женой и детьми. Смерть отца бывает раз в жизни.
Ардабьев перевел взгляд на жену капитана. Ардабьев ожидал чего угодно, но не ее улыбки. Но жена капитана именно улыбнулась. Она улыбнулась, инстинктивно прикрывая ладонью грудь и тихонько укачивая младенца. Она улыбнулась даже виновато, как будто это они с ее мужем и детьми были чем-то повинны в смерти его отца и в том, что у Ардабьева нет билета.
– Паспорт при вас? – поторопил Ардабьева капитан. – Надо успеть переоформить билет.
Пока переделывали билет, подозрительно сверяя лица Ардабьева и капитана с их документами, и никак не могли понять, почему тот же самый мальчик вписывается в билет на другое имя, капитан давал Ардабьеву инструкции:
– Учтите, Витя – ангелочек, только когда спит. Проснувшись, он страшен. Это перпетуум-мобиле. Не теряйте бдительности. Он только и выжидает, когда взрослые отвернутся. Вчера он засунул пальцы в бабушкину мясорубку и собрался ее крутить. Он задаст вам перцу. Возможно, он попытается захватить самолет. Я вам не завидую. Вы умеете менять пеленки?
– Нет, – честно признался Ардабьев.
– Придется научиться. Он говорит «ка-ка» только после того, как уже обделался. В общем, это не я вас выручил, а вы меня.
Вот почему Ардабьев оказался на взлетном поле с чужим ребенком. Это был первый в его жизни ребенок, которого он держал на руках. Ардабьев был младшим в семье, и ему не приходилось таскать меньших братишек. Ардабьев нес чужого ребенка и думал о том, что мог бы нести своего.
И еще он думал о девушке в кепке.
Толпа издерганных пассажиров сгрудилась у трапа, как будто самолет мог вот-вот улететь, оставив кого-то на взлетном поле. Никому и в голову не приходила простая мысль, что мест в самолете ровно столько, сколько пассажиров. Все мышление сузилось до пронзительной жажды влезть, накаляемой страхом не влезть. Давка была бессмысленной, но не прекращалась.
Увидев двух детей, контролерша с боксерским лицом рявкнула:
– Пропустите пассажиров с детьми! Придите в совесть!
Но ничьи локти, ничьи сумки, ничьи коробки не раздвигались. Контролерша поддала одной ногой по прущей наверх чьей-то картонной коробке с черными знаками бокала и зонтика, так что внутри раздался звон, а другой ногой по зачехленному футляру чьего-то контрабаса. Контролерша встала посредине трапа, мощным корпусом прикрывая самолет, и отвела рукой протягиваемые ей скомканные, липкие билеты.
– Сначала – с детьми!
Поняв, что контролерша неумолима, пассажиры неохотно расступились, провожая Ардабьева со спящим мальчиком и маму с грудным младенцем такими недобрыми взглядами, как будто именно из-за них была и нелетная погода, и все другие малые и большие беды на свете.
– Почему люди такие озлобленные? – вздохнула мама, устраивая дитя на коленях, сумку с апельсинами под сиденьем, и мгновенно уснула.
У нее было простое широкое русское лицо, и на голове – сложенные венком тяжелые пшеничные косы.
«Не все озлобленные… – с облегчением подумал Ардабьев. – И она, и ее муж, да еще с маленькими детьми, не меньше других мучились двое суток в аэропорту. А вот не озлобились. Поняли, что такое означают слова „отец умер“, написанные в телеграмме. И та контролерша с боксерским лицом, хотя она тоже измотана, поняла, что такое дети на руках. Но почему вокруг так много хамства, расталкивания других локтями, какого-то озверения? Но разве это оправдание? Зачем же делать тяжелую жизнь еще тяжелей? Нельзя забывать о том, что мы народ, человечество…»
Мальчик на его коленях крепко спал, и Ардабьев тоже попытался уснуть под равномерный рокот взлетающего самолета. Сны ему снились редко, но стоило только закрыть глаза перед сном, как его начинали обступать видения перепутанных кусочков собственной жизни. Вот и сейчас, может быть, потому, что он невзначай коснулся двух шершавых лапок крошечного крокодила на портфеле, Ардабьев начал вспоминать.
…Узкая, выдолбленная из цельного дерева лодка шла по озеру. Легонько шевеля веслами по звездам, плавающим в черной воде, африканец с электрической лампой на лбу, похожей на шахтерскую, шарил лучом ее света по береговым зарослям, по воде. Африканец был похож на человека, у которого на голове росла белая звезда. Внезапно в прибрежной тине загорелись попавшие в луч света два зеленых глаза. Африканец, бросив весла, схватил деревянное копье с железным наконечником и сделал ловкое сильное движение. В луче света на кончике копья взвилось тело крошечного крокодила с нежной белой подбрюшиной. Крокодил по-детски всхлипывал. Африканец бросил его на дно лодки и стукнул молотком по голове. Крокодил замолк. Африканец вытер ветошью кровь с наконечника копья и снова взял его на изготовку до следующих зеленых глаз.
– Не надо! – сказал ему по-английски Ардабьев.
– Но вы же хотели посмотреть на охоту на крокодилов? – удивился африканец.
– Я уже видел, – сказал Ардабьев. – Я не думал, что они такие маленькие.
– Больших крокодилов на этой реке мало, – сказал африканец. – Их вообще мало. А из этих малышек мы делаем женские сумки и портфели.
– Вам их не жалко? – спросил Ардабьев.
– Это моя профессия… – пожал плечами африканец. – А вот куриц я сам не режу. Это делает моя жена. А какая охота у вас в России? Я слышал, у вас есть тигры и медведи.
– Еще есть… – вздохнул Ардабьев. – Но их все меньше…
– Когда-нибудь не будет и человека… – сказал африканец. – Люди – единственные животные, которые охотятся друг на друга. Даже гиены этого не делают… Знаете, что звери думают о нас? Звери думают, что они – это люди, а люди – это звери…
Ардабьев постепенно засыпал, прижимая к себе чужого мальчика, и ему все-таки приснился сон.
Ардабьев звонил по телефону девушке в кепке. Из своей пустой квартиры. Перед пустой клеткой, где не было крысы Аллы, которая умерла. И вдруг спина его что-то почувствовала. Взгляд. Ардабьев обернулся. Перед ним стоял неизвестно как сюда попавший человек. У него было лицо всех сразу пассажиров самолета, не хотевших пропускать к трапу детей. На ногах у него были женские тапочки с помпонами.
– Напрасно звоните, – сказал человек. – Провода перерезаны.
Вслед за ним в комнату стали входить другие люди с одинаковыми пассажирскими лицами, и на всех были тапочки с помпонами. Один из вошедших раскрыл зачехленный футляр контрабаса, в котором лежала разобранная винтовка с оптическим прицелом, и стал ее собирать, побрызгивая из лоснящейся швейной масленки. Второй развязал картонную коробку с черными знаками бокала и зонтика и достал оттуда несколько обойм. Другие открыли холодильник, вынули из него крошечного убитого крокодила и стали его есть сырым, отрывая ему лапки и выплевывая на пол крокодиловую кожу, как ананасовую. Съев крокодила, вошедшие стали надвигаться на Ардабьева с тяжелыми несытыми глазами. Ардабьев хотел закричать, но не мог. Ардабьев проснулся в холодном поту и радостно увидел вместо страшных глаз убийц, обступающих его, ясные глаза чужого ребенка, показавшегося ему своим. Мальчик с любопытством смотрел то на Ардабьева, то на портфель, где болтались лапки крокодила. Мальчик осторожно вложил пальчики в зубы крокодила, но крокодил не кусался.
– С добрым утром, Витя! – сказал Ардабьев, хотя еще была ночь.
– Ка-ка… – сказал Витя, и Ардабьев, вспомнив инструкции его отца, вопросительно покосился на маму, но она спала глубоким ровным сном. – Ка-ка, – настойчиво повторял Витя.
«Что же делать?» – лихорадочно подумал Ардабьев.
Он встал с Витей на руках, пошел к туалету. Вдвоем там было тесно и неудобно. Ардабьев поставил Витю на край умывальника и стал снимать с него штанишки, путаясь в лямочках и пуговицах. Под штанишками были пеленки. Ардабьев, поднеся Витю попкой к лицу, понюхал пеленки. От них, кажется, ничем не пахло. В это мгновение только притворно притаившийся Витя успел схватить с умывальника флакон с цветочным одеколоном и грохнул его об пол, так что пол покрылся стеклянным крошевом.
– Ну зачем же так, Витя! – укоризненно сказал Ардабьев.
– Ка-ка, – ответил Витя.
Ардабьев оттянул пеленки. Они были сухими.
– Молодец, Витя… – сказал Ардабьев. – А я думал, что ты сигнализируешь своим «ка-ка» только постфактум… Ну-ка, давай попробуем поработать… – Ардабьев размотал пеленки, аккуратно повесил их на полотенце и поднял Витю над унитазом. – Ну-ка, покряхти, Витя… – сказал Ардабьев. – Это помогает…
Витя недоуменно взглянул на Ардабьева, не поняв его.
– Вот так… – сказал Ардабьев и закряхтел, показывая.
Витя понял и тоже старательно закряхтел, жмурясь от удовольствия новых, исторгаемых им звуков.
Сначала из его розового краника полилась тоненькая прозрачная струйка, попав не в унитаз, а прямо на джинсы Ардабьева.
– Хорошее начало, Витя… – одобрил его усилия Ардабьев. – Теперь переходим к более серьезному делу… Сгруппируйся и действуй… На тебя смотрит все человечество…
Витя понял важность исторического момента и сгруппировался.
– Браво, Витя! – оценил его работу Ардабьев. – Народы мира тебе аплодируют!
Ардабьев вымыл Витину пухлую попку, протер ее туалетной бумагой и неловко стал заворачивать его в пеленки. Кое-как завершив этот сложный процесс, Ардабьев надел на Витю штанишки, пристегнул лямочки и вдруг с ужасом увидел, что Витя вдумчиво ест мыло, ухваченное им с умывальника.
– Разве это вкусно, Витя? – покачал головой Ардабьев, отбирая мыло.
Витя оглушительно заорал, недовольный пресекновением порывов его души. Дверь туалета уже несколько раз дергали, все настойчивей.
– Минуточку… – растерянно закричал Ардабьев, отдирая Витю от ящика с туалетной бумагой, которую он с дикарскими криками стал швырять в воздух.








