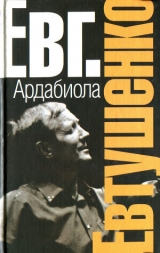
Текст книги "Ардабиола"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
Собрав всю волю, остановил слезы, исподволь оглянулся на других – кажется, никто ничего не заметил. Горько усмехнулся над собой: «Сумел надеть панцирь и на глаза. Да что ты спрашиваешь сам себя, Коломейцев, почему слезы? Потому слезы, что ты вдруг понял, какие хорошие люди с тобой в лодке, какие они все единственные, как неповторим этот разговор с ними. Ты любишь этих людей, Коломейцев. А ты не хотел их любить. Вбивал себе в голову, что любовь расслабляет. Иван Иваныч… Бурштейн. Юлия Сергеевна… Почему и зачем ты изобрел новый риск для этих людей, столько раз уже рисковавших собой? А там, в другой лодке, Кеша, Сережа Лачугин… Они еще только начинают жить… Касситерит? Что он такое по сравнению с человеческими жизнями?»
Но движение лодок вперед было уже никому не подвластно.
– У меня было два тяжелых ранения, три легких, одна контузия, – вдруг завспоминал и Коломейцев. – А вот одно ранение было особым. Хотя и ранением это не назовешь. Забросили меня и моего кореша, Костю Шмелева, или, как мы его называли, Шмеля, в белорусские леса для связи с партизанами. Шмель еще до войны парашютным спортом занимался и прыгать не боялся. Когда самолетная дверца была открыта, меня он первым выпустил и по заду ободряюще хлопнул. А у меня всего два тренировочных прыжка было и, честно говоря, поджилки тряслись. Но я подсобрался, перед Костей стыдно было, и прыгнул. Приземлился я нормально, а вот Костя со всем своим опытом на сук напоролся, он его насквозь прошел. Так он и скончался на дереве, я его уже мертвого снял. Костя мучился, но не стонал, стоном обнаружить нас боялся. Завернул я Костю в оба наших парашюта, закопал и пошел в одиночку. Через день наткнулся на пастушка – мальчонку лет двенадцати, а его по совпадению тоже Костей звали. Лицо у него было, как яйцо кукушкино, все в веснушках. Повел меня к партизанам. Шли лесом, впереди Костя с двумя шелудивыми коровенками, позади я. Нужно нам было дорогу пересечь, и первым на нее Костя вышел, а я в кустарнике спрятался, выжидал. Постоял Костя на дороге и уже руку было поднимать стал, чтобы махнуть мне, но удержался. С той стороны дороги немцы из кустарника вылезли с ветками на касках, человек двадцать, а с ними два полицая. Видно, была засада на партизан. Обступили они Костю, стали допрашивать. А все это метрах в двадцати от меня происходит, и я все вижу, все слышу. «Где партизаны?» – спрашивает полицай. «Не знаю, дяденька… – мотает головой Костя. – Я коров пасу и ничего не знаю…» – «А ты из какой деревни?» – спрашивает другой полицай. «Из Еремичей…» – отвечает Костя. «Из Еремичей – и не знаешь? – усмехнулся первый полицай. – Это же самое отъявленное партизанское гнездо…» Немецкий обер-лейтенант при слове «Еремичи» улыбнулся такой змеиной улыбочкой. Сделал знак полицаям, и те содрали с Кости рубашонку. Вынул обер-лейтенант из своих тонких, как черви, губ сигарету и прижал ее к мальчишеской груди. Костя закричал, заплакал, попытался вырваться, но полицаи его крепко держали. А обер-лейтенант сигаретой по Костиной груди водит, то тут прикоснется, то там. Наконец, ввинтил он эту сигарету прямо ему в кожу и другую сигарету зажег и начал мальчика новой сигаретой ласкать, особенно у сосков, сукин сын, огонечек задерживал. А Костя только одно кричит: «Не знаю я ничего, не знаю…» У меня палец на спусковом крючке, а что я могу против двух десятков немцев? И такое у меня чувство, будто эта сигарета меня тоже насквозь прожигает. А полицаи обер-лейтенанту начали подражать, только не сигаретами, а самокрутками со всех сторон тычут и ржут. Костя сознание от боли потерял. Выпустили его из рук полицаи, и он упал на дорогу. А одна из коровенок подошла, стала ему раны языком зализывать. Обер-лейтенант показывает одному из полицаев на Костю – давай, мол, кончай его. Только дернулись детские босые ноги в дорожной пыли, и все… А когда я пришел к партизанам, разделся до пояса и стал мыться в ручье, меня кто-то спрашивает: «Что это с тобой? Как тебя угораздило?» Гляжу, а у меня вся грудь в ожогах, хотя никто меня самого ни сигаретой, ни самокруткой не мучил. Врач мне потом сказал, что такое бывает, хотя и редкий медицинский случай…
– Ежели бы мы завсегда так за других людей чувствовали, у нас на коже живого места не было бы, – сказал Иван Иванович Заграничный. – А вить дубет наша кожа, дубет… И к своим ожогам привыкат, и к чужим… – Вдруг он вздрогнул. – Буйный! – заорал он, поглубже надвинув засаленную ушанку на лоб, опустил ее уши и завязал их под подбородком.
Впереди, метрах в пятистах, серебристая спина реки взбугрилась белой пеной, бьющейся о черные валуны.
Буйный был первым из двух перекатов, которые предстояло пройти.
18
– Сережа, а тебе не кажется, чо ты был всегда? – спросил Кеша, выводя лодку на середину реки точно так, чтобы попасть в пенный след первой лодки.
Сережа не переспросил – понял. Задумался.
– Иногда кажется, Кеша… Перед глазами бывает кусок незнакомого города, незнакомой улицы, и вдруг чудится, что я уже здесь был… В какой-то другой жизни… Только как меня звали тогда и кем я был, не могу вспомнить.
– А видишь ты себя там, где ты никогда не был? Видишь ты то, чо никогда не видел? – допытывался Кеша, успевая следить и за рекой, и за мотором, и за Сережиными глазами.
– Не вижу, – честно признался Сережа. – Нет, постой… Когда музыку слушаю, вижу.
– А чо видишь?
– Разное. Почему-то раскаленную лаву… Океан. Какие-то странные гигантские растения… Огромных птиц. Что-то вроде начала земли… И я лечу над этим началом… Говорят, некоторые летают во сне… А я – когда слушаю музыку… – И Сережа вздохнул и зажмурился, как будто сибирские просторы вокруг него наполнились консерваторским торжественным эхом.
– Я тоже летаю, – сказал Кеша, – но только без музыки. Чо-то, правда, во мне самом звенит, рокочет, как эта река. Но это не чужа музыка, а моя… Хотя я даже на гармошке не играю… Но я не только летаю, Сережа… Иногда я ползу, будто у меня нет ни рук, ни ног и на мне кака-то чешуя, и я трусь и трусь о траву, стараясь эту чешую сбросить. Иногда я плыву и дышу жабрами, и вижу под водой сады и города. А то вдруг расту деревом и вместо рук у меня ветви, и я перешумливаюсь с другими деревьями, и они понимают меня, а я понимаю их. То я замшелый валун посреди реки, хочу чо-то сказать, а не могу и своей немотой мучусь. То я капля росы на травинке и, когда солнце меня испаряет, восхожу в небо и прилепляюсь к краешку облака, а потом срываюсь на землю каплей дождя и ищу ту травинку, с которой взлетел, и не могу ее найти. Таких травинок – миллионы…
– Кеша, а ты писал когда-нибудь?
– Письма. Но очень редко – я ошибок стесняюсь. Я ведь семи классов не кончил, Сережа. Я в милицию хотел, а меня не взяли. Сейчас туда меньше чем с десятью классами не берут… Ну, может быть, из-за моего горба тоже – только они мне этого не сказали…
– В милицию? – поразился Сережа. – Почему в милицию?
– Я людей люблю. Иногда мне их жалко, но я их все равно люблю… А в милицию должны идти только те, кто людей любит. Я заметил, те, кто с плохими милиционерами сталкиваются, могут веру во все потерять… А ишо я бы хотел быть директором детдома. Я даже дворником хотел туда или истопником. Тоже не взяли. Сказали – тебя дети задразнят. А это неправда. Ну, может, сначала бы подразнили, а потом и перестали. Они бы поняли, чо я их люблю, и меня тоже полюбили бы… У меня ведь нет никакого горба, Сережа. Нету. Каля мне так сказала. А раз она так сказала, значит, правда. – У Кеши выступили слезы, и он отвернулся.
– Не плачь, Кеша, – попросил Сережа. – Каля сказала правду.
– Я не плачу. Это от ветра… – ответил Кеша. – А, вообще, я иногда плачу… Я ведь Калина подруга… Скажи, а Каля меня может полюбить?
– Я видел, как она тебя поцеловала, – сказал Сережа. – Так подруг не целуют.
– Я бы хотел, чобы у нас с Калей были дети, – мечтательно протянул Кеша. – Я хочу, чобы они были образованными. Я чувствую много, Сережа, а знаю мало… Вот ты говорил о начале земли… А разве она вообще начиналась? Разве она не была всегда?
– Думаю, что не была… – ответил Сережа нетвердо. – Во всяком случае, нас так учили.
– Но если мы были, когда не были, может быть, и у земли была другая жизнь? До того, как она землей стала?
– Может быть, Кеша.
– Сережа, ты никогда не рисовал?
– Рисовал, но плохо…
– Но все-таки рисовал… А вот прежде чем художник пишет картину, чо у него есть, Сережа?
– Как чо? – Сережа вдруг поймал себя на этом сибирском «чо» вместо «что» и улыбнулся. – Холст, краски…
– Нет, я не про это… В голове у него чо прежде этой картины?
– Думаю, что предчувствие этой картины. Мысль о ней.
– А земля – ведь она тоже наподобие картины. Всех картин картинней… Значит, и у нее свой художник был. Значит, земля, прежде чем стать землей, была мыслью о земле… Только вот чьей мыслью, Сережа?
– Наверно, мыслью природы, Кеша.
– А может быть, Бога? – и голубичные глаза Кеши уставились на Сережу с обескураживающей вопросительностью. – Гляди-ка, изюбр!..
За одним из поворотов перед самым носом лодки оказался изюбр, переплывающий реку. На его бархатных рогах сидела бабочка. Когда изюбр увидел Кешу и Сережу, в его глазах появился совсем человеческий страх, и он отчаянно заработал ногами, пока не оказался на берегу. Изюбр бросился в кусты и на мгновение оглянулся, удивляясь тому, что в него не стреляют.
– Боится! – сказал Кеша. – И правильно боится. А ведь он – природа, и мы – природа.
– Я думаю, что люди называют Богом природу, потому что не могут ее до конца объяснить, – сказал Сережа.
– А чо, если они Бога называют природой?
– Ну, какая разница, что как называют… Многое вообще называют так или иначе от незнания… Вот ты говоришь, Кеша, что мало знаешь. А я убедился, что даже самые большие ученые знают мало… Никто не знает всего.
– Никто? – погрустнел Кеша. – Значит, не с кем посоветоваться, спросить… А у некоторых такой вид, будто они все знают.
– Они как раз и знают меньше всех, Кеша. Просто притворяются.
– Понимашь, Сережа, у меня один вопрос, который меня давно мучит… – замешкался Кеша. – Если человек произошел от обезьяны, почему тогда все обезьяны не стали людьми?
– Видишь ли, Кеша, есть одна теория. Правда, еще не подтвержденная… Мне ее рассказал один ученый… – осторожно начал Сережа.
– Да ты не бойся, говори… – придвинулся к нему Кеша так, что качнуло лодку. – Иногда непроверенно – это само верно…
– Не знаю, верная эта теория или нет. Но она меня заинтересовала. Она не совсем геологическая, но без геологии в ней не разберешься. Может быть, я когда-нибудь займусь этим…
– Да ты не тяни за душу, – изнывал Кеша.
– Словом, когда-то было нарушено магнетическое равновесие Земли. И тогда с некоторыми, наиболее слабыми обезьянами произошла мутация… – начал объяснять Сережа.
– Это чо тако? – даже вспотел Кеша.
– Патологическое изменение. Ну, ненормальное развитие. Обезьяны обезволосели, физически стали менее приспособленными, беззащитными. Но инстинкт самосохранения заставил их быть более умными. У них стал развиваться мозг. Они стали ходить на задних лапах. Научились добывать огонь трением двух палочек и перестали быть обезьянами, стали людьми… А другие обезьяны так обезьянами и остались. Такая это теория, Кеша.
– Значит, мы все-таки от обезьяны? – разочарованно протянул Кеша. – Вот птицей я себя помню, рыбой помню, деревом помню, а обезьяной – никогда…
– Есть и другие теории, – успокоил его Сережа. – Есть теория, что мы – это потомки пришельцев с других планет… Есть теория, что Земля – это создание высшего разума Вселенной. Циолковский так думал…
– Это тот, кто ракету изобрел? – радостный от узнавания имени, спросил Кеша.
– Первый, кто соединил ракету с космосом, – мягко поправил его Сережа. – Но мало кто знает, что он был великим философом.
– Кем? – подавленно переспросил Кеша.
– Философом. То есть человеком, у которого есть свои мысли, – пояснил Сережа. – Своя система мышления.
– Но у всех есть свои мысли… Даже у дураков… Мелконькие, но свои… – сказал Кеша.
– Дураки только думают, что их мысли – свои. Они у них фабричного производства.
– Ну и чо это за высший разум? – спросил Кеша.
– Циолковский точно этого не определил… Он как бы нас оставил догадываться. Он считал, что все во Вселенной порождено этим разумом, все взаимосвязано. Я нашел в дедовской библиотеке калужские брошюры Циолковского и зачитывался ими. А знаешь, Кеша, Циолковский бы тебя понял, когда тебе кажется, что ты был всегда. По Циолковскому, ничто не исчезает, только видоизменяется в других сочетаниях атомов. Ты ведь, конечно, знаешь, что такое атом?
– Ну, этого-то кто не знат, когда есть атомна бомба, – обиделся Кеша.
– Но ведь атомы – это только крошечные кусочки нашего тела.
– А у нашей души есть атомы? – допытывался Кеша. – Куда она деватся, душа, когда тело умират?
– Не знаю, Кеша. Видишь, как я тоже мало знаю… Но, наверно, если тело, даже умирая, не умирает, то не умирает и душа, – ласково улыбнулся Кеше Сережа, и не предполагавший, что когда-нибудь ему придется говорить обо всем этом на глухоманной сибирской реке, в лодке, пропахшей смолой, мокрым брезентом и рыбой.
– А я ишо об одном… – сказал неуемный Кеша. – Куда деватся время?
– Становится памятью, – после короткой паузы сказал Сережа.
– Ничьей памяти не хватит, чобы вместить время, како прошло… – покачал головой Кеша.
– А память, наверно, в генах передается, – сказал Сережа.
– В чем? – опять с тоской переспросил Кеша.
– Ну, то есть в крови сидит. Вот почему, например, ты добрый?
– Да не такой уж я добрый… Иной раз, когда таких гадов, как Ситечкин, вижу, по чапаевскому пулемету тоскую… – сказал Кеша, и в его голубичных глазах блеснуло что-то, совсем на доброту не похожее.
– Это ты так говоришь, потому что у тебя пулемета в руках нет… Так вот – почему ты такой добрый? А может, потому, что когда-нибудь твой далекий предок шел по первобытному лесу безоружный и встретился с мамонтом, а может, с медведицей, которая могла его запросто разорвать… А она его пожалела, не тронула, только кругом обошла и медвежонка, с ним игравшего, зубами за шиворот унесла. И твой предок поразился доброте природы в лице этой медведицы и сам добрее стал и к природе, и к людям. А тебе это через века передалось в крови… Думаю, такая память есть.
– А ежели бы эта медведица моего предка покалечила? – с сомнением спросил Кеша. – Я чо – злой бы стал?
– Может быть, и стал бы… Хотя, конечно, не уверен… Но думаю, что все равно страдания, оскорбления, унижения наших предков для нас даром не проходят и где-то в нашей крови остаются… Есть же, например, выражение – рабская кровь… Чехов сказал, что ее по капле надо выдавливать.
– Чо же, мы только от предков и зависим, а сами ничо? – нахмурился Кеша. – Тогда бы от рабов только рабы и родились, от умных только умны, от дураков только дураки… У иного умного отца такого сына-дурака встренешь, что диву даешься, а у иного отца-дурака сын – такой умница, будто от чистого вольного ветра прижит… У меня отец – горький пьяница был, а я в рот не беру – на него боюсь похожим стать. А ты мне про эти, про вены… – Кеша заглянул в бак с бензином. – Однако уже пора заливать… Давай-ка сюда канистру…
– Про гены, – поправил его Сережа, передавая ему канистру. – Какая-то память в них все же есть… А еще есть другая память человечества – общая память. Фольклор, история, литература, живопись… Картина Сурикова «Боярыня Морозова» мне множество раз попадалась на открытках, на репродукциях и никак не задевала. А когда я впервые ее увидел в Третьяковке, я вдруг обомлел. Мне показалось, что мальчик в ушанке и тулупчике, бегущий за санями, – это я. Показалось, что, поверни он голову, – будет мое лицо…
– А кто это – боярыня Морозова? – опять мрачнея от незнания, спросил Кеша.
– Раскольница. Она двуперстием на картине крестится, когда ее в цепях везут, – ответил Сережа.
– Раскольница – это я знаю. Двуперстие знаю. В Сибири у нас много их было. А вот почему я не знаю эту картину, эту боярыню? – с отчаянием выдохнул Кеша. – Ежели ты говоришь о памяти человечества, то, выходит, я – из беспамятных… А откуда мне время было на память брать, ежели мой отец помер от пьянства и оставил меня, с моим-то горбом, в тринадцать старшим мужиком в семье, где восемь детишек мал мала меньше… Вся моя память уходила на то, чобы всех накормить, одеть, обуть… Потому и недоучка. Вот про Циолковского и то напутал. Думал, чо он ракету изобрел, и все. Чо я знаю, к примеру, про Грозного Ивана? Чо он грозный был, да и только… А про Наполеона? Чо он Москву поджег, да и убрался восвояси, и больше ничо… Вот он, мой горб настоящий, – незнание мое, и меня даже Каля не уговорит, чо у меня этого горба нету. А сколь таких, незнанием горбатых, по земле ходит, Сережа! Есть, кто и по своей вине такой, а есть, кто и от лени своей, от нищеты душевной… Нет, спать не буду, ногти о камни обломаю, а дети мои беспамятными не будут!
– У тебя самого еще есть время учиться, – утешил его Сережа. – Тебе ведь только двадцать.
– И верно… – вдруг удивился этому, как открытию, Кеша и тут же озабоченно притемнился лицом: – Но ведь целых четыре года… Работать тогда придется бросить. А кто же моих братишек и сестренок тянуть будет? Я же всю зарплату им посылаю. А если я… а если я… женюсь? Как тогда?
– А ты что, слабый, Кеша? – подзадорил его Сережа.
– Нет, я сильный… – И Кеша весь высветился изнутри младенческой улыбкой. – Я сильный, Сережа… Каля ишо даже не знат, какой я сильный. Исковырял я тебя своими дурными вопросами, как лектора приезжего. А ты разве лектор? Ты человек… Ты спи, однако, Сережа. Ты с такой большой дороги и снова в дорогу… Притуливайся на бок и спи. Вот так… Я тебя брезентом от брызг прикрою. Перекат еще не скоро. Я тебя разбужу. Да он сам тебя разбудит. Ты его за версту услышишь… Громкие у нас перекаты…
Сережа прикорнул – его действительно клонило в сон. Засыпая, он думал о том, сколько талантливых, своеобычных, но еще недостаточно образованных людей ходит по земле русской, и о том, что иные его сверстники, которым образование достается без усилий, как даровое наследство, не ценят его и не соединяют с образованием жизни, с образованием души. Но только это и есть образование, когда образовывается человек.
А Кеша весь сосредоточился на реке, которая несла лодку навстречу перекатам. Глубину еще можно было найти – то на середине, то ближе к берегу, но Кеша примечал, как обнажились отмели, как сейчас выступили островки в большую воду, прикрытые водой, и бормотал:
– А вода-то спалая. Эх, если бы пошла больша вода… А где ее взять – большу воду!
19
Иван Кузьмич Беломестных, припоздало выйдя на залитый рассветом двор, увидел записку на гвозде: «Спасибо за гостеприимство. С. Лачугин» – и подумал о геологическом парне хорошо и надежно: «Уважительный. Не как некоторые. Попрощаться тоже надо уметь». В избе заплакал ребенок, потом утих, наверно, успокоенный Ксютиной грудью, и от этого в Иване Кузьмиче увеличилось чувство надежности жизни. Да и что это за дом, где дети под ногами не путаются!
А вот ягодный уполномоченный проснулся нехорошо, ненадежно. Разбудила его тяжесть внизу живота, тупая, ноющая. «Перехватил я вчерась, чо ли… Ессенция проклятая…» – подумал Тихон Тихонович, ворочаясь с боку на бок. Похмельями он не был обделен в своей многокрасочной по этой части жизни, а тут было что-то пугающе новое. Появилась покалывающая боль, потом она урезчилась, сжала раскаленным обручем ниже пояса. Тихон Тихонович закусил губы до крови, чтобы не взвыть и не испугать ребенка, хотел подняться, но не смог – боль скрутила его, согнула в три погибели. Тихон Тихонович, извиваясь в корчах, пополз по полу. Еле-еле перевалился через порог и съехал по ступеням крыльца, держась за живот руками и что-то мыча. Чарли испуганно заскулил, спрятавшись в конуру при виде катающегося в дворовой пыли человека. Старик Беломестных бросился его поднимать, но Тихон Тихонович не давался – отпихивался, скрежеща зубами. Иван Кузьмич даже перекрестился – ему примнилось, что в ягодного уполномоченного вошел бес, настолько нечеловеческими были глаза, выкаченные из орбит. Побежал за старичком-грибничком и шофером Гришей.
– Ох, смертынька моя пришла… Ох, Господи, за каки грехи така мука? – приговаривал Тихон Тихонович, а сам не мог ни сидеть, ни стоять, ни лежать: как ни повернись – по-любому было больно.
– Пендицит, чо ли? – с испуганной озадаченностью спросил шофер Гриша.
– Да он у меня давно вырезатый… – в отчаянии всхлипнул Тихон Тихонович.
– Камень, однако… – сожалительно кряхтанул старичок-грибничок.
– Какой ишо камень! – прохрипел Тихон Тихонович, кривясь от невыносимого жжения.
– В почке камень… Один мой кореш-японец точь-в-точь так мучился. Мы ему камень хвощовым настоем вытурили. Я его на ладони держал – этот камень. Крохотный, чо песчинка, а края царапучие… Японец его потом в медальон зашил, чобы другие камни отпугивать.
– А откуда он берется, камень-то этот? – рычал Тихон Тихонович, кидаемый болью то в одну сторону, то в другую.
– А кто его знат… Всяка пакость мало-помалу откладыватся, да камень и получатся.
– Ишо «грибом» выгоняют, – подсказал Иван Кузьмич. – У меня цела банка есть. Правда, подкис малость.
– Вы тут знахарством не займайтесь, – решительно заявил Гриша. – А ежели не камень, а язва? В больницу надо…
Тихона Тихоновича усадили в кабину грузовика, и Гриша повез его быстро, как мог, обратно в Зиму. Но в кабине Тихону Тихоновичу было неусидно, неулежно – он весь исстонался, извозился и запросился в кузов. А в кузове сразу в голос от боли завыл – благо рев мотора все скрадывал. Да и перед кем было стесняться собственного воя, если вокруг тайга. Так припекло, что Тихон Тихонович и Бога вспомнил, а это с ним случалось в моменты наисамых жизненных припекновений. Каких только молитв не набормотал Тихон Тихонович Богу, как будто тот был управляющим болезнями, каких только обещаний, выполнимых и невыполнимых, не надавал, если Бог боль снимет. До того боль затерзала ягодного уполномоченного, что он на миг зубами вцепился в край борта, так что их чуть не выбило.
– За чо? За чо? – с подвыванием выхаркивал щепу Тихон Тихонович. – Чо я тако исделал?
Гриша вволок его в приемный покой уже затемно. Дежурила женщина-врач лет сорока пяти, с плотным узлом черных волос, тронутых сединой, с зелеными глазами. Даже сквозь муки мученские взглядом старого бабника Тихон Тихонович отметил, какие у нее стройные, сильные ноги, на одной из которых была крупная коричневая родинка – и пугающая, и притягивающая. Скуластое, еще очень красивое лицо было суровым и никакого сочувственного трепета не выражало – лишь деловую сосредоточенность. «Хозяйка медной горы», – определил про себя Гриша, так и вцепившись глазами в родинку, из которой торчали несколько жестких волосков.
– Ложитесь! – властно сказала врач, даже не спрашивая, на что жалуется Тихон Тихонович. Его руки, хватающиеся за низ живота, сразу показали ей адрес боли. – Да ложитесь же! Чо вы, как маленький! – повторила врач, надавив руками на плечи Тихона Тихоновича.
Она оторвала его руки от больного места, сама расстегнула брючный ремень и быстро стала ощупывать живот, безжалостно запуская пальцы в тело.
– Не напрягайтесь… Дышите ровно…
В страхе глядя на врача и ожидая самого страшного диагноза, Тихон Тихонович вдруг полуузнал эту женщину. «Откуда я ее знаю?» – мучительно думал ягодный уполномоченный, но боль в животе пересилила узнавание.
– Чо со мной, доктор? – дергаясь под пальцами врача, изнывал Тихон Тихонович. – Язва?
Врач усмехнулась углами четких темных губ:
– Не язва…
– А не холера? – заикаясь от пришедшей в голову черной мысли, приподнялся на локтях Тихон Тихонович.
Зеленые, почти малахитовые глаза, опять напомнив ему о том, что он их знает, скользнули по нему с некоторым холодком.
– Не вбивайте себе холеру в голову, а то вправду будет…
– А этот, как его, пендицит, второй раз быват? – не унимался, постанывая, Тихон Тихонович, а сам думал: «Знаю я эти глаза зеленущие… знаю…»
– Не быват, – отрезала врач. – Скажите, а как у вас с простатой?
– Это чо тако? – растерялся Тихон Тихонович.
– Хорошо, чо не знаете. Но придется проверить. Сопровождающий, отвернитесь. Зоя, перчатку! А вы повернитесь на бок. Так. Теперь подтяните колени к животу… Держитесь!
Тихон Тихонович взвыл – на этот раз и от боли, и от стыда, что такое с ним может выделывать женщина.
Гриша, все-таки с любопытством скосивший глаза через плечо, даже поежился.
– Простата запущенная, но, в общем, ничо страшного… Боль не от нее, – заключила врач. – Сядьте. – Постучала по спине Тихона Тихоновича чуть ниже поясницы. – Здесь больно?
– Угу, – промычал корежащийся ягодный уполномоченный.
Врач продолжала действовать:
– Теперь на спину… Еще раз прощупаем живот… Ага, вот здесь больнее всего? По-видимому, камень в почке. Или песок.
– Какой песок? – совсем испугался Тихон Тихонович. – Из меня он ишо не сыплется…
– Вот и плохо, что не сыплется. Высыпался бы – легче б стало… – неулыбчиво пошутила врач. – Завтра сделаем рентгенограмму. Колика, во всяком случае, почечная… Зоя, немедленно введите баралгин…
Огромная мужеподобная сестра с ручищами молотобойца, на которых неестественно выглядели морковно наманикюренные ногти, что-то зашептала врачу на ухо. Но шептала она басом, а у больных всегда обостренный слух, особенно если шепчутся по поводу их болезней.
– Баралгин у меня для Юрь Серафимыча забронированный… Последние шесть ампул.
– Кто это – Юрь Серафимыч? – поморщилась врач.
– Как это кто? Зав обувной секцией. Помните, он вам итальянские сапоги достал…
Врач густо покраснела, нахмурилась так, что ее черные брови сошлись над глазами.
– Запомните, Зоя, у нас тут не толкучка. Еще не хватало лекарства на сапоги менять. Вы что – не видите, что человек страдает? Делайте инъекцию. Да иглу выберите потоньше…
«Видел я эти брови, видел… Точь-в-точь они так сходились…» – думал Тихон Тихонович, покорно подставляя руку и жертвенно закрывая глаза.
После укола ему стало легче, боль в животе разошлась – осталась лишь тяжесть, и он осмелел, залюбопытствовал:
– Доктор, чо-то чудится, будто ваша личность мне знакомая…
– А мне ваша личность незнакомая, – сказала врач. – Кстати, давайте я вас зарегистрирую. Вам придется пока остаться…
Но только врач обмакнула школьную ручку в чернильницу-неразливашку, как дверь приемного покоя распахнулась, и тщедушный белобрысенький милиционер втащил на себе верзилу с кровоточащей головой.
– Куда ложить? – выдохнул милиционер, еле удерживаясь под навалившимся на него безжизненным телом. Безжизненное тело храпело, однако, во всю ивановскую.
– Зарегистрируетесь завтра, – сказала доктор Тихону Тихоновичу. – Сестра проводит вас в палату…
Доктор мягко, но решительно подняла ягодного уполномоченного с койки, вместе с Гришей помогла милиционеру дотащить его храпящую ношу и уложить, отворачиваясь в сторону от страшенного сивушного перегара.
– Найден на улице Комсомольских Зорь, – отрапортовал взмокший милиционер. – Лежал в лопухах. А насчет головы – то ли его стукнули, то ли сам сподобился. Седни получка…
А Тихон Тихонович все не уходил, прислонившись к притолоке и напряженно вглядываясь в малахитовые глаза врача. «Откуда я ее знаю?». Доктор решительно сунула в нос верзиле вату с нашатырным спиртом, верзила оглушительно чихнул, открыл мутные, несоображающие глаза, но потом снова закрыл их, захрапев еще мощней.
– Крепкая голова, – сказала врач, промывая рану. – То ли сам на кирпич угодил, то ли его кто-то кирпичом по голове погладил. Видите, товарищ милиционер, на вате кирпичная крошка. Рана, к счастью, неглубокая… Зоя, противостолбнячную инъекцию… Товарищ милиционер, хотите чуток спирту? С устатку помогает.
– Вообще-то я на посту… – застеснялся милиционер.
– Ничего, я тоже на посту и с вами приложусь за компанию, – улыбнувшись, сказала врач, разлив спирт в две мензурки. – Я тоже устала сегодня, как собака. Только один настоящий больной… Целых тридцать четыре жертвы получек сегодня приняла… Вам разбавить?
– Вообще-то, я не разбавляю, – еще пуще застеснялся милиционер.
– И я, – сказала врач и молниеносным мужским движением опрокинула мензурку.
– На здоровьице! – восхищенный доктором, вставил Гриша.
– Выметайтесь-ка отсюда, – строго сказала ему врач и заметила ягодного уполномоченного. – И вы немедленно в палату вместе с вашей холерой… Чо вы на меня, как баран на новы ворота уставились? Не видели, как женщины спирт пьют? Сейчас все перемешалось: не поймешь, кто баба, кто мужик… Если самой на дежурстве не выпить немножко, от перегара рехнуться можно…
– А давно у вас эта зеленоглазая? – спросил Тихон Тихонович медсестру, с трудом влезая в больничную, севшую после стольких стирок пижаму.
Медсестра доверительно пробасила, взбивая тощую подушку увесистыми шлепками своих ручищ молотобойца:
– Новенька. У нас тут кой-каких старых врачей сменили. Брали… А как же не брать, ежели не зарплата, а заплата… А вот эта не берет… Ей Юрь Серафимович сапоги принес в подарок за мочеточник, а она ему – деньги. «Красивые, говорит, сапоги, но иначе жать будут». Бабку одну обидела, когда та ей индюшку приволокла. «Я, говорит, только павлинов принимаю». Кака-то она бесчеловечна… Единственно, чо в ней человеческого, так это то, чо выпиват. Правда, дело знат…
– А откуда она? – допытывался Тихон Тихонович, напрягая память.
– Она наша, сибирска, с Лены откудось… Только скрытна – ничо не вытянешь…
– А фамилия ее как? – докапывался ягодный уполномоченный.
– Залогина Дарья Севастьяновна… – И медсестра заспешила: – Ну, я пойду. Вот вам баночка. Завтра утречком мочу на анализ сдайте… Чо с вами? Опять схватило?
– Нет, нет… – забормотал изменившийся в лице Тихон Тихонович. – В сон чо-то клонит.
– Ну, и ладненько. Значит, баночку я вам под кровать ставлю…
А Тихон Тихонович подтянул к подбородку шершавое одеяло, потом накрылся им с головой, как будто кто-то в больничной темноте мог разглядеть, что у него делается с лицом. А лицо расползлось, само не знало – то ли плакать ему, то ли совсем исчезнуть с бела света. Наконец-то, понял Тихон Тихонович, на кого была похожа суровая докторша, – на ту Дашу Залогину из Тетеревки, с груди которой он сорок три года назад сцеловывал черемушные ягоды на Косом угоре. Такие же малахитовые глаза, такие же черные густые брови, такие же обтянутые смуглой кожей резкие скулы. Только та Даша была моложе этой лет на двадцать пять и в волосах ее еще не было ни сединки, и никакого спирта она не пила. Считал годы Тихон Тихонович, и получалось у него, что эта доктор могла быть его и Дашиной дочерью, только отчество не совпадало. Чем больше казалось это правдой Тихону Тихоновичу, тем страшнее и стыднее ему становилось, потому что, если бы не камень в почке, он бы и не встретил свою единственную дочь и даже не догадался бы, что она существует. «А может, все-таки совпадение? – забрезжила трусливая надежда. – Опять же отчество не то…»








