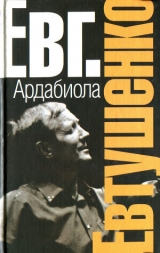
Текст книги "Ардабиола"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
7
Иван Кузьмич Беломестных как будто что-то предчувствовал в этот день.
Его черная, с белой звездой во лбу корова Зорька, всегда обычно смирная, когда он доил ее, утром пошалила малость в стайке и опрокинула копытом подойник. Чарли что-то чересчур ластился к нему, искательно терся о сапог, заглядывал в глаза. Иван Кузьмич подумал о том, как странно устроено собачье лицо. Даже если весело собаке, глаза у нее все равно остаются грустными. Не может улыбнуться собака лицом, она улыбается только хвостом и повизгиванием. А если собаке грустно, то глаза у нее делаются такими тревожными, как будто все на белом свете находится под неведомой угрозой, чуемой только ею, собакой. Еще подумал Иван Кузьмич о том, почему так короток собачий век. Наверно, потому, что собака устроена тоньше человека и умирает так рано не то чтобы от чрезмерных чувств, но от чрезмерных предчувствий. Каждый раз, когда хозяин уходит из дому даже ненадолго, собаке кажется, и то он покидает ее навсегда. Никто не умеет так ждать, как собака, и бывает, собаки ждут даже умерших хозяев, приходя на их могилы. За долгую свою жизнь похоронил Иван Кузьмич много собак, и Чарли, пожалуй, окажется той собакой, которая переживет его и будет ждать его возвращения из смерти. А ведь случалось, пинал его Иван Кузьмич под горячую руку. И добрый человек бывает жесток под горячую руку. Мало ли жестокостей понаделано в мире под горячую руку вовсе не жестокими людьми! Доброе дело можно превратить в жестокость, а вот жестокость уже ни во что доброе не превратится.
Иван Кузьмич не был жесток, а вот жестковат – частенько. Но кто его знает, где граница между жестокостью и жесткостью. Жестковат был с матерью. Бывало, мать скажет: «Расскажи мне, сынок, чо с тобой…», а он в ответ по-бирючьи: «Чо рассказывать-то…» Бывал жестковат с женой. Она ему: «Ваня, ну хоть словечко ласково шепни…», а он пробурчит что-то недовольное. Жену он любил, а вот нежным с ней не был: нежность считал бабьим делом, а не мужицким. Жестковато воспитывал сыновей – ставил в темный угол коленями на горох, ремнем пользовал. Полегли на войне все трое – теперь их не приласкаешь. С Ксютой тоже был жестковат. Как будто часть ревности, обращенной к покойной жене, повернул на нее Иван Кузьмич, спрятать от мира старался, а что из этого вышло? Всего нежного, не сказанного вовремя, уже не скажешь, а всего грубого, сказанного, уже не воротишь. Размышлял Иван Кузьмич о том, что люди почему-то стесняются свою доброту обнаруживать, как будто доброта – это стыдная человеческая слабость. Сильными хотят выглядеть люди, несомневающимися, не роняющими себя до жалости, а ведь, может, сомнение в себе, жалость к другим и есть человеческая главная сила. Ну зачем он пытал Ксюту расспросами, вырвав у нее нелепое признание в том, что отец ребенка – Тихон Тихонович? Как ему самому-то, Ивану Кузьмичу, дурню старому, могло в голову такое прийти? А может, пришло это оттого, что однажды, уже после смерти жены, согрешил он по хмельному делу с дочкой пасечника, молодой, в Ксютином возрасте, девахой. Так чего же свои грехи чужим приписывать? Сам довел дочь до того, что в перестарках засиделась, а грех по белу свету гуляет, только глазами и шнырит – кого бы угрешить. Как случилось, так и случилось, а ребенок всегда невиноватый. Зачем же ты выгнал дочь, Иван Кузьмич?
Мучаясь от этих мыслей, старик Беломестных взял топор и стал колоть дрова, хотя поленница его была и без того высокая. Ставил напиленные чурбаки срезом посвежее кверху, вгонял в них с хряском тяжеленный колун, разваливая их надвое, а потом топором полегче выкалывал мелкие до ненужности полешки – лишь бы продлить работу. Старость давала о себе знать, но, когда он брался за что-нибудь, уходила из тела.
Вдруг Чарли насторожил уши, а потом рванулся к калитке, царапаясь в нее. Иван Кузьмич остановил в воздухе топор, прислушался, и до него дошел приближающийся рокот грузовика. Машины на Белую Заимку заходили редко, и Иван Кузьмич снова принялся колоть дрова – мало ли кого черт принес!
Грузовик зарокотал где-то рядом и невидимо остановился за высоким заплотом. Железное кольцо в калитке повернулось, и во двор ввалился ягодный уполномоченный, сразу чуть не сшибленный собакой.
– Ну чо ты, Чарленька, ну чо ты? Тихон Тихоныча не узнаешь? – с пугливой игривостью забормотал ягодный уполномоченный и вдруг, увидев топор в руках старика Беломестных, залепетал: – Иван Кузьмич, ты чо, ты чо? Я перед тобой, Иван Кузьмич, как стеклышко… Ты чо с топором-то?
– Дрова колю, – нехотя сказал Иван Кузьмич. – А те чо здеся надо?
– Мне ничо, Иван Кузьмич, мне ничо, – продолжал лепетать ягодный уполномоченный, пятясь к калитке. – Ксюту я тебе привез и внука твово.
Иван Кузьмич, не выпуская из рук топора, кинулся к калитке. «Зарубит Ксюту!» – мелькнуло в голове ягодного уполномоченного, и он повис на старике:
– Иван Кузьмич, топор-то зачем? Зачем, говорю, топор?
Старик опомнился, всадил топор в валявшийся чурбан и нырнул в калитку, отшвырнув ягодного уполномоченного.
Ивана Кузьмича опередил Чарли, уже прыгавший перед кабиной грузовика, откуда виднелось бледное лицо Ксюты, прижавшей к себе ребенка.
Увидев Ксюту, Иван Кузьмич сразу придержал себя, перейдя на степенный шаг, как будто он ожидал Ксюту именно в этот день, именно с этим грузовиком, и вообще все было, как положено.
– А ну, мать, давай-ка внука.
Ксюта, всхлипывая, протянула деду сверток, из которого высовывалось личико ребенка.
– Бородой не уколите только…
Иван Кузьмич принял ребенка, чувствуя в своих руках редкую для них неуверенность, точно такую, какую он почувствовал когда-то, принимая из рук жены первого сына.
Запершило в горле у старика, но он удержал вставшие в глазах слезы, не допустил характер до послабления и только сказал:
– Ух ты, масенький, а увесистый!.. Чалдонска кость, тяжела… Ну, пошли, чалдон, в твой дом.
Иван Кузьмич остановился у калитки, поклонился нежданным гостям:
– Все, видно, притомились, всех и в дом прошу. Мать пущай отдыхат, а я уж со своей бородой за хозяйку буду.
– А у меня к такому случаю «ессенция» в наличии, Иван Кузьмич, – заюлил вокруг него ягодный уполномоченный, еще не верящий, что все так благополучно обошлось.
– Сгодится, – сказал Иван Кузьмич. – Сегодня и я выпью. – И, наклонившись, добавил так, чтобы никто не слышал: – А ты, однако, трусоват… папаша.
8
Все, что только могло найтись в избе, было на столе: и хайрюза соленые, и капуста квашеная, и брусника моченая, и жарёха из грибов, и картошка с постным маслом и черемшой, и даже ананасный компот из далекой Мексики, открытый по торжественному случаю. Гриша добавил свое пиво: оно было поставлено в ведро с колодезной водой.
Виновник торжества – новый, живой комочек человечества – крепко спал за стеной рядом с матерью. Уже много «ессенции» было выпито из граненых стаканов, а застольные разговоры не утихали.
– Вить чо есть ребенок, – говорил ягодный уполномоченный. – Это есть чаша природы, и мы можем наполнить ее или ядом, или… или… – Тихон Тихонович запнулся, подыскивая слова.
– Или ессенцией, – шутливо подсказал Гриша.
– Да, или ессенцией, – вдруг загрустил ягодный уполномоченный. – А кто я есть? Я и есть ребенок, наполненный ессенцией…
– Хорош ребеночек… – незлобиво ухмыльнулся в бороду Иван Кузьмич.
– И вить прав Тихон Тихонович, – сказал грибничок. – Все, чо в нас есть и посейчас, ишо в детстве закладатся. Я вот единственно чем на ребенка похож с виду, так только тем, чо такой же сморщенный. А ковырни меня поглубже, там все тот же Никанорка сидит, каким меня отец за вихры таскал. Я, честно говоря, детей, неблагодарных отцам, не люблю, а вот сам свому отцу ох как неблагодарен. Неблагодарен я ему за то, что он в страхе меня держал. Думал он, чо страх – это учитель наилучший. Верно, учит страх, только чему? Подчинению тому, с чем ты не согласен. А ежели подчиняться тому, чо ненавидишь, и презирать, ты тем самым, чо презирать, и становишься. Нету тогда тебе пути назад из твово страху. Только в одном страхе надо детей держать – в страхе совести. Этот страх, можно сказать, смелый страх. Когда взрослыми дети станут, а жизнь будет внушать им трусливые страхи, то, как на камень, наткнется она в них на смелый страх и отступит…
– Преувеличивашь ты семейно воспитание, Никанор Сергеевич, – сказал Гриша, – меня отец с матерью ничему плохому не учили и никакого страху во мне не ростили. А на улицу со двора вышел – и забоялся. Шпана ножичками поигрыват, пьяные валяются, слова матерные слышатся, сосед соседку за волосья таскат. Ничо такого дома я не видал. И тогда страх во мне явился, чо слишком непохожий я на улицу, как герань комнатная на репьи колючие. Побили пару раз крепко за то, чо маменькин сынок. Слабым казаться застеснялся. Ножичек себе завел, блат напустил на сапоги.
– Какой блат? – спросил геологический парень.
– Это когда голенища для форсу завертываются и на них брюки с напуском… Пришел однажды домой под утро, от первой водки мне все нутро на гумне аж вывернуло. Разделся до пояса в ограде, вылил на себя ведро холодной воды. Мать ко мне подходит, спрашиват: «Это чо у тебя на груди-то, Гришенька?» А у меня там татуировка – голая баба верхом на Наполеоне. Семнадцать лет мне ишо было. Мать взяла мокру тряпку да как начала меня хлестать по лицу – первый раз била! А у меня мат с языка сорвался – научила меня улица. Тогда заплакала мать и спрашиват: «Гриша, рази мы с отцом учили тебя всему этому?» Конечно, не учили, а вот не устояло их воспитание перед другими учителями.
– Чо ж ты себе плохих учителей выбирал? – насупился Тихон Тихонович. – Или по улицам хороших учителей нисколь не ходит?
– Ходют, – согласился Гриша. – Да только хороши учителя – они часто скучными бывают, оскоминными. А иногда, ежели хорошего, нескучного учителя встретишь, из него Бога начинашь делать. Но увидишь какой-нибудь его малый порок, с его словами высокими не сочетающийся, и рассыпатся твой Бог, как ствол трухлявый. Страх высоких слов появлятся – все они обманными кажутся. Занудство лицемерное, под которым грешки собственные кроются. А плохи учителя – они всегда интересными кажутся, необычными, свободными от занудства. Вот и начинашь им подражать. Так и угодил я восемнадцати лет за игру с ножичком. Слава Богу, чо ишо никого убить не успел. А то, может, убил бы из страха, чо смелым не покажусь.
– Ну, это ты, Гриша, на себя наговаривашь… Запей-ка «ессенцию» соком брусничным… – сказал Тихон Тихонович. – Срок ты свой за фулиганство отсидел, как положено, но ведь человеком стал, а не убийцей, и все тебя уважают.
– Страх меня спас, – сказал Гриша. – В тюрьме я уже оказался не просто среди хулиганов с ножичками. И настоящие убийцы попадались. Тоже в учителя лезли. Тогда-то и возник страх стать на убийц похожим. Тут уж от матери я бы мокрой тряпкой по морде не отделался – прокляла бы меня.
– Вот это и есть смелый страх, Гриша, – вставил Никанор Сергеевич. – А он все-таки от воспитания семейного. Сколь енергии, и белой и черной, род людской тратит на то, чобы взять да и враз человека переделать с головы до ног. Белой енергии это ишо, к сожалению, не удалось, и черной енергии не удалось, к счастию общему. А ежели бы все люди задались только одной целью – воспитать своих детей в смелом страхе, в страхе совести, то и произошла бы самая наивелика революция.
Но такой революции долго ждать придется… Когда из старой халупы идет в нову избу переселение, надо не только все подушки да узлы перетаскиваемые проверить, но и швы рубашек собственных: не затащим ли мы в нову избу блох, клопов и вшей из старой халупы. Я вот свой страх затащил из старой халупы, керосином его выморить в себе пытался, а он, чо твой клоп, живуч. Да к тому же страх этот – хитрый клоп и, когда крови напьется, добреньким сверчком прикидыватся – вроде бы верещит в щели, и тебе уютно. Дети наши уже тово мово страха, конечно, не знают, но страха совести в их маловато.
Никанор Сергеевич хватанул еще стаканчик «ессенции», закусил хайрюзком и сказал геологическому парню:
– Ты не подумай, чо я на молодо поколение поварчиваю. Оно лучше нас. А вот намного ли лучше? Надо, чобы намного было лучше. Все добро из нас возьмите, но наших клопов к себе не затаскивайте… Тебя как зовут-то?
– Сережа Лачугин, – ответил геологический парень.
– Фамилие твое, прямо скажем, не дворянское. А отец-то твой кто?
– Профессор гляциологии.
– Это чо же тако? Биология – это я понимаю, физиология, психология, зоология – понимаю, а о гляциологии не слыхал.
– Это наука о льдах.
Никанор Сергеевич задумался:
– Льдом все началось, и льдом все может кончиться… Ага, понял, выходит, это нужна наука… Ну, а отец твово отца кто был?
– Путиловский рабочий, красногвардеец.
– Вот видишь, а внук геолог. Возможно ли тако было до Октябрьской революции? – радостно ерзнул ягодный уполномоченный.
– Кто возражат! – сказал Никанор Сергеевич. – Никак невозможно. Хотя, конечно, Ломоносов крестьянским сыном был, но и при царице пробился.
– Так он же был Петра Первого, как это сказать, боковой сын… – ввернул ягодный уполномоченный, довольный тем, что уел Никанора Сергеевича этим, хотя и непроверенным, но важным сведением.
– Я над Петром Первым свечки не держал, – сказал Никанор Сергеевич. – А вот основополагателем интеллигенции российской, как я разумею, был Пушкин. Кака така тогда интеллигенция была? Конечно, дворянска. Мужичье серо холопило на них, и это им позволило своим детишкам гувернантов французских выписывать, библиотеки на всяческих языках содержать. Движение декабристско в особом смысле и мужицким было. Без того, чобы неграмотны мужики пахали и сеяли, дворянским детям никак невозможно было те французски книги покупать, от которых они вольного духу набрались. Свою вину дворянски дети искупить перед народом обессловленным хотели. Но их горсточка была – таких дворянских детей. Чо может горсточка сделать? В газете «Неделя» прочел я, чо у Пушкина Александра Сергеевича при жизни книги только по три тысячи штук расходились, а сейчас многи миллионы.
– А ты думашь, сейчас любой Пушкина понимат? – усмехнулся Гриша. – То, чо за книжками, как за апельсинами, убиваются, ишо не показатель. Ты знашь, чо мне наша кладовщица сказала про свою нову квартиру? «Египетска двуспальна кровать „Лола“ у меня есть, Гриша. Польска кухня „Гданьск“ тоже есть, хотя фурнитура кудатось запропастилась. Чешски книжны полки тоже, а вот книжек на них – сама сантиметром мерила! – ровно на метр двадцать не хватат!»
– Быват, – согласился Никанор Сергеевич. – Но библиотека – вещь наследственна, и дети твоей кладовщицы, авось, эти книжки прочтут. Интеллигенция при Пушкине елитой была. К революции мы, коли память мне не отшибло, аж на семьдесят процентов неграмотными были. Интеллигенция уже поширше стала, иначе бы революция не получилась. Чо же получилось потом с нашей интеллигенцией? Поубивало многих и по красну и по белу сторону. Поуезжали многи в чужи страны от непонятия событий. По тем, кто остался, известны годы утюгом прошли, да и на войне с немцами столь погибло. Больши потери были. Друга бы страна, однако, не выдержала. А у нас интеллигенция двужильна, как мужики. Сохранила себя, да не только сохранилась, а и выросла. Дети путиловцев профессорами стали, гляциологиями занимаются. Сколь у нас из Зимы захолустной высшеобразованных вышло! Кто первый испытатель самолетов реактивных? Наш, зиминский, – Гринчик. Песню «Хотят ли русские войны» кто написал? Наш зиминский парень, хотя он ишо порядком непутевый и высшего образования так и не достиг. Неграмотности теперь нету, а это большая победа, ежели прошло вспомнить.
– Неграмотность мы ликвидировали как класс, – торжественно сказал ягодный уполномоченный, слегка качнувшись от нового стакана «ессенции».
– Но вить грамотность настояща, она потихоньку приходит, а не с наскоку. Я вот и книг на старость лет накупил, читаю разны велики произведения, а поздновато – мне уже интеллигентом не быть, – продолжал Никанор Сергеевич. – Поздно мне та женщина с иностранного портрета улыбнулась. Интеллигент есть настоящий интеллигент, наверно, только в третьем колене рода, когда он культуру по клочкам не урыват, а растет среди ее, как среди воздуха.
– Погоди, Никанор Сергеевич, – сказал Гриша. – А куда же Горького девать? Он чо, не интеллигент, по-твоему? А ведь он булки пек…
– Горький есть исключение. На исключениях жизнь не построишь.
– Постой, постой, – забеспокоился ягодный уполномоченный. – Куда ты гнешь, Никанор? Ты чо хошь сказать, чо наша интеллигенция как бы и не интеллигенция?
– Я туда не гну, не бойся, Тихон Тихонович, – примирительно продолжал грибничок.
Он взял глубокую тарелку с ухой в одну руку, а в другую расписанный цветами жестяной поднос, на котором лежал нарезанный хлеб.
– Этот поднос ширше, конечно, чем тарелка. Но тарелка-то глубже. Ежели ты на поднос будешь уху наливать, то она широко разольется, но ложкой ее трудненько будет вычерпывать, пожалуй, и одной не наберешь. Я к тому, чо интеллигентность наша российская ширше стала, поверхность всей земли нашей залила, но глубины ей ишо недостает.
Тут Гриша, забыв про кладовщицу, рассердился:
– А Гагарин? А наши атомоходы? А Братска ГЭС, котора у тебя под носом, Никанор Сергеевич? Кто же, как не рабочий класс вместе с интеллигенцией, за этим стоит?
– Братску ГЭС мы построили, верно, но это техника. А Пушкина нашего, Гриша, мы ишо не построили. И ни одна доярка на репродукциях в «Огоньке» ишо так не улыбатся, как та женщина на старинном иностранном портрете.
– Но-но, ты без этого… как его… низкопоклонства… – пробасил ягодный уполномоченный.
– А почему же без низкопоклонства? – улыбнулся грибничок. – Я вить не капиталу или имперьялизму иностранному низкий поклон отдаю, а улыбке, трудовым художником сотворенной, и никакой он для меня не иностранный, ежели трудовой. Капитализм я вихрами через руку моего собственного папаши изучил – хотя и маленький это был капитализм, но тоже подлый. А в гражданку я имперьялизм понюхал, когда колчаковски офицера вместях с американскими, коньячок попивая, за свистом шомполов наблюдали. Знаю я, каки они интеллигенты закавычены. Я так душой за нашу интеллигенцию нову болею потому, чо сам интеллигентом не стал и в ней все свое неслучившееся видеть хочу. В широте интеллигенции мы, можно сказать, всем капитализмам нос утерли. Глубины нам не хватат. А ежели углубим эту широту завоеванную, на третье колено интеллигентности перейдем, то однажды проснемся первым в человечестве народом интеллигентов, – и грибничок воинственно запил свое заявление «ессенцией».
– Ну и путаница у тебя в голове, Никанор. То тебя в черну, то в розову сторону водит… Какой-то ты весь именно не черно-белый, а черно-розовый… – закряхтел ягодный уполномоченный. – Кто же тогда пахать будет, за станками стоять?
– Как это кто, Тихон Тихонович! Интеллигенты. Интеллигентом может быть и крестьянин, и рабочий, а не только профессор. Тот, кто себя интеллигентом называт и от этого нос задират, какой он интеллигент! – ответил грибничок.
– Тут я с тобой, Никанор Сергеевич, – решительно заявил Гриша. – Помнится, возил я одного иркутского лектора. А уж когда он напился…
– Ну, это ты к неинтеллигентности не относи… – погрозил ему пальцем ягодный уполномоченный.
– Да не в том дело, что напился, а в том, как напился, – продолжал Гриша. – Иной, быват, напьется и смирненько в лужу плюхнется. Внешний вид общества, конечно, портит, но вреда никому, окромя себя, не делат. Другой покуражится, пошумит, повыступат, но это все с пониманием можно принять: душа мужская потоковать хочет. Выпивка – она все наверх поднимат, чо в душе до выпивки на дне находится. Чо у трезвого на уме, то у пьяного на языке, как говорится. Так вот, этот гость сначала лекцию о международном положении толкал, и все в его словах насчет кризиса капитализма и прогресса в развивающихся странах было вроде интеллигентно. Потом поехали мы на охоту, уток стрелять. Как назло, ни одной утки не село, не пролетело. Закострились мы, выпили малость, но тут и понесло нашего лектора – полезли из его глотки анекдоты один другого похабнее. Да не просто похабщина безобидная, такую, грешным делом, и сам пользую, а кака-то с подлецой. И вижу я, он передо мной, перед шофером, этой похабщиной как бы заискиват, поднародиться хочет, демократичность свою показыват. Рассказыват и сам гогочет. Я молчу. «Ну, говорит, сейчас я один тебе такой расскажу – пальчики оближешь». И рассказывает мне анекдот, аж изо рта старорежимной тухлятиной несет. «Ну как, – спрашиват, – понравился анекдот?» – «Нет, говорю, очень не понравился. Вы, видать, не из Сибири родом?» – «А почему ты так спрашивашь?» – «А потому, говорю, чо у нас в коренной Сибири все нации всегда в мире жили, никогда друг друга не забижали, и слово „жид“ я в первый раз в тюрьме от уголовников услыхал». Покосился он на меня опасливо, когда узнал, чо я был в тюрьме, но потом ишо хлебнул и стыд совсем потерял. «Достань мне, Гриша, бабу какую-нибудь ядреную деревенскую, а то я от своих городских трагедий устал». Я ему так ответил: «Я сам бабник, товариш лектор, но ишо сводником не был. Баба – это не продукт дефицитный, чоб ее по блату доставать». А когда домой вертались и мимо птицефермы проезжали, вышел из машины пьяненький лектор потравить и вдруг на пруду гусей государственных увидел. Хвать он ружьишко с плеча и ну палить по гусям – дикими они ему спьяну показались. Вырвал я у него ружьишко, но двух штук успел он сдуплить, скотина. А ведь интеллигентом себя, небось, считат.
– Нет, это не интеллигент, – сказал грибничок. – Таки анекдоты не из интеллигентов, не из крестьянского, не из рабочего роду произошли, а из лавочников. Частну торговлю мы, конечно, прикрыли, окромя рынка. А только иной вроде бы и государству служит, а сам по поведению свому частный торговец. В государственного человека играт, а раздень его от слов притворных – это тот же москательщик, галантерейщик, бакалейщик. Повезло мне в жизни, чо многих настоящих интеллигентов на Дальнем Востоке повстречал, около их разговоров погрелся. Настоящий интеллигент с народом никогда не заигрыват, не подлаживатся. Он с народом сурьезно говорит, как с собой, потому чо он и сам народ.
– А что такое народ, по-вашему? – спросил геологический парень.
– Народ – это лучши люди в народе. А быть лучшим – это от одного образования не зависит. Пушкинска няня Арина Родионовна, вечна память ей, народом была, хотя и необразованна, и Пушкина народом сделала.
– Опять не пойму тебя, Никанор, – зашевелил морщинами ягодный уполномоченный. – То, по-твоему, образованность само главно, то душа добра, даже необразованна.
– Душа добра само главно, но без образования она слабая. А душа злая чем образованней, тем страшней, – сказал грибничок и обратился к хозяину дома: – Давай выпьем, Иван Кузьмич, за твово внука, а то мы от него в сторону ушли. Да, впрочем, не ушли, а идем в его сторону этими разговорами. Пущай он вырастет и с доброй, и с образованной душой. Вить это кто там за стеной в материнскую грудь губами тычется? Россия будущая…
Ягодный уполномоченный при слове «Россия» встряхнул головой, налил себе еще «ессенции», выпил и запел неожиданно тоненьким для его комплекции голосом:
Летят перелетные птицы…
Гриша его поддержал, выводя верха бархатным баритоном и как бы любуясь со стороны красотой своего голоса:
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.
– Чо старики не поют, это я понимаю. Для них и эта песня молодая слишком, – сказал ягодный уполномоченный, кивая на грибничка, хозяина и сам себя в стариках явно не считая. – Ну, а ты чо не подтягивашь, геолог? Для тебя эта песня уже старая, чо ли?
– Я слов не знаю, – ответил геологический парень. – Но мне бы, например, и Турцию хотелось бы увидеть, и Африку…
– Эх, молодое поколение, – погрозил ему пальцем ягодный уполномоченный. – А какие же ты слова знашь? Всяких твистов-свистов?
– Не трожь юношу, Тихон Тихонович, – сказал грибничок. – Я вот сейчас начну, и бьюсь об заклад, чо и он подпоет…
Встал Никанор Сергеевич, щупленький, жизнью затерханный, провел по губам тыльной стороной ладони, словно очищая их для растущей внутри песни. Пробежала по его смятому временем лицу с птичьим носиком волна величия, смывая морщины. Худенькие плечи расправились. Горделиво вздернулась ввысь жидкая бороденка, и полилась из нее могуче и молодо песня, словно пел это не сам Никанор Сергеевич, а кто-то спрятанный в нем:
Славное море – священный Байкал…
Встал Гриша, повел еще шире, раздольнее:
Славный корабль – омулевая бочка.
Вступил Тихон Тихонович, размахивая хайрюзовым хвостом и роняя в «ессенцию» слезы:
Эй, баргузин, пошевеливай вал.
Встал Иван Кузьмич, дотоле сидевший молчун молчуном, тряхнул стариной, проявив глуховатый, тоскующий бас:
Молодцу плыть недалечко!
И геологический парень тоже запел, хотя и не шибко красиво, но с душой. И слова, оказалось, знал:
Долго я тяжкие цепи носил.
«Ага, знат нашу сибирскую песню! Чо ты его твистами шпынял, Тихон Тихонович», – торжествующе мелькнуло во взгляде Никанора Сергеевича. Он обнял геологического парня левой рукой и, сжав правую в небольшой, но крепенький кулачок, погрозил кому-то невидимому:
Долго скитался в горах Акатуя…
Гриша обнял ягодного уполномоченного, совсем позабыв, что тот как-никак начальство, и, лукаво кося на него глазами, вывел протяжно и разбойно:
Старый бродяга бежать пособил…
И ягодный уполномоченный пропел, как будто вздохнул о себе:
Ожил я, волю почуя.
Из-за стены вышла Ксюта, протирая заспанные глаза, нестрого приложила палец к губам. Из уважения к ребенку песню остановили.
И тогда сказал Иван Кузьмич Беломестных:
– Вот так бы и жили люди на свете белом, как умеют они вместе песни петь, все бы хорошо тогда было. Много было здесь разговоров говорено. До чего-то я умом своим заскорузлым не добрался, а с чем-то и несогласный был, но это второ дело. Перво дело, чо говорить люди стали, не боятся мыслей своих. Вить ежели мыслей бояться, их совсем не будет. Спасибо вам, гости дорогие, прибыли вы с подарком драгоценным – с внуком. Пущай он кем хошь будет, лишь бы человеком. Об одном только вы не сказали, но я скажу. Нельзя, чобы война была. Шибко нельзя. Война – она людей от доброты и от образованности отшвыриват. Сколь веков мы с мамаями воевали, и куда нас это отшвырнуло… А сколь войн потом было. Я вот по трем отгрохать сапогами успел и тоже в чем-то человек отшвырнутый. Доброты во мне часто не хватат, а про образованность чо говорить. Простите за это. И ты, Ксюта, прости. Мир и нам, старым людям, нужен, ишо налучшу жизнь поглядеть хоть своими подслеповатыми хочется. А как ему, несмышленышу, мир нужен, он и сам, конечно, не понимат, но мы за него понимать должны. А чобы мир между народами настал, сначала надо мир между людьми наладить. А то вить воюем мы друг против друга, и, быват, по пустякам. Не надо по пустякам воевать, и тогда, Бог поможет, большой войны не будет.
– За мир! – восторженно завопил ягодный уполномоченный, бросаясь на грудь старику Беломестных. – Эх, Иван Кузьмич, да я с тобой… да мы с тобой… да все мы вместе… А я остаюся с тобою, родная моя сторона… Да, остаюся! Куда мне ишо деваться!
И дал большую слезу от многих чувств, невозможных для высказывания словами. А потом заснул на стуле как сидел, уронив голову в квашеную капусту. Гриша и геологический парень легли на сеновале. Ночной ветер, проникший в щели, тревожил сено, и оно ворочалось, дышало, как живое, хотело поделиться с людьми своими мыслями, но не могло. Под ветром поскрипывал рассохшийся колодезный журавль, качая длинной шеей под звездами, уставшими, но продолжающими светить людям. А им еще надо было светить долго, чтобы люди, притянутые тяжестью земли, могли иногда поднимать свои головы, смотреть на звезды и задумываться о том, что помимо смешного и грустного, помимо подлого и доброго, помимо жизни и смерти на земле, есть еще мировая бесконечность.
Грибничка уложили в боковушке на железной певучей кровати с никелированными шарами, и, когда Иван Кузьмич посветил ему керосиновой лампой, Никанор Сергеевич увидел над этой кроватью клеенку со своими лебедями. «И сюда долетели», – грустно усмехнулся Никанор Сергеевич. Но заснул он крепко, и ему приснился сон, будто находятся они с японцем Куродой в каком-то необыкновенном лесу, где стоят великаны-грибы выше человеческого роста, и двуручной пилой Курода и он пилят необхватный ствол одного груздя-великана, чтобы отвезти на Гришином грузовике в Хиросиму и показать всему человечеству, устыдив его в других страшных грибах, изобретенных людьми.
А маленькому человеку еще, наверно, ничего не снилось, потому что у него пока не было прошлого и, значит, не было никаких воспоминаний, которые и рождают наши сны.








