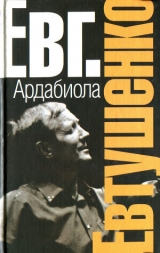
Текст книги "Ардабиола"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
К огорчению Гривса, японец, кажется, не обиделся и промолчал.
Стюардесса поставила на столики пластмассовые подносы с обедом.
– К сожалению, я почти ничего не могу есть из этого, – сказал японец, поковыряв вилкой пищу. – Тюрьма подарила мне на память язву.
«Ага, он был осужден как военный преступник. А теперь стал борцом за мир», – злорадно подумал Гривс, стараясь позвучней жевать бифштекс, чтобы японцу стало завидно.
– Я был в бригаде камикадзе, и вместе с несколькими товарищами мы отказались выполнить приказ, – продолжал японец.
– Жизнь показалась вам дороже славы? – подколол его Гривс.
– Не совсем так. Просто мы перестали чувствовать свое величие. Мы поняли, что война бессмысленна. Нас не расстреляли. Нас хотели наказать общественным позором.
«Я совсем не знаю его, а словно бы оправдываюсь перед ним. Для него я человек, который бомбил Пирл-Харбор, и только. Я же не могу сделать так, чтобы он увидел ту улицу, по которой нас когда-то вели…»
…Трое бывших камикадзе шли посередине улицы, оставляя босыми ногами вмятины на плавящемся от жары асфальте.
Мокрые гимнастерки с содранными погонами прилипли к их телам. Пот градом катился по лицам, но его невозможно было стереть: в руки вцепились наручники.
На груди у каждого висел лист фанеры с иероглифом трусости.
– Тру-сы! Тру-сы! – надрывалась толпа, похожая на одну разинутую, брызгающую слюной глотку, пытаясь прорвать цепь еле сдерживающих напор полицейских в рубашках с темными от пота подмышками.
– Пустите меня! Я вырежу им это слово на спинах! – визжал какой-то очумевший старик, размахивая вытащенной из нафталина самурайской саблей.
Молодящаяся дама в ярком не по возрасту кимоно, у которой по лицу, жирному от выступившего крема, ручьями стекали румяна, проскользнула под сцепленными руками полицейских и подбежала к летчикам. Она сняла гэта с ноги и стала бить каблуком тогда еще совсем юного Кимуру, вобравшего голову в плечи. Удовлетворенно глядя на достойные действия патриотки, с витрины галантерейного магазина улыбался император.
Даму еле оттащили, а Кимура разрыдался.
– Может быть, мы действительно трусы, Макота-сан? – спросил он, захлебываясь слезами, у самого старшего из летчиков, презрительно глядевшего на взбесившуюся толпу.
– Нет, – ответил Макота. – Это они трусы.
Со всех сторон в предателей родины летели гнилые бананы, камни, бутылки. Какой-то особенно усердствующий патриот перегнулся через руки полицейских и, собрав всю слюну, с восторженной ненавистью харкнул в лицо Макоте. Макота сделал непроизвольное движение, пытаясь выдрать руки из наручников, чтобы стереть плевок. Жирный плевок повис на щеке, медленно сползая вместе с потом. Макота нагнул голову вбок, стараясь достать щекой плечо, но подбородок уперся в лист фанеры с иероглифом трусости. Толпа радостно гоготала.
И вдруг раздался хриплый возглас:
– Пропустите инвалида Цусимы!
– Пропустите инвалида Цусимы, пропустите! – подхватили в толпе. – Он им покажет!
Полицейские расступились, пропуская махонького, тощего старика на костылях, в кожаном фартуке сапожника и с молотком, засунутым за фартук.
– Дай им костылем, старик! – завизжали в толпе. Старик подковылял к Макоте и вынул молоток из-за фартука.
– Нет, он молотком – это покрепче. Правильно, старик! Дай ему по глазам! – неистовствовали в толпе.
Желваки резко обозначились на скулах Макоты. Гордо вскинув подбородок, Макота закрыл глаза.
Но старик неожиданно сунул молоток в карман. Узловатыми кривыми пальцами он развязал тесемки на своем фартуке, снял его и вытер изнанкой фартука лицо Макоты.
Кимура подумал, что люди сейчас разорвут старика, но толпа застыла и онемела.
А старик надел снова фартук, завязал тесемки, сунул на прежнее место молоток и заковылял, опираясь на костыли, назад. Толпа безмолвно расступилась перед ним, и он растворился в ней…
Но об этом японец ничего не сказал Гривсу. Японец ограничился лишь упоминанием, что был в тюрьме.
«Кто его знает, может быть, он врет, – подумал Гривс. – И, кроме того, он все-таки бомбил Пирл-Харбор…»
…Гривс шел с девушкой по ночному пляжу мимо пустых шезлонгов.
Девушка сняла туфли, и серебряная цепочка на щиколотке то ныряла в песок, то выныривала из него, поблескивая в лунном свете. Рядом вздыхал и ворочался океан, пересыпанный звездами. Вдали, как хрустальный башмачок, медленно плыл крошечный светящийся пароход.
– Я никогда не плавала на пароходах, – сказала девушка. – Я жила в деревне и плавала только на лодках.
– А я служу на «Аризоне», – сказал Гривс. – И еще я рисую.
– Я рисовала только прутиком на песке, – улыбнулась девушка, и ее зубы так и плеснули белизной.
– А что ты рисовала? – спросил Гривс.
– Я рисовала солнце и молилась ему, когда рыбаки были в море. Но однажды случился большой ураган, и мой отец утонул.
– А как ты попала в Гонолулу? – спросил Гривс.
– Моя мать осталась с пятью дочерьми. Я была самая старшая. Надо было зарабатывать, – тихо ответила девушка.
Гривс ее больше ни о чем не спрашивал. Какое, собственно говоря, имел право спрашивать он, никогда не знавший нужды! Конечно, его отец постоянно сетовал на денежные неприятности, но холодильник был всегда полон.
– Давай купаться! – предложил Гривс.
– Хорошо, – покорно согласилась девушка.
Она сняла через голову платье и, сложив руки на груди, совсем как деревянные идолы в баре, стала медленно входить в воду.
Гривс догнал девушку, когда она лежала на волнах, раскинув руки. Из воды высовывалось только ее лицо на тонком стебельке шеи.
В воде девушка не стеснялась Гривса. Она как будто чувствовала себя неотъемлемой частью бесконечности океана и бесконечности неба, прогибавшегося от крупных подрагивающих звезд.
Гривс лег на спину с ней рядом, отыскал в воде ее тоненькую руку, и так они долго лежали, покачиваясь вместе с океаном и небом и ничего друг другу не говоря.
В отношениях с девушками опыт Гривса был очень ограничен: случайные встречи, поцелуи да иной раз украдкой тисканье на вечеринках и в кинотеатрах. От дальнейшего его удерживало что-то стыдное, пугающе поднимавшееся в нем помимо чувств. Сентиментальное воспитание по материнской линии давало себя знать, и Гривс мучился оттого, что ни разу не испытал ничего похожего на любовь.
Но сейчас его охватил какой-то пробирающий до костей озноб, и голова кружилась, когда он видел рядом это покачивающееся необыкновенное лицо с огромными темными глазами и чувствовал бедром легкое, как сгустившаяся волна, тело.
Они поплыли к берегу, продолжая держать друг друга за руки. Когда ноги нащупали песок, девушка снова сложила руки на груди, собираясь выходить из воды. Но Гривс медленно отвел ее руки. Не то чтобы он приблизился к ней или она приблизилась к нему, – это сделал за них океан, и Гривс почувствовал ладонью ее влажные острые позвонки, а где-то внизу, под водой, нечаянно наступив на маленькую ногу, ощутил холодящую шершавость серебряной цепочки.
– Я люблю тебя! – хрипло сказал Гривс, не узнавая собственного голоса. И он стал целовать ее твердые соленые груди, жилку, вздрагивающую на стебельке шеи, спутанные волосы, пахнущие океаном…
Белая полоска зубов внутри ее чуть вывороченных губ медленно растворилась ему навстречу, и все вокруг исчезло, кроме теплой глубины ее рта и огромных глаз, казалось, разлившихся по всему ее лицу.
Потом они снова шли по пляжу, изредка обдаваемые блуждающим голубым лучом прожектора, и Гривс лихорадочно говорил:
– Ты должна бросить все. Я кончу службу и женюсь на тебе. Мы уплывем на большом пароходе. Хочешь?
Девушка с испугом слушала то, что говорил Гривс, и безропотно кивала.
Он был непохож на других, и ей было с ним хорошо. Она, конечно, не верила тому, что он говорил, но не хотела его огорчать и кивала.
– Через неделю я получу увольнительную. Мы увидимся здесь, на пляже, ровно в восемь вечера, – говорил Гривс.
И она опять кивала.
Гривс обнял ее и, запинаясь, сказал:
– Пожалуйста, возьми у меня денег… – И, залившись краской, пояснил: – Я имею в виду деньги на такси…
Девушка отрицательно покачала головой. Нет, она не могла взять от него денег. С ним она испытала там, в воде, то, чего не испытывала раньше ни с кем. Нет, она не могла…
Девушка поцеловала Гривса сжатыми губами и надела туфли.
– Я тебя провожу… – сказал Гривс. Девушка снова отрицательно покачала головой.
– Ты меня любишь? – спросил Гривс.
– Да, – сказала девушка. Ей хотелось, чтобы он был счастлив.
Она поцеловала его еще раз, повернулась и стала подниматься по каменной лестнице, ведущей с пляжа в город.
«Если она обернется, она любит меня…» – по-детски загадал Гривс. Ему было всего восемнадцать лет.
Девушка обернулась и через мгновение, опустив голову, исчезла в огнях города.
Гривс сжал ладонями виски и, как ему показалось, прошептал:
– Мама, я люблю ее…
Но, очевидно, он это не прошептал, потому что с песка поднялась чья-то взлохмаченная голова и пробурчала:
– Люби себе на здоровье, но нет ли у тебя чего-нибудь смочить глотку?
Послышался кашель, смачное отхаркивание, и перед Гривсом выросла колоритная фигура: обросшее седой щетиной распухшее лицо, медальон со святым Христофором на косматой груди, лезущий сквозь растерзанную рубаху, спадающие выцветшие штаны, являвшие собой причудливое сочетание всевозможных пятен, и веревочные сандалии на босу ногу. Глаза смотрели из-под кустистых седых бровей с пьяным дружелюбием.
– К сожалению, у меня нет ничего с собой, сэр… – сказал Гривс. – Но я могу вас пригласить, если вы, конечно, свободны.
Гривс был настолько счастлив, что ему хотелось обнять и расцеловать все человечество, частью которого являлся этот живописный незнакомец.
Незнакомец подтянул спадавшие штаны и хлопнул Гривса по плечу медной от загара ручищей, на которой было выколото: «Джим любит Нэнси».
– А ты мне нравишься, парень. Обычно матерей вспоминают, когда подыхают. А ты вспомнил мать, когда втюрился… Ладно, принимаю приглашение. Только я сегодня не в смокинге.
Гривс со своим новым знакомым отправился на поиски какого-нибудь теплого местечка, но бары уже закрывались, и из дверей выходили усталые музыканты с инструментами в футлярах. Гривс посмотрел на часы и с ужасом понял, что сейчас четыре утра, а увольнительная истекла в два. Но теперь ему было все равно.
– Я знаю один полинезийский бар, – сказал Гривс. – Может быть, там еще открыто.
– Полинезийский так полинезийский… – сказал Джим. – Я интернационалист.
Полинезийский бар был действительно еще открыт, и из его дверей доносились звуки банджо.
Швейцар, разинув рот, воззрился на колоритную фигуру Джима и сделал вежливо преграждающее движение рукой. Но всунутые Гривсом в его руку пять долларов умерили ее административную бдительность.
Они вошли в бар, и вдруг Гривс замер, схватив за рукав воспрянувшего при виде галереи бутылок Джима.
У стойки на металлическом полукружье он увидел маленькую ногу с родинкой, перехваченной серебряной цепочкой.
Рядом с девушкой сидел толстенький, с масляно-лоснящимся лицом человек в белом чесучовом костюме и подливал ей виски. Его пухлая коротенькая рука с туристским эбеновым перстнем – крошечной копией деревянных идолов – хозяйски гладила девушку по спине.
Гривс сжался, как будто его наотмашь ударили по щеке, и попятился к выходу.
Джим нагнал его, когда Гривс, пошатываясь, брел по улице, тупо глядя на окурки под ногами, апельсиновые очистки, цветные обертки от мороженого, смятые бумажные стаканчики и обрывки газет.
Гривс покачивал головой и что-то мычал. Ведь она сказала, что любит его, ведь они договорились встретиться, ведь она обернулась прежде, чем уйти… Неужели никому нельзя верить?
– Выпивка – лучшее лекарство, – сказал Джим, не допытываясь, что случилось с Гривсом, но будучи уверенным, что выпить сейчас еще более необходимо.
Они все-таки разыскали какую-то китайскую харчевню в порту и напились.
Гривс плакал, и могучая ручища с наколкой «Джим любит Нэнси» успокаивала его, грубовато поглаживая по плечу.
– Нет, ты скажи: можно кому-нибудь верить? – схватил Джима за рубаху Гривс.
– Нет, – мрачно сказал Джим. – Никому нельзя верить. Только бутылке.
Гривс вцепился в руку официанта-китайца со сморщенным, как печеное яблоко, лицом.
– Можно кому-нибудь верить?
– Лучше не стоит, сэр… – ласково высвободил руку китаец, сметая со стола осколки разбитой Гривсом рюмки.
– Можно кому-нибудь верить? – бросился Гривс к соседнему столику, где сидела беззубая старуха-гаваянка и сосала большую шкиперскую трубку, прихлебывая портер.
– Верить? – насмешливо раздалось шамканье из черного провала рта. – Верить? – И лохмотья старухи затряслись от хихиканья.
Когда Джим вывел еле державшегося на ногах Гривса из харчевни, уже рассвело, и океанская голубизна больно хлестнула Гривса по глазам.
– Вот солнцу, пожалуй, можно верить, – сказал Джим, подтягивая штаны. – Что бы ни случилось, оно всегда встает вовремя…
Джим оказался добрым малым. Он дотащил Гривса до контрольно-пропускного пункта в Пирл-Харборе.
– Эй, сержант, принимай сослуживца! – крикнул Джим часовому, углубленно изучавшему прыщ на носу при помощи кругленького дамского зеркальца.
Испуганно вздрогнув, сержант молниеносно спрятал зеркальце в нагрудный карман, нахлобучил поглубже белую каску, словно стараясь в ее тени спрятать злосчастный прыщ, и принял недоступный вид.
Несмотря на общую затуманенность сознания, Гривс узнал в нем парня, которого он однажды рисовал по его личной просьбе для подарка толстощекой Эвелин – кассирше из городского кинотеатра. Правда, тогда на носу у него не было прыща.
– Документы! – сурово сказал сержант, видимо, уязвленный, что его застали с зеркальцем.
– Это я, Гривс. Ты что, не узнаешь меня?
– Документы! – повторит сержант тем же тоном. Гривс протянул увольнительную, поняв, что сержанту бесполезно напоминать об их знакомстве.
Сержант просмотрел увольнительную и взглянул на часы.
– Увольнительная истекла в два ноль-ноль, – безжалостно сказал сержант. – А сейчас семь часов сорок две минуты. Я должен доложить начальству, прежде чем пропустить тебя.
– Слушай, старина… – просительно сказал Гривс. – Ты знаешь, что мне здорово влетит. А так бы я тихонько пробрался на «Аризону» как раз к воскресному богослужению. Ребята не выдадут.
– С кем не бывает, сержант, – примирительно сказал Джим. – Ну, выпил малость… Ну, девочка… Я тоже, когда служил в армии, бывало…
Сержант, становясь все более величественным, несгибаемо уперся подбородком в ремешок каски и надменно обозрел Джима. Под пронзительным взглядом сержанта Джим машинально начал застегивать давно не существующие пуговицы на рубашке.
– А вы, собственно говоря, почему пытаетесь проникнуть на военную базу? – делая шаг вперед, спросил сержант Джима. – Ваши документы!
– Никуда я не пытаюсь проникнуть, сержант. Я просто проводил друга. А документы, какие у меня документы! Единственная печать – вот это… – И Джим хлопнул себя по выглядывающему из-под рубахи голому пупку.
– Если он ваш друг, то как его имя? – спросил сержант у Гривса.
– Джим, – понуро ответил Гривс. Его мутило. Джим торопливо сунул наколку под прыщ на носу сержанта:
– Джим любит Нэнси… Все точно, сержант.
– Я спрашиваю полное имя! – продолжал допрос сержант.
– Пошел ты к черту, сержант! Я не знаю… – тоскливо сказал Гривс.
– В таком случае вы задержаны как подозрительная личность, – объявил сержант Джиму и, обращаясь к Гривсу, добавил: – А вам не мешало бы поосмотрительней выбирать друзей, тем более если вы служите на флоте.
– Сволочь ты, сержант!.. – сказал Гривс.
– Опоздание, появление с подозрительной личностью плюс оскорбление часового на посту! – с желчным удовольствием констатировал сержант. Он подошел к телефону, висящему у ворот, и снял трубку.
И вдруг со стороны океана послышалось все нарастающее и нарастающее гудение. Все трое подняли головы, глядя на небо. На небе ничего еще не было видно, но гудение приближалось. Где-то оглушительно взвыли сирены.
– Пахнет жареным, сержант, – засопел Джим.
– Без паники! – одернул его сержант, держа в руке забытую телефонную трубку и не отрываясь глазами от неба. – Это, наверно, маневры.
И вдруг в небе показались самолеты – десятки, сотни самолетов. Выныривая один за другим из облаков, как будто притягиваемые гигантским магнитом, самолеты целеустремленно и неостановимо шли на Пирл-Харбор.
Сержант вспомнил, что телефонная трубка у него в руке.
– Что это? – закричал сержант в трубку.
– Откуда я знаю?! – заорал кто-то из трубки. Воздух содрогнулся от взрывов.
Еще сильнее завыли сирены. С внутренней стороны к воротам подлетел «виллис» с сидящим за рулем голым до пояса человеком в офицерской фуражке. На его трясущихся щеках белели клочья крема для бритья.
– Шлагбаум! – заревел человек сержанту. Сержант бросился поднимать шлагбаум.
– Что случилось? – отчаянно крикнул сержант.
– Скажи это мне! – раздалось ему в ответ, и «виллис», зарычав, прыгнул из ворот.
С внешней стороны подъехал грузовик с кузовом, заваленным прямоугольными картонными коробками.
– Что за чертовщина, сержант? – высунулся из кабины шофер с обалдевшими глазами.
Но сержант помнил одно: что бы ни происходило, он на посту.
– Пропуск! – сказал сержант, пытаясь придать голосу железную твердость, и потыкал винтовкой коробки. – Что везешь?
– Библии… – ответил шофер, протягивая пропуск и вздрагивая от взрывов.
– Пропусти меня, сержант! – взмолился Гривс.
– Будь человеком, сержант! – вступился Джим. – Видишь, что делается…
Сержант пытался вчитаться в пропуск, протянутый шофером. Но неподчинявшиеся глаза блуждали по небу, которое буквально кишело самолетами. Со всех сторон раздавались взрывы бомб, орудийные выстрелы и трескотня пулеметов.
Однако просьба Гривса привела сержанта в себя.
– Я должен сначала доложить начальству… – тупо пробормотал сержант, сжимая винтовку, кажущуюся игрушечной под черной лавиной пикирующих бомбардировщиков.
Разъяренный шофер вырвал у сержанта пропуск и нажал на газ. Тогда Гривс в два прыжка догнал грузовик и повис, зацепившись за борт кузова.
– Стой! Стрелять буду! – завизжал потерявший рассудок сержант, вскидывая винтовку. Грохот бомб, видимо, расширил границы инструкций в понимании сержанта.
– Ты что, с ума сошел! – И мощные ручищи Джима перехватили винтовку.
В этот момент раздался оглушительный взрыв.
Гривс очнулся, выплевывая землю изо рта, заваленный картонными коробками. Рядом лежал на боку опрокинутый грузовик. Его колеса еще медленно вращались в воздухе. Из распоротой коробки, придавившей Гривса, одна за другой медленно падали карманные солдатские библии.
Гривс выкарабкался из-под библий, машинально взяв одну из них. Прижимая библию к груди, Гривс огляделся.
Все вокруг было затянуто дымом. В дыму мелькали кажущиеся нереальными человеческие фигуры с пожарными шлангами, с носилками.
Около сорванных ворот, скрученных взрывом, как бумага от шоколада, неподвижно лежали сержант и Джим. Смерть соединила их. «Джим любит Нэнси» виднелось на могучей руке, обнимающей сержанта. Из нагрудного кармана сержанта вывалилось зеркальце. Зеркальца теперь можно было не стесняться.
Гривс побрел к берегу.
Гривс не мог понять, продолжается ли бомбежка, ибо, оглушенный взрывом, он ничего не слышал. Но бомбежка продолжалась, только беззвучно. Беззвучно пикировали самолеты. Беззвучно взметались к небу столбы огня и земли. Беззвучно кричали раненые.
Гривс подошел к бухте.
Среди плавающих на воде обугленных остовов самолетов и горящих кораблей Гривс увидел «Аризону».
«Аризона» пылала. В воде виднелись головы тех, кому удалось спастись.
Из воды вышел, а вернее, выполз военный священник. Лицо священника было черно от копоти. Глаза непонимающе озирались. Священник неверными шагами подошел к застывшему Гривсу и вынул из его прижатых к груди рук библию. Священник раскрыл библию и стал что-то читать, покачивая головой. Но его слова были беззвучны…
…Наполеон в обтягивающих жирные ляжки лосинах величественно обозревал выстроившиеся войска в подзорную трубу. Серый в яблоках конь императора нетерпеливо перебирал ногами. Наполеон, довольный своими орлами, отнял подзорную трубу от глаз и сделал властное движение рукой. К ослепительно голубому небу вознеслись медные трубы, начищенные до золотого блеска. Торжественно застучали палочки по белоснежным барабанам. Сверкая надраенными пуговицами, браво вскидывая ноги и геометрически соблюдая строй, императорские пехотинцы двинулись на неприятельские редуты. В руках прославленных усачей-кавалергардов, как синие молнии, заполыхали клинки, поднятые над высокими щегольскими киверами. На мужественных скулах, побронзовевших в Египте, играли отблески солнца Аустерлица…
…– Какая была изящная война! – грустно улыбнулся японец. – В Хиросиме было не так красиво.
– В Пирл-Харборе тоже, – буркнул Гривс. – Но и та война, наверно, не была такой. Боюсь, что наша война покажется потомкам тоже изящной, когда они будут ее сравнивать со своей.
– А вы уверены, что будет война? – спросил японец.
– Я не пророк, – ответил Гривс. – Но никто никому не верит – в этом вся штука. Русские не верят нам, мы не верим русским, а другие – ни нам, ни русским и так далее. И все стараются сильнее. А потом получается война…
– Кстати, в этом самолете летит русский, – сказал японец. – Я не помню его фамилии, но это какой-то поэт. Видите, контакты все-таки развиваются…
– А, контакты!.. Что они решают? Когда кто-нибудь нажмет кнопку на пульте, вот тогда и будет решающий контакт, – отмахнулся Гривс, но, тем не менее, с интересом посмотрел в ту сторону, где сидел русский.
Гривс узнал его лицо по фотографиям, хотя не помнил его трудновыговариваемую фамилию. До этого Гривс видел русских только в военной форме. Те были совсем другие…
…Гривс плыл по Эльбе.
Ему приходилось работать только одной рукой, так как в другой он крепко держал бутылку настоящего бурбонского виски, доставшуюся ему от убитого рыжего О'Келли.
Вода была холодная, но Гривсу было все равно, как было все равно сотням американцев и русских, плывших друг к другу. Война сдохла, черт бы ее подрал! И наконец-то можно было обняться и выпить на костях этой стервы.
На том и на другом берегу восторженно стреляли в воздух и швыряли пилотки в чистое от самолетов небо.
Навстречу Гривсу плыл старый кузов от грузовика. В нем сидело несколько русских, подгребая прикладами. Русские втащили Гривса в кузов, исколов его небритыми щеками.
– Америка, ребята, как пить дать Америка! – восхищенно щупал Гривса курносый солдатик с гармошкой. – Ну чего ж тебе сыграть, Америка?
– Замерз, однако, паря… – накинул на Гривса свою шинель пожилой старшина, похожий на техасского фермера, и протянул Гривсу фляжку. – Согрей нутро, браток…
Гривс отхлебнул и поперхнулся: это был чистый спирт. Русские захохотали, колотя его по спине кулаками. Гривс с трудом перевел дыхание и тоже засмеялся, протянув старшине виски.
Старшина взял бутылку, с интересом провел рукой по ней, изучая:
– Ишь, ты… И пробочка отвинчивается… Техника!..
Бутылка виски пошла по рукам.
– Самогонкой отдает… – утирая усы, сказал сержант. – Супротив нашего спирта, однако, слаба.
– Нет, а ты мне скажи, ты капиталист, Америка? Капиталист? – тыкал Гривса в грудь курносый солдатик.
«Америка» и «капиталист» – это были единственные слова, которые понял Гривс. От радости, что он хоть что-то понял, Гривс счастливо закивал головой.
– Да, да. Америка. Капиталист…
– Капиталист… – с тревожным изумлением отшатнулся от Гривса курносый солдатик.
– Нет, нет… Не капиталист! – отчаянно замотал головой Гривс, увидев, что его неправильно поняли. – Я художник.
Гривс полез с карман за блокнотом, но увидел, что блокнот промок. Тогда Гривс потянулся к планшету молоденького лейтенанта в новенькой форме:
– Бумагу. Дайте мне бумагу.
– Что он лезет к моему планшету? – недоверчиво отодвинулся лейтенант.
– Я понимаю, бумага ему требуется, товарищ лейтенант. Написать, видно, фамилию хочет… – объяснил старшина.
Получив лист бумаги и карандаш, Гривс в одно мгновение сделал набросок со старшины и протянул ему.
– Вроде я… – удивился старшина. – Ишь, ты, американец, а рисует…
– Ага, значит, никакой он не капиталист, а безработный, – смекнул курносый солдатик.
– Это почему ж безработный? – спросил старшина.
– А как же, у них в Америке одни безработные и капиталисты… – объяснил курносый солдатик.
– Будя врать-то… – умерил его пыл старшина. – Кто ж у них машины-то делает и хлеб сеет? А знатные у него ботиночки, однако! Товар добрый. – И старшина уважительно постучал по желтым высоким ботинкам Гривса.
Гривс посмотрел на ноги старшины и увидел разбитые кирзовые сапоги. Подошва одного из сапог явно просила каши и была прикручена медной проволокой.
Гривс быстро поставил свою ногу рядом с ногой старшины – размеры совпадали – и стал торопливо расшнуровывать ботинки.
– Товарищ старшина, он подумал, что вы просите его обменяться с ним, – строго сказал молоденький лейтенант. – Не роняйте достоинства Красной Армии.
– Да он от души, товарищ лейтенант, – успокаивающе сказал старшина, однако остановил руку Гривса, уже снимавшую ботинок. – Не положено, браток, по форме не положено. Души у нас, может, и сходные, только у вас ботинки, а у нас, значит, сапоги.
Курносый солдатик развернул гармошку и запел, по-бабьи подвизгивая и шало подмигивая Гривсу:
Америка России
Подарила пароход.
Две трубы, колеса сзади
И ужасно тихий ход.
И желтые ботинки Гривса, и кирзовые сапоги старшины, обмотанные проволокой, притопывали в такт…
…Нет, русский, который сидел в первом классе воздушного лайнера Сан-Франциско – Гонолулу, не был похож на тех солдат. Ботинки у него были замшевые. Одет он был вполне по-европейски, даже, точнее сказать, по-американски, если учитывать не слишком выдержанное сочетание галстука и пиджака.
Русский был худощав, длиннонос, как Пиноккио из итальянской сказки, в его нервно-самоуверенных глазах было что-то еще совсем мальчишеское. Он чувствовал себя на американском самолете, как рыба в воде. Он курил «Кент» и весьма вольно шутил со стюардессой на чудовищном английском языке.
– Он еще мальчишка, – сказал Гривс японцу. – Что он знает о войне!
– Они потеряли двадцать миллионов, – сказал японец. – Даже дети в их стране знают о войне больше, чем многие взрослые в Америке.
Гривсу не особенно понравилось то, что японец задел Америку, но в то же время он подумал, что японец был в чем-то прав. Пирл-Харбор видели своими глазами немногие американцы. В сущности, война не побывала у американцев дома. Может быть, поэтому кое-кто в Америке не понимает, как опасно играть с войной.
– Вы правы, – нехотя признал Гривс. – Мир спасли русские. Но мы все-таки тоже кое-что сделали.
Гривсу вдруг страшно захотелось поговорить с русским. Конечно, он был мальчишка, но все-таки русский.
Гривс взял бокал с шампанским и подошел к русскому.
Русский дружелюбно вскинул на него быстрые голубые глаза.
«Наверно, думает, что я сейчас буду рассыпаться в комплиментах и просить автограф, – подумал Гривс. – А я даже фамилии его не помню. Ну да, в общем, это неважно…»
– За Эльбу! – сказал Гривс, протягивая бокал.
– Давайте! – сказал русский. – Мы помним Эльбу.
Это «мы помним Эльбу» показалось Гривсу несколько высокопарным. Что он может помнить, этот мальчишка, не нюхавший пороху? На Эльбе были другие люди, годящиеся ему в отцы. Но молодость все же сама по себе – не вина. Гривс чокнулся с русским и спросил, злясь на себя за тупость своего вопроса:
– А что вы думаете о нас, об американцах?
Русский улыбнулся. Наверно, он много раз слышал этот вопрос.
– В детстве я ненавидел американцев.
«Ага… – про себя отметил Гривс. – Их приучали к этому, как с некоторых пор нас приучали ненавидеть русских. Все стараются сильнее».
– Я жил во время войны в Сибири, – сказал русский. – Из Америки присылали тушенку и бекон, а с нашего фронта – похоронки. Все ждали второго фронта, а он не открывался. Получалось так: американские консервы и русская кровь…
Гривс мог напомнить ему про Пирл-Харбор. Гривс мог возразить ему, что американцы воевали на других фронтах. Гривс мог рассказать, как погиб рыжий О'Келли, делая одного из своих самых великолепных бумажных змеев. Гривс мог добавить, как гибли американские транспорты, шедшие к Мурманску. Но всего этого Гривс не сказал, а вспомнил, как во время войны пошло в гору консервное дело его отца. И Гривс почувствовал себя виноватым. Нет, не перед этим мальчишкой, а перед тем старшиной в кирзовых сапогах, обмотанных проволокой.
– Да, второй фронт мы могли открыть раньше, – сказал Гривс. – У нас многие так думали.
– А сейчас я понимаю, что нет вообще американцев и вообще русских или, скажем, вообще японцев; ваш сосед, кажется, японец? – продолжал русский. – Если я знаю, что кто-то сволочь, какая мне разница, какой он национальности? Мы только думаем, что живем в разных странах. На самом деле границы проходят не между странами, а между людьми…
«Проклятый английский! – подумал русский. – Но, может быть, дело не в английском, а я просто слишком наболтался на пресс-конференциях? С какой стати я читаю ему лекции? Он, наверно, воевал и все сам прекрасно понимает лучше меня…»
Но глаза русского сохраняли самоуверенность.
И вдруг Гривс заметил на лацкане у русского жетон с надписью: «Мы стараемся сильнее», точно такой, как у девушки с позолоченными шариками.
– Откуда у вас этот жетон? – спросил Гривс. Русский засмеялся.
– Кто-то мне нацепил, я уж не помню. Мне показалось это забавным.
– Если вдуматься, то это не так уж забавно, – сказал Гривс. – Не надо стараться сильнее. От этого все беды. Маленький человек становится Наполеоном. А потом бывает Бородино. Может быть, я сбивчиво говорю, и вы меня не понимаете, но мне пришло это в голову с утра, когда я увидел такой жетон у одной девчонки.
«Что я его поучаю, как пастор! – подумал Гривс. – Никто на этом свете ни в чем не уверен, и в то же время все хотят казаться как можно увереннее и поучают друг друга. И, в конце концов, все стараются сильнее».
– Я вас понял, – сказал русский и отцепил жетон с лацкана.
– Прошу пассажиров занять свои места. Самолет идет на посадку, – сказала стюардесса.
Гривс сел рядом с японцем, чувствуя, что чего-то главного не сказал русскому и что русский чего-то главного не сказал ему. Но было уже поздно.
Самолет снижался, и на Гривса наплывал снизу рассыпавший белые здания по зеленым склонам его юности Гонолулу.
Гривс сошел по трапу и сразу взмок: так было жарко.
Русского окружили студенты-гавайцы, державшие в руках книжки с его трудновыговариваемой фамилией. Смуглые девушки с раскосыми глазами надевали русскому на его худую, длинную шею традиционные гавайские венки, и корреспонденты, припадая на колени, стреляли вспышками.








