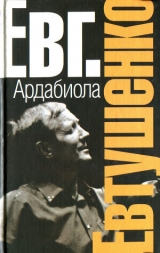
Текст книги "Ардабиола"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
ПРОЛОГ
Моя биография поневоле состоит из мелочей жизни и работ…
К. Циолковский
Варвара Евграфовна Циолковская шла по калужскому рынку в мясном ряду – вдоль ярмарки кровавого. С крюков свисали лилово проштемпелеванные туши, роняя на прилавки тяжелые темные капли. На прилавках возлежали фарфоровые молочные поросята, пупырчатые, чистенько ощипанные янтарные утки, влажная галька почек, коричневые лакированные пласты печенки, бледно-розовые мозги с узором тончайших жилок. У мясного ряда была своя музыка, состоявшая из хряска топоров и зазывающих криков. Не часто Варваре Евграфовне приходилось слушать эту музыку, и она ее дичилась, боялась подходить к краю прилавка, чтобы не набросились, не вцепились, не всучили. Мясо в доме Циолковских ели только раз в неделю – по воскресеньям, а в остальные дни обходились огородом и засолами.
Расфуфыренная калужская мещанка, несшая за желтые лапы безвольно мотающего шеей уже опаленного гуся, толкнула локтем в бок такую же расфуфыренную товарку с таким же гусем:
– Гляди-кось… Циолкошиха приперлась… Эко чудо!
Товарка захихикала:
– Да они, говорят, только крапивными да щавельными щами обходятся. Сказывают, даже одуванчики едят. А по крапиву Циолкошиха в перчатках ходит. Перчатки до локтя… Бальные. Крапивная дворянка…
Первая мещанка подозрительно задумалась:
– А все же ее муженек в епархиальном загребает немало… Куда они только деньги девают?
Товарка захихикала еще пуще:
– На звезды тратит… Его никто не издает, так он сам свои книжки печатает…
И они обе прыснули, сотрясая телесами, так что опаленные гуси заплясали в их руках.
Варвара Евграфовна робковато подошла к мяснику:
– Мне бы говядины кусочек…
Мясник вальяжно оправил бороду, расчесанную на две стороны:
– А вам какая говядина, барыня? Суповая али для чего другого? Есть и филейная – для английского бифштексу оченно хороша.
Варвара Евграфовна торопливо его остановила:
– Суповая…
Мясник, несколько понизив услужливость тона, но все-таки почтительно, доложил:
– Осмелюсь предложить вот этот кусочек… Мозговая косточка. Сахарная.
Ловко взвесил на безмене.
– Всего три фунта с походом.
Варвара Евграфовна замялась:
– А нельзя ли вот этот кусочек – поменьше… Мне бы фунта на полтора…
Мясник мирно поменял куски на крюке безмена:
– Отчего же нельзя? Так бы и сказали, барыня… Но тут поболе, чем на полтора. Почти на два тянет.
Варвара Евграфовна, чувствуя на себе взгляды подошедших двух мещанок и мучительно краснея, упорствовала:
– А вы отрубите…
Мясник со вздохом бросил кусок мяса на чурбак, потом задержал топор:
– Ну ладно, чего уж там… Сочтемся, барыня…
Обладательницы двух паленых гусей, насмешливо созерцавшие эту сцену, мгновенно переменились, когда Циолковская повернулась к ним лицом.
– Здрасьте, Варвара Евграфовна! Давненько не виделись!
– Здравствуйте… – неохотно сказала Варвара Евграфовна, пытаясь пройти между двумя гусями.
– Что-то вы, матушка, с лица спали… – участливо наплыла на нее первая мещанка.
Вторая соболезнующе затараторила:
– Довел тебя твой благоверный, матушка, довел… Одна кожа да кости. Ухватиться не за что. А наш бабий скус – он в мясе состоит… – и самодовольно похлопала себя по отменным бокам.
Первая доверительно склонилась к Варваре Евграфовне:
– Гляжу на тебя, Варвара, и диву даюсь – как ты свово мужа терпишь? Это же страшный человек…
Варвара Евграфовна вдруг улыбнулась:
– Страшный… А я и сама страшная… – И что-то такое жутковатое проступило в ее обтянутых желтоватой кожей чуть азиатских скулах и в маленьких темных зрачках, что мещанки невольно расступились.
– Ну и мымра… – оправившись от испуга, сказала первая мещанка. – А и вправду страшная… Глазами ипнотизирует, страхолюдина… Сказывают, нехорошими делами они у себя займаются… Оловянные ложки ейный муж скупает и из них золото плавит… Чудо-юдина блаженный…
– Не такой уж он блаженный, ежели из олова золото вытворяет, – покачала головой вторая мещанка. – А ты как свово гуся – с яблоками или с капустой употребишь?
– Не угадала… – довольно усмехнулась первая мещанка. – Я его, подлеца, с рисом и с черносливом заделаю – на полном ушиве…
А Константин Эдуардович, где бы выдумали, он в это время был? А был он на винном заводе, уважительно сопровождаемый под руку его хозяином – купцом Семирадовым. Семирадов был совсем не похож на купца девятнадцатого века, каких изрядно описывал в своих пьесах Островский. Был он сыном одного из таких купцов, скончавшегося лет пять назад, не приведи Господь какою смертью – куском бараньей ноги в масленицу подавился. В отличие от папаши, оставившего ему пребольшое наследство, молодой Семирадов не носил ни смазных сапог, ни чуйки, ни бороды, волосы в скобку не стриг и репейным маслом не сдабривал, а, напротив, был в парижской клетчатой тройке, в лакированных штиблетах, на кои были напущены гамаши, в шелковом галстуке, заколотом крупным рубином, рыжие волосы, подкурчавленные в Москве на Кузнецком у Жоржа, выбивались из-под мягкой лондонской шляпы с умело сделанной вмятиной. Семирадов говорил (правда, с нижегородским акцентом) по-французски и по-английски, имел осетровое дело в Астрахани, мукомольное хозяйство в Твери, несколько бань и трактиров в Саратове, подбирался к автомобильному производству на паях с бельгийцами, собирал картины импрессионистов и баловался столоверчением. Винный завод был для него чем-то вроде семейной реликвии – именно с него начинал его почивший в бозе папаша, традиционно уженивший в бытность приказчиком обувного магазина дочь хозяина и открывший с помощью приданого это хмельное веселое дело. Семирадов-младший, чьи обе дочки учились в епархиальном училище у Циолковского, в отличие от других калужских купцов, над Константином Эдуардовичем не посмеивался, хаживал к нему в мастерскую, ощупывал его дирижабли, а потихоньку и его намерения.
Дирижабли Семирадова весьма интересовали. Сейчас осетры в Париж приходилось возить из Астрахани слишком морочным путем – частью по воде, частью по железной дороге, беспрестанно меняя лед. А вот дирижабль, набитый осетрами, бьющими в огромных ваннах могучими хвостами по родной волжской водичке, экспортируемой вместе с ними по воздуху прямо на Елисейские поля, – это Семирадова впечатляло. Русское дворянство, наблюдаемое Семирадовым с чувством презрения и превосходства, уже давненько сильно попахивало, как залежавшая осетровая туша, и сколько оно ни меняло вокруг себя лед – это не помогало. По мнению Семирадова, будущее зависело от союза денег с наукой, и поэтому он интересовался всевозможными изобретениями гораздо больше, чем знакомствами с графами и князьями, что еще не так давно льстило бы купеческому самолюбию. Поэтому Семирадов так и обхаживал Циолковского.
– Здесь у меня, Эдуардыч, цех, можно сказать, отравный – портвейновый. Сам не пью и вам не советую. Скорейший путь к получению гастрита или язвы. В портвейн идет буквально все, включая чуть ли не толченые подметки от старых штиблет…
– Зачем же вы это выпускаете? – поморщился Циолковский.
Семирадов усмехнулся, развел руками:
– Народу нравится… На кончике нашего языка, Эдуардыч, есть специальные вкусовые бугорки. А вкусовое воспитание у нас какое? Сами знаете. Эти бугорки обожжены водкой и вкус тонкого сухого вина не усваивают. Оно простому народу кажется кислым. Разве кислое вино будешь пить при кислой жизни? Такую жизнь предпочитают или водкой заливать, или портвейном прислаживать. Портвешок – это вроде иллюстраций в журнале «Нива» или лубочных картинок на рынке… И дешево, и сладко.
Циолковский изумленно остановился. На стене над огромным дубовым чаном, в котором рабочие шестами, обмотанными тряпьем, ворочали какое-то подозрительное дымящееся варево, висела большая икона.
– Это мое нововведение, – улыбнулся Семирадов. – Чтобы было на что перекреститься. Бог у меня вроде старшего мастера – сам не пьет, а за всеми пьяницами наблюдает. И вы знаете – помогло. Пить на работе стали меньше.
– А вы… в Бога верите? – блеснули глаза Циолковского из-под очков.
Семирадов расхохотался и, понизив голос, чтобы не слышали рабочие, лукаво сказал:
– Бог, как видите, на меня работает. А тем, кто на меня работает, я полностью никогда не доверяю.
– Не хотел бы я на вас работать, – покачал головой Циолковский.
– А вы уже давно на меня работаете, только не подозреваете, – засмеялся Семирадов. – Каким образом можно реализовать все ваши изобретения без таких, как я? Прогресс – это гений плюс заказчик. А без заказчика все даже самые гениальные идеи так и погибнут, как неизвестные солдаты в траншеях мозговых извилин…
– Образно выражаетесь, – оценил Циолковский. – Но ведь не всегда же так будет, что идеи – у одних, а материальные возможности для их воплощения – у других…
– Так будет всегда… – несомневающимся тоном сказал Семирадов и распахнул перед Циолковским двери следующего цеха: – А это – моя гордость, Константин Эдуардыч. Наливочно-настоечный цех. Тут без какой-либо отравы. Все натуральное… Настойки калгановая, зверобой, рябиновая – не хуже, чем шустовская! На березовой почке, на смородинном листе, на перце, на лепестках розы… Китайцы, правда, даже на змеях настаивают, ну, мы до этого, я надеюсь, не дойдем… А вот наливки – клубничная, малиновая, крыжовенная, черносмородиновая, клюквенная, брусничная, вишневая, яблочная, кизиловая… Вот наливка из плода фейхоа… Привозной – из Сухума. Хотите попробовать? Пальчики оближете…
– Вы же знаете, что я не пью, – вежливо отказался Циолковский.
– Простите, запамятовал. Что было бы со мной, Эдуардыч, если бы все такими непьющими были? Сплошной разор. – И Семирадов с удовольствием опрокинул одну за другой обе хрустальные рюмки с играющей изумрудным оттенком наливкой из сухумского фрукта, услужливо поднесенной на серебряном подносе ему и гостю.
– А вы знаете, когда-нибудь все люди перестанут пить, – заметил Циолковский.
Семирадов ласково погрозил ему пальцем, как ребенку:
– Ну, нет… Не пугайте. России это, во всяком случае, не грозит… Русский человек без двух вещей обойтись не сможет – без водки и без царя. А если царя свергнет, сам потом по нему затоскует.
– Насколько я мог заметить, многие на Руси живут без царя в голове и прекрасно обходятся, – улыбнулся Циолковский. – Да и сам наш царь, по-моему, без царя в голове. Умишко у него слабенький. Войну с японцами прошляпил, а теперь, судя по всему, с немцами воевать собирается. Ведь война – это самое бессмысленное на свете дело, а выражаясь вашим языком, – неприбыльное…
– А вот и ошибаетесь, Эдуардыч… – живо возразил Семирадов. – Если бы война была делом только бесприбыльным, поверьте, никто бы и воевать не стал. Подумать, сколько людей на свете делает порох, патроны, снаряды, ружья, орудия. Если войну отменить, куда всех этих людей девать? Сколько россиян сразу безработными окажется! А хозяева этих заводов – они что, дураки, чтобы производство останавливать? Усовершенствовать, расширять – это всегда пожалуйста. Уточкин в воздухе сейчас аэропланный цирк устраивает, а за ним уже деловые глаза следят – как бы к этим аэропланам бомбочки приспособить. Так и с вашими ракетами будет. Изо всего должна быть извлечена прибыль. Два самых прибыльных дела – это водка и война. Честно признаюсь, я уже в военном ведомстве кое-какие перспективные удочки насчет поставок амуниции по случаю войны закинул. И, несмотря на высокие патриотические чувства этих ответственных господ, такой заказец без взяток не получишь. Зрите в корень, Эдуардыч, подо всеми помахиваниями военными знаменами что скрыто? Выгода…
– Но есть, в конце концов, и моральная выгода. Разве она существует в войне? – пробормотал Циолковский, подавленный его логикой.
– А как же! – неуязвимо воскликнул Семирадов. – Когда нет войны, то во всех неурядицах обвиняют евреев. Помашет раззудившаяся рука кистеньком на погроме – и вроде на душе полегчает. Но постепенно в башку влезает: от погромов жизнь лучше не становится. Тогда на кого раззудившаяся рука с кистеньком может обернуться? На царя. А царь, не будь дурак, чтобы от себя недовольство отвести, нового врага, который во всем виноват, подсовывает – японца или немца… А в Японии или в Германии власть тоже врагов изобретает, чтобы удержаться, – только они называют их русскими… Вот вам, Эдуардыч, и прямое слияние моральной выгоды с материальной… Механика простая.
– Подлая механика, – нахмурился Циолковский.
– А человек разве не подл? – усмехнулся Семирадов. – Такие, как вы, Эдуардыч, исключения. Если бы все были такими, тогда и власть была бы не нужна, а вместе с ней и армия, и полиция. А то ведь все полицию ругают, а все в ней нуждаются. Все-таки от грабежей защищает.
– Само существование полиции – это грабеж, – сказал Циолковский, стараясь отцепить бронзового льва на крылатке, зацепившегося за край одного из ящиков с вином, горой нагроможденных до потолка. – Хотя бы потому, что на полицию уходит столько денег, которых не хватает на больницы, школы, библиотеки.
– Согласен, – подхватил Семирадов, ловко высвобождая бронзового льва. – Полиция – грабеж, армия – грабеж, бюрократия – грабеж, капитализм – грабеж… Уж это-то я прекрасно знаю, поскольку сам грабитель. Но кем вся эта система управления выдумана? Самими людьми, собственной неуправляемости боящимися. Вы простите меня, Эдуардыч, но зачем вы себя христосиком изображаете? Не курите, не пьете… Лучше всех быть хотите? Русская пословица гласит: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Если люди пить не будут, они свою единственную искренность потеряют…
– А я что – разве неискренний? – взглянул на него исподлобья Циолковский.
Семирадов подумал, вздохнул:
– Знаете, Эдуардыч, сначала мне казалось, что вы, извиняюсь, врете. Уж больно необыкновенно, чтобы люди так на самом деле думали. А потом поближе познакомился с вами, в мастерской у вас побывал, понял – не врете. Вы искренний. Может быть, даже слишком. Но так ведь не все могут. Кишка тонка… Вы вот меня про Бога спросили. Я вам ответил – полувшутку-полувсерьез. Цинизма своего не стесняюсь, ибо на нем стою. А какой ваш Бог? Вера ваша какая?
– Мой Бог – это человек, хотя он еще очень несовершенен. Но совершенствовать человека надо не с кого-то, а с самого себя… – совсем забыв о том, где находится, заговорил Циолковский, как о трибуну опершись о ящик с калгановой настойкой. – Я верю в мир без государств, без пограничных столбов, без армии, полиции, эксплуатации, денег…
– Без денег? – хмыкнул Семирадов.
– Их заменит справка о труде. А может быть, и таких справок не будет, потому что любая справка – это признак недоверия к людям… – перебил его Циолковский. – Люди так разобщены потому, что им не хватает общей цели. А ничто так не помогает чувству общей цели, как чувство общего врага. И этот общий враг есть у всего человечества.
– Какой же? – недоверчиво спросил Семирадов.
– Смерть, – просто ответил Циолковский. – Если все средства, которые люди сейчас тратят в борьбе против друг друга, они отдадут на борьбу друг за друга, то они победят не только болезни, но и саму смерть. Может быть, смерть – это тоже болезнь, только ее вирус нам неизвестен. Может быть, научатся даже воскрешать наших далеких предков. Скажите, разве вам не хотелось бы позавтракать с Сократом, пообедать с Александром Македонским, поужинать с Пушкиным?
– Не знаю, захотелось ли бы им… – попробовал отшутиться Семирадов с тайной мыслью: «А может, он действительно сумасшедший, как поговаривают? Нет, ум его прозрачен, да и руки у него золотые… Какие он водные лыжи смастерил! Выпросил у меня самую быструю тройку, примастачил к ней веревки. Лошади по берегу рысью, а он стоймя на лыжах за тройкой – только борода развевается над полосатым трико! Чем-то он в этот момент на Ивана Поддубного был похож. А ведь и правда, он по силе мысли, что Поддубный! Вся Калуга сбежалась на такое диво смотреть. Только недолго он прокатился – в воду плюхнулся. Вылез и говорит: „Разве это скорость! Ничего, когда на лодках будут стоять настоящие моторы, тогда лучше получится!“»
Семирадов спросил у Циолковского:
– Ну и куда же вы всех людей подеваете? На земле и так тесно становится… Только смерть от тесноты и спасает…
– А звезды на что? – спросил Циолковский у выхода.
Они вышли во двор, где парни в кожаных фартуках грузили на подводы ящики с бутылками. Один из парней, не заметив Семирадова, вынул бутылку с портвейном из ячейки ящика, проткнул мощным пальцем пробку внутрь и приложился к горлышку. Семирадов, крадучись, подскочил к нему сзади, схватил парня за ухо так, что тот взвыл от боли, и подвел к Циолковскому:
– Полюбуйтесь на этого алкогомосапиенса, Эдуардыч! Такой и в космос с бутылкой за пазухой полетит…
Попрощавшись с Семирадовым и вежливо отказавшись от его пролетки, Циолковский пошел домой окраинным оврагом, тыкая тростью-зонтом в корни, проступающие на тропе. Он был взбудоражен, даже яростен, но это была не распыленная, а сосредоточенная ярость. Полудумалось-полубормоталось:
– А все-таки есть вопрос всех вопросов: зачем все это? Зачем существуют мир, Вселенная, космос? Зачем? Наши философы об этом не думают. Либо не хотят или просто боятся. Философ, который не думает! Демократ, который трусит! Немыслимо! Научно все, что мы держим в руках, не научно все, что мы не понимаем? С таким ярлыком далеко не уедешь, а не то что не взлетишь…
В овраге была тишина, а бормотание Циолковского смешивалось с шелестом осенних листьев, плавно кружившихся в воздухе. И вдруг перед Циолковским с хряском распахнулась на полный разворот трехрядка, перегораживая тропу. Трехрядка была в руках окраинного героя с нагловатыми маслеными глазами, затуманенными продукцией Семирадова. Из-под сломанного лакированного козырька фуражки рвался буйный чуб. Щегольская косоворотка, расшитая по вороту васильками, была перехвачена наборным ремешком, а носки сапог были в грязи, но голенища зеркально сверкали. Рядом стояли два дружка-оборванца «на подхвате», подхалимски следящие за каждым движением глаз главаря. Один из оборванцев нырнул рукой за голенище, и сапожный ножик уперся в бороду Циолковского. Другой, ухмыляясь и ерничая, с притворной изгаляющейся нежностью прощупал карманы.
– Часики, ваше благородие…
– Пожалуйста, – сказал Циолковский и сам достал часы из жилетного кармана. – Павел Буре. Ни разу не чинил. Показать, как заводятся?
Оборванец, уже державший в руках часы, изумленно разинул рот от такой вежливости, с обалделой вопросительностью обращаясь глазами к главарю. У того в затуманенном взгляде проблеснуло узнавание.
– Да какое же это благородие… Это Птица…
Так насмешливо называли Циолковского в Калуге.
Главарь сделал повелительный знак глазами, и оборванец извинительно вложил часы в жилетный карман Циолковского. Еще знак – и нож исчез за голенищем. Главарь спросил, снисходительно посмеиваясь:
– Ну что, Птица, когда к звездам полетим? Тебе еще крылышки не обломали?
Оборванцы захихикали.
– Они у меня крепкие, – ответил Циолковский. – А к звездам полетим. Обязательно полетим.
Оборванцы схватились за животы, покатились со смеху.
– Эх вы, стеньки разины липовые… Свою душу, как персидскую княжну, в водке топите… Даже воровать как следует не умеете, – вздохнул Циолковский.
Главарь поугрюмел:
– Но, но, Птица, ты народ не забижай… Народ – он с горя пьет…
Циолковский начал сердиться:
– От горя думать надо, а не пить. Ты что – думаешь, я не народ, а народ только те, кто по канавам валяется? Лучше бы вы у меня часы украли, а то время крадете…
– Поосторожней, Птица… – пробурчал главарь, и при перемене его интонации рука одного из оборванцев снова нырнула за голенище, к ножу, но остановилась под взглядом главаря.
– Да не боюсь я умереть, – досадливо сказал Циолковский. – Боюсь, что вы дураками умрете. А жить надо вечно.
– Как? – переспросил главарь, не поняв.
– Вечно! – закричал Циолковский. – Тогда, кто сначала был дураком, может, и поумнеет.
Циолковский неожиданно схватился за гармошку главаря, отчего она стала издавать какие-то странные звуки, затряс его за грудки, стараясь что-то объяснить, хотя это было почти бессмысленно, но, может, все-таки не безнадежно.
– Перед многими людьми – только гаденькая, никому не нужная жизнь, грязная могильная яма и конец. А что в результате? – лихорадочно говорил Циолковский, забыв, кто перед ним. – Взаимное непонимание, войны, бессилие в борьбе с природой, каторжный труд, болезни, короткая страдальческая жизнь, вечный страх перед вечным исчезновением…
Главарь испуганно пытался высвободиться из цепких рук Циолковского, оказавшихся неожиданно сильными.
– Ты чего, Птица, ты чего?
Но Циолковский заграбастал его накрепко и тряс, пытаясь вбить сквозь его пышный чуб:
– Смерть – это только иллюзия человеческого разума, дурень. Каждое существо должно жить и думать так, как будто оно всего может добиться рано или поздно. Люди смогут добиться бессмертия, если все вместе будут думать о нем, как о главном…
Оборванцы старались оттащить своего главаря от Циолковского, но не тут-то было, и он продолжал все яростней:
– Когда все люди станут бессмертными, Земля для них окажется мала. Для этого и звезды – понимаешь? А для звезд – ракеты…
Главарь, наконец-то, вырвался, еле перевел дух:
– Понял, понял…
И Циолковский пошел вниз по оврагу, опять полудумая-полубормоча:
– Нет, господин Семирадов… Человек не остановится в своем развитии. Тем более, что ум давно подсказывает ему его нравственное несовершенство. Пока животные наклонности сильнее, и человек не может их одолеть. Один разум без воли – это ничто, и одна воля без разума – тоже ничто…
Главарь оправил косоворотку, оглядел дружков – не поймали ли они его на слабости, но те воровато потупили взгляды. Один из оборванцев приложил палец к виску, покрутил – мол, не все дома у Птицы.
Главарь насупился, и палец оборванца мигом отвалился от виска. Главарь, восстанавливая достоинство, покровительственно крикнул вслед Циолковскому:
– Эй, Птица! Может, тебе карасин для твоих ракет нужен? За нами дело не станет…
Но Циолковский его не расслышал.
Главарь, глядя на фигуру в черной крылатке, тающую внизу оврага, задумался вслух:
– А мне моя мамка сон рассказывала… Будто умерла, а и на том свете снова полы моет, стряпает, стирает, штопает… Страшно ей стало. На что ей бессмертие, моей мамке! Эх, Птица! – И, отряхивая с себя ненужные, мешающие веселиться мысли, снова припал чубом к трехрядке, раздирая ее цветастые мехи.
А, между тем, Константин Эдуардович даже и не предполагал, что за каждым его шагом сегодня наблюдали два незримых существа. Эти два незримых существа были молодой супружеской парой. Его звали Ы-Ы, а ее звали Й-Й. Незримыми они были потому, что представляли собой два лучистых атома и были гораздо меньше даже пылинок, роящихся в лучах солнца, проходящих сквозь ветви осенних калужских деревьев, под которыми шел Циолковский. В Галактике Бессмертия, обитателями которой они являлись, учеными уже давно был решен вопрос о переходе ее жителей в лучистое состояние, о даровании каждому атому возможности мыслить и чувствовать. Ученые вычислили, что смерть происходит лишь в результате распада сочетаний атомов, что те же самые атомы после смерти кого-нибудь из галактиан становятся частью деревьев, гор и даже живых существ. Но каждый атом в отдельности лишен памяти, ибо не способен мыслить, не может сознавать радости бессмертия, переходя из одной материи в другую. В результате длившихся долгие века осторожных экспериментов галактиане перевели сами себя в лучистое состояние, даровав каждому атому самостоятельное мышление, чувства, характеры, возможности продолжения в детях. Галактиане долго бились над тем, как воскресить своих далеких предков, атомы которых были рассыпаны по окружающей их природе. Став мыслящими атомами, они научились разговаривать с атомами деревьев, цветов, травы, земли, облаков, пробудили память и в них и много узнали из собственной истории. Галактика Бессмертия никем не управлялась – в ней не было ни государств, ни бюрократии, ни армии, ни полиции – все координировалось самой сознательностью крошечных сограждан, выбиравших сроком на один год без права переизбрания СОВЕТ СОВЕСТИ, в который входили сами галактиане, а также представители животного мира, деревьев, гор и облаков. Множество профессий в Галактике Бессмертия исчезло. Стали не нужны учителя – дети рождались сразу с памятью обо всей накопленной культуре. Стали не нужны врачи, потому что никто не болел.
Стала ненужной пища, потому что галактианам было достаточно вбирания в себя солнечной энергии. Стал ненужным транспорт, потому что галактиане могли свободно перемещаться при особой концентрации волн не только внутри своей галактики, но и за ее пределами. Стали ненужными дома, потому что сама атмосфера стала домом. Какие же профессии все-таки существовали в Галактике Бессмертия? Самого понятия «профессия» у галактиан не было. Но все они, избавленные от необходимости добывать себе на пропитание, развивались гармонично, были одновременно учеными, поэтами, музыкантами, художниками. Галактианам не нужно было печатать своих стихов, потому что стихи в самый момент возникновения струились от их создателя сразу ко всем другим. Музыка звучала даже без прикосновения к музыкальным инструментам, наполняя своим эхом всю галактику. Картины, нарисованные излучением сознания, покачивались в воздухе без каких-либо гвоздей. Галактиане не разговаривали – они только думали, и мысли каждого немедленно передавались собеседнику, вернее, сомыслителю. Ы-Ы и Й-Й, как вы уже знаете, были молодой супружеской парой – молодой, конечно, по галактианскому счету. Они праздновали свое медовое столетие.
– Мы предлагаем вам путешествие на Землю, – сказало дерево, которое было на этот момент в порядке очередности председателем Совета. – Надеемся, что оно украсит ваше медовое столетие. Но одновременно это будет, как выражаются некоторые из землян, «служебная командировка». Мы серьезно обеспокоены тем, что сейчас происходит на этой маленькой, но шумной планете. Земляне находятся на чрезвычайно низкой ступени развития не только науки, но и совести. Они до сих пор не только не сумели победить голод, болезни, смерть, но искусственно ускоряют смерть себе подобных отвратительными анахроническими массовыми убийствами, которые называются «войны». Как дерево, я не могу не выразить своего глубокого возмущения тем, как они поступают с моими земными братьями, беспощадно вырубая их и не понимая, что деревья – это мыслящие существа.
– У них есть еще гнусное развлечение, называемое «охотой», – добавила сопредседатель Совета Совести – птица.
– Впрочем, так же земляне поступают и с собой, вырубая друг друга и занимаясь охотой на человека, – продолжало дерево. – Но будем справедливы к землянам – они не все такие. Многие из них полны отвращения к войне. Вместе с жестокостью и насилиями на земле, как ни странно, есть и совесть. Правда, эта совесть еще не вооружена достаточными знаниями. Но отдельные из землян совершают поражающие нас прорывы мышления в будущее. Иногда эти прорывы бывают смешными и трогательными. Томас Мор. Кампанелла. Идея бессмертия зачаточно выражена в христианстве, но она больше поэтическая, чем реальная. Русский философ Федоров уже ближе к реальности бессмертия, хотя его предпосылки имеют весьма слабое научное подкрепление. Но один из его учеников, ныне живущий в Калуге, преподаватель математики и физики Циолковский, делает поразительные догадки. В частности, он был первым, кто высказал идею возможности перехода человечества в лучистое состояние. Поставив перед собой вопрос: «Если действительно существуют внеземные цивилизации, гораздо выше, чем наша, то почему они не вступают в контакт с нами?» – он ответил на него так: «Не пытаемся же мы, видя перед собой муравьиную кучу, вступать в контакт с муравьями». Ответ грубоватый, и не думаю, что он понравится многим землянам. Какой царь или премьер-министр, или даже лавочник захочет считать себя муравьем? Хотя что тут оскорбительного – муравьи, согласно нашим данным, во много раз разумнее людей. Мы не думаем, что искусственная акселерация развития при помощи вмешательства извне плодотворна. Если мы откроем землянам всю ужасность их жизни, то они могут ужаснуться настолько, что потеряют энергию и все поголовно станут пессимистами. Мы уверены, что они сами придут к самосовершенствованию, хотя и мучительным, долгим путем. А сейчас нам остается только наблюдать и ожидать, когда это случится. Ваша миссия, дорогие Ы-Ы и Й-Й, проследить хотя бы один день достойного представителя человечества из Калуги и сообщить нам по возвращении, действительно ли он таков, как мы проинформированы. Если это так, то судьба человечества далеко не безнадежна…
Ы-Ы и Й-Й сконцентрировали в себе перемещательную энергию и очутились на винном заводе в городе Калуге, где Циолковский вел спор с Семирадовым, давший им много поучительного для понимания такой странной планеты, как Земля. Затем они незримо сопровождали Циолковского по овражной тропинке и были свидетелями его встречи с тремя другими представителями человечества.
– Он так мыслит, как будто уже давно перешел в лучистое состояние, – подумал Ы-Ы.
– Важен личный пример, – в ответ ему подумала Й-Й. – Жители нашей галактики когда-то тоже были похожи во многих своих недостатках на землян. Но появились отдельные галактиане, перешагнувшие мышление своих современников. Их не понимали, над ними смеялись. Некоторых из них даже казнили и сажали в эти… как они назывались…
– В сумасшедшие дома, – мысленно подсказал Ы-Ы.
– Слава Богу, что теперь у нас ничего подобного нет и быть не может. Когда-нибудь так будет и на Земле.
Константин Эдуардович, поднимаясь в гору, остановился, отдышался.
– Ну, вот и одышка… На черта бессмертие, если мы будем бессмертными стариками. Веселой старости нет, как нет приятной смерти. У веселящейся старости скребут на сердце кошки… А может быть, старость – это просто-напросто болезнь, которую тоже можно вылечить? Жизнь оскорбительно коротка… Жалкая крошка на ладони вечности. Человек умирает несчастливым только потому, что не успевает стать счастливым. Я сам ничего не успеваю. Меня приводит в бешенство то, что я вынужден спать. Если человек в среднем живет семьдесят лет, то из них он спит целых двадцать три года! Черт знает что! А сколько пребывают в духовной спячке! А потом смерть – этот проклятый вечный сон?!
Когда Циолковский добрался до дома, Варвара Евграфовна готовила обед. Ее скуластое лицо было притемнено тяжелыми мыслями, и она взглянула на мужа с затаенным недоброжелательством, возникавшим в ней все чаще и чаще в последнее время, хотя она сама была в отчаянии от этого недостойного чувства к человеку, которого любила.








