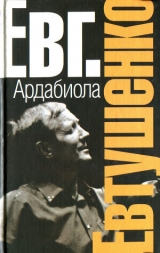
Текст книги "Ардабиола"
Автор книги: Евгений Евтушенко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Эдуард Ситечкин, бросив товарищей, энергично шел к своему светлому будущему.
Но рассвет означал независимое от Ситечкина продолжение жизни всего человечества и той маленькой части, которой был геологический отряд. Каля уже разводила костер, хлопотала над завтраком. Кеша копался в моторе, время от времени глядя на этот дым, и улыбался, но так смущенно, как будто все человечество следило сейчас за выражением его лица.
Коломейцев и Бурштейн брились перед одним круглым зеркальцем, висевшим на сосновой ветке, попеременно туда заглядывая. Столкнувшись один раз, рассмеялись, как будто не было их вчерашних споров. Профессионалы знают, что на опасное дело лучше идти свежевыбритым и веселым. Сережа Лачугин, увязывая свой рюкзак, восхищенно косил взглядом на Коломейцева. Предстоящая опасность как будто смахнула с лица Коломейцева десяток лет, и в его глазах танцевали чертики. Юлия Сергеевна Вяземская увидела, что из постаревшего затравленного волка он снова стал легким и красивым, как давным-давно, когда он вытанцевал с ней в коридор и прижал ее затылок к телефону. Калин салат из черемши и похлебка из тушенки и сушеной картошки были уничтожены смачно и быстро. Каля радостно отметила, что Кеша впервые не отворачивался от других, когда ел, – не стеснялся.
Почти не прикасалась к еде только Юлия Сергеевна, она прикуривала сигарету от сигареты. Веки ее сегодня не были подсинены. Она встала и ушла в палатку. Когда все пошли вниз, к реке, Вяземская неожиданно появилась на берегу и решительно бросила свой рюкзак в лодку. Через плечо у нее висела двустволка. Иван Иванович Заграничный, сидевший у мотора, недоуменно поднял взгляд на Коломейцева. Глаза Коломейцева недобро сузились, хотя по инерции он продолжал улыбаться.
– Юлия Сергеевна, разве вы не поняли мое указание о том, что вы остаетесь?
– Поняла. Но рабочие справятся здесь и без меня. Вам я буду нужней, – ответила Вяземская, ставя двустволку в лодку. Она не глядела в глаза Коломейцеву, и он понял, что шутки плохи.
– Вообще-то перегруз небольшой получатся… – заскреб затылок Иван Иванович Заграничный.
Перед Вяземской вдруг вынырнул Кеша, вцепился в ее рукав:
– Юлия Сергеевна, родненька… Не надо… Не ходите с нами… Ради Бога, не ходите…
Вмешательство подчиненного в решение вопроса не понравилось Коломейцеву. Он перестал улыбаться.
– Что вы паникуете, Кеша? Занимайтесь своим делом…
Кеша бросился к нему, в отчаянии вращая глазами, униженно, но настойчиво залепетал:
– Виктор Петрович, не разрешайте. Ей нельзя…
– Это почему же нельзя? – нахмурился Коломейцев.
– А вот знаю, чо нельзя… Я сон видел…
– Не разводите мистику, Кеша. Заводите мотор. Юлия Сергеевна едете нами, – отрезал Коломейцев, поднял отвороты резиновых сапог, вошел в воду и стал выводить лодку, в которой уже сидела Вяземская. Потом ловко перевалился через борт и помог взобраться неуклюжему Бурштейну. Иван Иванович Заграничный недовольно сплюнул, но не на воду, а на собственные руки, и дернул веревку так яростно, что мотор сразу завелся. А Кеша все никак не мог завести свой мотор, так что ладони горели от веревки, и продолжал бормотать, обращаясь теперь уже к Лачугину:
– Нельзя ей, Сережа, ох нельзя…
И вдруг Каля вбежала по пояс в реку, притянула к себе Кешу и поцеловала его во взмокшие вихры, никого не стесняясь.
– Ну и дела… Ай да наш тихоня Кеша… – изумился Иван Иванович Заграничный и прибавил газу, рванув лодку вперед.
Коломейцеву почему-то было неприятно видеть этот поцелуй, но он подавил в себе это чувство, как и чувство неприязни к Юлии Сергеевне, опять нарушившей правила игры. Все чувства, не имеющие отношения к поставленной цели, должны были быть сейчас подавлены. Так всегда действовал Коломейцев, когда он ставил перед собой цель.
Кешин мотор сразу завелся после неожиданного Калиного поцелуя, и вторая лодка пошла догонять первую. А в самом начале пузырящейся дорожки, оставленной лодкой, по пояс в воде стояла Каля, и в тот момент, когда лодка стала исчезать за поворотом, быстро и неловко перекрестила ее.
17
Река поначалу была неопасная, но все знали, что неопасность эта временная. Такие минуты разные люди переживают по-разному: кому хочется помолчать, а кому и поговорить о чем-то совсем другом, чем предстоящее. Ивану Ивановичу Заграничному хотелось поговорить. Когда мотор выровнялся, перешел с первоначального завывания и чиханья на ровное пофыркивание и дал возможность слышать друг друга, Иван Иванович закинул словесную удочку:
– А ведь я, промежду прочим, за границей все-таки побывал, Виктор Петрович.
– Да ну? – изобразил удивление Коломейцев, собранно вглядываясь в реку.
– Да, побывал… И безо всяких анкет… Так что моя фамилия, она, как ни осмеивают, мне соответствует, – хитро ухмыльнулся Иван Иванович.
– Где же это вам удалось побывать без анкет, Иван Иванович? – прищурился Бурштейн.
– А сразу в трех странах. Во время войны. На танке… И кое-какие свои сравнительные наблюдения имею, – высказался Иван Иванович и притворно притаился.
– Ну, и какие? – не отрывая глаз от реки, спросил Коломейцев.
– А таки, чо там порядку больше.
– Упаси нас Бог от такого порядка, как в Дахау или в Освенциме… – с горькой усмешкой сказал Бурштейн.
– Ну чо ты, Борис Абрамович, придирашься! Порядок на костях – это, конечно, гнусность. Я не об этом. Я о характере нашем… Система наша вроде бы вся на организованности должна держаться, а характер у нас самый чо ни на есть неорганизованный. Оттого мы много дров и ломам. Лишних дров… Дров, которы потом гниют без присмотра… А эти дрова преспокойно деревьями могли быть и тень да кислород людям давать. Вот мы поговорку себе в оправдание придумали: «Лес рубят – щепки летят». Из щепок леса не вырастишь – тако бы я добавление к этой поговорке сделал. Щедрость природы нашей нас подпортила. Просторами нашими мы избалованы, потому кажду веточку не ценим, как европейский человек или японец какой. К слову, про японцев… Мы по Лене наш лес для японцев сплавляли. Сначала кору обдирали, чоб наш советский лес там, в Японии, красивше выглядел. Приехал японский представитель и вежливо, но взбунтовался: «Уж пожаруста, товариси хоросие, кору не обдирайте…» Заподозрили подкладку политическую: «Это на какой же стратегический предмет вам кора нужна?» – «А на тот сутратегицеский пуредмет, цто из васей советской коры мы будем найроновые кофтоцки выхимицивать, и васи барысни, товариси хоросие, за ними в оцереди будут стоять…» Вот те и недотепистость наша. Почему, вообще, у нас эти «оцереди» до сих пор еще не вывелись? От бедноты нашей? «Цепуха», как японец сказал бы. Богаче нашей земли нету. А посмотри, чо на вокзалах делатся – вповалку друг на дружке спят. Как будто все эвакуируются в срочном порядке. Только эвакуация кака-то странная – одновременно в совсем противоположны стороны. Эпидемия перемены мест. А почему? Я, чобы лодочный мотор достать, куда гонял? В Москву. Прописка – это дите неорганизованности нашей. Ежели прописку сейчас отменить, Москва бы сразу в пять Нью-Йорков превратилась. А ведь страна – это как-никак одно тело, все жилочки в нем подсоединены. Чо же это за тело, если голова, чо кочан капустный, раздуется, а ножки будут хиленькими, как спички? Когда же мы сорганизуемся по-людски?
– Ничего, индустриализацию мы сумели провести. Сорганизовались. И войну тоже выиграли. Сорганизовались, – пожестчал голос Коломейцева. – Хотя, конечно, во многом ты прав, Иван Иванович… Но ведь ни одного народа нет без недостатков, как нет без них ни одного человека…
– Кто возражат, – вроде бы примирительно, а на деле настырно тянул свое Иван Иванович Заграничный. – Так чо же, нам новой войны дожидаться, чобы сорганизоваться?
– Это ты ловко поддел, под ребро… – усмехнулся Коломейцев. – Но в мирной жизни надо тоже уметь жить, как на войне. Война – это оголенная суть жизни. А суть жизни – в борьбе за жизнь…
– Стоп, стоп, стоп… Тут мы с тобой на развилку, Виктор Петрович, вышли, – помотал головой Иван Иванович Заграничный, выравнивая мотор. – Конечно, я иногда и саму войну как будто с тоской вспоминаю: как победу нашу кровью добывали, как письма домой друг у друга на спинах писали. У меня однажды сквозь прорванну бумажку химическим карандашом на гимнастерке от кого-то осталось: «Твой Жорик». Однажды маршала Жукова в блиндаже угощал я тушенкой, моим солдатским тесаком открытой… Но ведь это не по самой войне тоска, а по братству солдатскому… Да и как по ей тосковать, если она, проклята, двадцать миллионов душ выбила… Война – така кровава каша, чо негоже на нее мирной жизни быть похожей. На войне порядок по приказу, хотя не всегда и приказы помогают. Такого порядка я не хочу ни для себя, ни для других. Надо, чобы порядок изнутри исходил, из совести нашей, а не из приказов. Конечно, слишком мягкотелым быть нельзя, но за излишню жестокость надо и наказывать жестоко.
«Вот тебе и Иван Иванович… – подумала Вяземская с боязливым удивлением. – А мне казалось, шутник, балагур… Вот что иногда под шуточками открывается».
Но Коломейцев и Бурштейн не удивились. Они оба воевали и знали, что нечего пугаться той войны, которая прошла, как нечего пугаться пули, которая просвистела мимо. Просвистела – значит, не убила. Кроме того, после войны оказалось, что у каждого была своя война, не похожая на войну другого. Такое уж у войны свойство.
– Сложная это проблема – насколько справедливо жестокостью платить за жестокость и можно ли самому устанавливать законы расплаты… – задумался Бурштейн, зачерпывая кружкой воду за бортом. – От этого справедливость может ожесточиться и перестать быть справедливостью. Впрочем, война иногда предлагает такие неожиданные ситуации, что приходится решать молниеносно и полагаться даже не на совесть, а на инстинкт совести. А ты знаешь, Иван Иванович, я ведь во время войны адъютантом был. У генерала. Он тогда кавалерийским корпусом командовал…
– А ты на коне… можешь, Борис Абрамович? – недоверчиво спросил Иван Иванович Заграничный.
– Могу, – улыбнулся Бурштейн. – Меня за знание немецкого в кавалеристы взяли. Ничего, научился…
– Да еще как может, – шутливо подтвердил Коломейцев. – Мы с ним, Иван Иванович, весь Горный Алтай верхами прошли… Он образцы, не сходя со стремени, зубами, как в цирке, поднимал…
– Ну, так вот… – продолжал Бурштейн, – угодили мы в Белоруссии в «котел». Кругом болотные кочки, немцы. Кони у нас некормленные, люди голодные, боеприпасы на исходе, связи никакой. Немцы с самолетов листовки бросают, в рупора власовские голоса убеждают сдаваться. Пропаганда у них была хитро построена: «У кого из вас нет обид на советскую власть? У кого хоть кто-нибудь не был арестован из семьи? Зачем же вы это все защищаете? Жизни свои губите?» Генерал уже немолодой был, еще из буденновцев. Как-то мне признался, что, когда погоны снова в нашей армии ввели, было это для него непредставимо. Привык в гражданскую шашкой на погоны нацеливаться. Собрал он комсостав, сказал: «Обиды у нас, конечно, есть у каждого. Но только они ошибаются – на Родину у нас обид нет и быть не может. Если было что у нас неправильно, их фашистская несправедливость хуже во сто крат нашей, потому что у нее даже корни подлые. И с корнем она будет вырвана. Власов – предатель Родины и будет повешен. Обороны мы не удержим. На прорыв идти надо…» – «Как же мы пойдем на прорыв, – спрашивает начальник штаба, – если все пространство между нашим корпусом и немцами занято деморализованными разрозненными частями?» – «Попробуем поднять…» – говорит генерал. «А если не поднимем?» – спрашивает начштаба. Ночью поехали мы верхами вдвоем с генералом на костры, жмущиеся к нашему корпусу. Мы сами костров не жгли, немцам нас убивать не помогали. А эти жгли и своими кострами обозначивали не только себя, но и нас. Чувствовал я по генералу – конармейская злоба в нем закипает, но, когда мы увидели тех, кто у костров, вся злость на них прошла. Заросшие щетиной, опухшие от голода, оглохшие от бомбежек, с отупевшими глазами жертв сидели они или лежали прямо в грязи. Ездил генерал от костра к костру, по-хорошему объяснял, что завтра в пять ноль-ноль на прорыв надо по ракете подниматься. А они как будто не слышали его, никто даже не шевельнулся. Все-таки прорвался из генерала конармейский мат: «Да слышите вы меня, мать вашу так, или нет?» Когда ровно в пять ноль-ноль взлетела наша ракета, никто из них и не двинулся. Генерал приказал дать пулеметную очередь над их головами. Снова не шелохнулись. У генерала даже лицо посерело, но все-таки своей угрозы открыть по ним прямой пулеметный огонь не выполнил. А выхода иного не было, пришлось сквозь них коннице и тачанкам прорываться. Некоторые из них пришли в себя, поднялись и к нам присоединились, а те, кто не поднялись, погибли. А что было делать?! Погибнуть двум-трем сотням человек или еще и четырем тысячам вместе с ними…
– Не было другого выбора у генерала, – сказал Коломейцев. – Трусов нечего жалеть… Иван Иванович, у тебя, по-моему, мотор на одном цилиндре работает…
– Ничо не на одном, – обиделся Иван Иванович, – слухом страдаешь, Виктор Петрович.
– Они не были трусами, – строго поправил Коломейцева Бурштейн. – Они были, как во сне. Но все-таки некоторые из них пробудились и спаслись…
– А сколь из прорыва вышло? – спросил Иван Иванович Заграничный.
– Тысячи полторы… Через реку переправлялись под бомбежкой и артогнем, за хвосты держались. Люди гибли молча, а вот кони ржали – до сих пор, как вспомню, их предсмертное ржание слышу. Потом спешились мы и пошли, крадучись, по глухомани. После бомбежки тишина обрушилась, придавила. Один молоденький лейтенант, наверно, мой ровесник, не выдержал, и выражение у него в глазах появилось точно такое, как у тех, у костра. Оцепенелое. Безнадежное. Зацарапал он пальцами по кобуре, револьвер вытащил и к виску его стал поднимать дрожащей рукой. Люди, которые это видели, остановились, замерли, но никто за руку его не попытался схватить – понимали, что поздно. Кто-то рядом тоже начал кобуру расстегивать. Не то что мужества, а сил на мужество, казалось, уже не было. Но молоденький лейтенант не успел выстрелить в себя. Раздался другой выстрел, и лейтенант упал на бурелом. Стрелял генерал. Выстрелил и шепотом скомандовал: «Не останавливаться… вперед». Сразу чьи-то растерявшиеся было руки стали кобуру застегивать, а то бы, кто знает, могла пойти цепь самоубийств, паника бы образовалась… Снова пошли. Пробились к своим. Генерала сразу по приказу Верховной ставки арестовали. Все ему вместе стали шить: и то, что в «котле» со своим корпусом очутился, и то, что по нашей пехоте конницу повел, и то, что лейтенанта пристрелил… Говорят, маршал Жуков генерала выручил, перед Сталиным заступился… Так что дошел генерал до Германии, как и ты, Иван Иванович… Юлия Сергеевна, дайте-ка мне вашу сигарету… Я, правда, бросил, но…
– Осторожней, Борис Абрамович, около бака с бензином сидишь, – предупредил Иван Иванович Заграничный, накидывая на бак плащ-палатку. – А ты его после войны не встречал, генерала своего?
– Один раз… Я, правда, мемуары его читал, но в них ничего похожего на то, что я помню. Одни описания военных операций, а запаха войны никакого. Язык тоже не его, не буденновский, а какой-то штабной. Правда, там примечание было: «Литературная запись такого-то». Вот если бы эта была литературная запись Хемингуэя, тогда другое дело… Великая была бы книга… А встретил я моего генерала так… Иду я года три назад по Покровскому бульвару мимо скамей, где пенсионеры в шахматы играют, и вдруг вижу знакомый затылок. Военный затылок, хотя и под штатской шляпой. Затылок седой с просвечивающей сквозь него кирпичной кожей. Бугры у этого затылка характерные – они, как будто живут, дышат, один независимо от другого. Стоит штатский старик, но крепенький, хотя и с палочкой, и чужую шахматную игру наблюдает. Вмешивается, подсказывает, вызывая недовольство окружающих или, в лучшем случае, снисходительные смешки. И никто не знает, что это один из великих неизвестных людей, которые на самом деле и выиграли войну. Имя его, конечно, известно, и мемуары тоже, но кто он на самом деле, как знаю я, никто не знает. Он меня в лицо не признал: я сильнее, чем он, с войны изменился, но я ему напомнил: «Ваш адъютант, товарищ генерал… Борька, биробиджанский кавалерист…»
– А ты разве из Биробиджана, Борис Абрамович? – удивился Иван Иванович Заграничный.
– Да нет, я со Сретенки… Это у моего генерала шутка такая насчет меня была… «Ну, как с овсом в Биробиджане?» – весело спросил, хотя глаза чуть померкли. Потащил меня к себе домой неподалеку. Оказалось, что живет совершенно один. Усадил меня под именное – от Семена Михайловича – холодное оружие, холостяцкой настойкой на укропе и чесноке угостил, а вот первым тостом абсолютно ошарашил: «Ну, давай выпьем за нашу кавалерию, которая решит судьбу будущей войны, если она, не дай Бог, все-таки случится!» Ну, думаю, генерал мой, на которого в юности я, как на Бога, молился, в детство впал. Все же годы. «Как вас понимать, товарищ генерал?» – спрашиваю. А он мне с буденновской подковыркой: «Каков может быть результат будущей войны? Только одни сплошные руины. Никакой техники не останется, никакой, как ее там, – электроники. А по руинам кто пройдет? Кавалерия!» Засмеялся, но сообразил, что шутка страшноватой получилась, посерьезнел, задумался: «Эх, Борька, Борька, биробиджанский кавалерист… Я хотя из крестьянской иногородней семьи, а военный что ни на есть профессиональный – с осьмнадцати лет начал саблей по головам махать. Против генералов воевал, сам генералом заделался. А вот войну не полюбил… Помнишь наш прорыв, Борька? Помнишь, как я был вынужден сквозь своих конницу пустить? А помнишь, как я мальчишку-лейтенанта?.. Почти тридцать лет прошло, а я все мучаюсь… Скажи мне, Борька, прав я был тогда или не прав?» – «Их война убила, а не вы, товарищ генерал, – ответил я. – А если по-другому бы поступили, другие люди погибли бы, еще больше людей, и вы бы тоже всю жизнь мучились…» – и Бурштейн замолчал, погрузившись воспоминаниями в общую и его личную войну.
– Юлия Сергеевна, давайте двустволку! Утки впереди… на воде… – вдруг загорелся Коломейцев.
– Так это мать – деточкам… Они ишо не на крыле, – утихомирил его Иван Иванович и вздохнул. – Вот ведь кака проклята штука война… Хороших людей ради хорошего на таки страшны решения вынуждат, чо как ни поверни свое решение – все равно мучиться будешь. Ничо в ней красивого нету, в войне… Не люблю, когда детишки в войну играют. Чоб она сдохла раз и навсегда. А она, сука, живуча… То там, то сям высовыватся… Ты вот во Вьетнаме была, Юлия Сергеевна?
– Была, – неохотно ответила Вяземская.
– Ну и чо там? Как в газетах или не так? – допытывался Иван Иванович Заграничный.
– Ту, вашу войну, я тоже по газетам читала… – ответила Вяземская. – А она, оказывается, была другой. Еще страшней. Так и во Вьетнаме… Хотя краешек той войны я захватила и в ней участвовала. Но это было в тылу, в Златоусте. Я тогда была в ремеслухе, на станке снаряды девчоночьими руками обтачивала. На завод, правда, брали только мальчишек, но я упросилась. Деревянные подставки для нас придумали, чтобы мы до станков дотягивались. Войну не только вы, но и мы, дети, тоже выиграли. Когда потом в волейбольной институтской команде играла, меня хвалили за «мужской удар». А что в том хорошего, если у женщины «мужской удар»? А когда с экспедицией во Вьетнаме была, бабий ужас во мне возник, себя возненавидела. Всегда себя за мужика считала, и вдруг оказалось, что баба…
– А ты расскажи, Юлия Сергеевна, расскажи… – ласково попросил ее Иван Иванович Заграничный. – День у нас сегодня такой вышел – военно-мемуарный. А то я не расскажу, Борис Абрамыч не расскажет, ты не расскажешь – кто же правду про нас узнат? Разговоры, конечно, не книжки, на них подписки нету, но разговоры, однако, тоже большими тиражами расходятся. Разговоры от одного человека к другому идут, и правда сама по себе, независимо от книжек, в народе держится.
– На что, на что, а на недоразвитие болтологии сейчас нечего жаловаться, – ворчанул Коломейцев. – Пора уже науку такую заводить – разговороведение…
– А неплохая была бы наука… Будущий Толстой этой науке большое бы спасибо сказал, – усмехнулся Бурштейн. – Без нее он задним числом новый роман «Война и мир» не напишет…
– Действовать надо, а не собственные косточки перемывать, – буркнул Коломейцев и задумчиво спросил: – Ну как, братцы, найдем касситерит или нет? Должны…
– А к чему действия-то эти приведут, если собственны косточки не перемыты? – мягко укорил его Иван Иванович Заграничный. – От перемытых косточек грязь и на действия может перейти… Виктор Петрович, ты за наши действия не бойся, их разговоры не испортят. А вот когда человек свою память внутрь запихиват, она его изнутри разорвать может, аж все вовремя не перемытые косточки по ветру полетят… Так чо же с тобой случилось во Вьетнаме-то, Юлия Сергеевна?
– Был при нашей экспедиции шофер-вьетнамец лет двадцати. Звали его Нгуен. Чистейшая душа, вроде нашего Кеши. Даже когда грустил – улыбался. А улыбка у него была замечательная. Что-то в этой улыбке от гагаринской было. Вообще он внешне на Гагарина был похож, только вьетнамским художником нарисованного. Однажды забрались мы в довольно опасно простреливаемый район вместе с геологами-вьетнамцами. Кстати, тоже касситерит искали, Виктор Петрович… Вижу, наш Нгуен мнется, что-то сказать хочет, но стесняется, не решается. Я его еле-еле раскачала, чтобы объяснил. Рассказал он на своем очень смешном русском, а больше руками, что рядом в деревне его невеста живет, которую он уже год не видел. Я ему говорю: «Поезжай к ней, Нгуен…» Он головой отрицательно замотал, а у самого глаза умоляющие. Поняла я, что он своего начальника вьетнамского побаивается, села с ним в «газик» и поехала – вроде бы, для геологических целей. Нгуен даже песню от радости запел. Пока ехали, над нами постреливать стали. А Нгуен ничего не замечает, продолжает песню распевать. Остановил он «газик» у деревянного колодца. Снаряды и бомбы за столько лет войны всю деревню с землей сровняли, только колодец чудом выжил. Рядом с колодцем деревянная колода, а в ней несколько старух-вьетнамок белье стирают. Провоет снаряд или бомба неподалеку ухнет, а они даже голов не поднимают. Стирают, как будто это самое главное дело, а остальные дела, в том числе и война, – второстепенные. «Где же они живут?» – подумала я и, оглядевшись, увидела десятки детских глазенок, вытаращенных на меня из-под земли сквозь щели блиндажных бревен. Прямо как у Некрасова, только в более страшном, вьетнамском варианте. До того им небо стало врагом, что под землю ушли. Нгуен о чем-то полопотал со старухами-вьетнамками, извинительно улыбнулся мне и опрометью бросился бежать туда, где его невеста. И вдруг что-то загрохотало, черный фонтан земли вырвался, швырнуло меня на землю взрывной волной, и, выплевывая изо рта глину и листья, увидела я туловище Нгуена на земле, а голова с раскосыми глазами подкатилась ко мне… Но вьетнамки продолжали стирать и выкручивать белье, как будто ничего не случилось. Они устали замечать смерть. И тогда-то меня впервые в жизни объял бабий ужас. Ужас не за себя. Ужас оттого, что можно сделать с такой хорошей улыбкой человека, отрубив ее от его тела. И я завыла не своим голосом, забилась на земле, как в падучей. Когда очнулась, увидела, что старухи-вьетнамки с еще мокрыми отстирки руками складывают на бамбуковые носилки тело и улыбку Нгуена и куда-то молча уносят. А следом идет, так же молча, молодая девушка, похожая на Нгуена, как сестра, наверное, его невеста. Я, как лунатик, села в «газик», завела его и поехала сама не знаю куда. Увидела в зарослях возле дороги замаскированную ветками зенитную батарею. Остановила «газик», подошла к орудию, оттолкнула вьетнамского солдата и хотела выстрелить в небо, хотя не умела стрелять. Маленькие вьетнамские солдаты гроздью повисли на мне, вцепившись в мои руки, что-то крича и показывая мне знаками, что нельзя… Поэтому, Иван Иванович, я тоже не люблю, когда детишки играют в войну…
– В детях говорит инстинкт подражания героизму… Без героизма жизнь сведется к быту, – заметил Коломейцев.
– Лучший героизм – вынужденный, а не изобретаемый, – сказала Юлия Сергеевна. – Кстати, не унижайте быт. Он уже давно стал героизмом. Вынужденным героизмом.
– Мне чужды эти антигероические тенденции. Они расслабляют, – насупился Коломейцев. – Для младшего поколения скоро и Матросов перестанет быть героем.
– Э, нет, Виктор Петрович. У Матросова героизм был как раз вынужденный, – несогласно замотал головой Иван Иванович Заграничный. – Я так эту картину представляю. Дот смертью плюется. Товарищи вокруг гибнут. Кинул гранату – не помогло. Вторую – не помогло. Тогда – телом. Так не один Матросов сделал.
– Задним умом все самые умные, – резко сказал Коломейцев. – Легкая это штука – заднеумная философия.
– Твоя правда… – признал Иван Иванович Заграничный. – Война – не фильм про войну, обратно не прокрутишь… Хотя задний ум и лучше, чем передняя глупость… Война и самыми страшными днями нас испытывала, но и самый радостный день подарила – День Победы. Народный день. Народ не только знаменитыми героями силен, но и героями неучтенными. Конечно, будет день такой, когда к Большому театру уже ни один ветеран не придет, и звон медалей наших, как звон бубенцов на тройках в прошлом, исчезнет. Но смерть нас отменить может, а праздника этого не отменит. Он выстраданный, а не придуманный. И Россию никто отменить не сможет. Она тоже не придумана, а выстрадана… Мы вот, старшие, о молодых, войну не прошедших, беспокоимся, конечно, правильно, но иногда перебрюзживам излишне. Главно опекунско наше беспокойство – не подведут ли они нас. – И чертыхнулся. – А вот теперь, Виктор Петрович, и правда один цилиндр заглох… Ага, сообразил: свеча отошла. Это дело поправимое… – И продолжал: – А вот маловато мы беспокоились о другом – не подведем ли мы, старшие, молодых. Подведем, ежели они нам не поверят! Подведем, ежели они нам верят, а мы совсем не те, чем им кажемся. Думам: мы-то знам, но ведь мы старше, нам можно, а они молодые, еще некрепкие, им все знать опасно. Не устоят. А они потом все из чужих нехороших уст могут получить то, чо мы им не рассказали. Самы страшны факты из чистых уст – лекарство, а из грязных – отрава. Но все-таки насчет молодого поколения ты не беспокойся, Виктор Петрович. Погляди хотя бы на Лачугина. Золотой парень. И, между прочим, организованный. Тебя он, Виктор Петрович, обожат. Извини меня, даже слишком.
– Ну, это ты, Иван Иваныч, подзагнул… – с чувством некоторого тайного удовольствия сказал Коломейцев. – Просто у Лачугина есть чувство необходимости авторитета, кстати говоря, некоторыми представителями нашего великого рабочего класса и нашей интеллигенции потерянное. Подраспустил я вас малость, мои дорогие мыслящие подчиненные…
– Тяжело тебе, Виктор Петрович, нами, грешными, идейно неустойчивыми, руководить, а приходится. Но ведь и нам с тобой тяжело быват, – усмехнулся Иван Иванович Заграничный.
– Ты же сам порядка хочешь, организованности? А как же организованность без организаторов? – кольнул его Коломейцев. – Вот и терпи… Жизнь делают борцы. А борцы – это прежде всего организаторы.
– А вот наш Кеша совсем не похож на борца и даже не думает, борец он или нет, – неожиданно вспыхнула Юлия Сергеевна. – А вы знаете, он и есть настоящий борец. Хотя никаких речей о борьбе не произносит. Со своим физическим несчастьем борец. Тем, что такой добрый к людям, – борец. А как трогательно он любит Калю! Разве те немногие, кто умеют любить по-настоящему, не борцы за любовь? Многие, себя называющие борцами, и не знают, что такое любовь. Черствеют от постоянной готовности защищаться или нападать. Кожа панцирем становится. Это, конечно, от чужих ударов спасает. Но когда чья-то рука хочет нежно погладить такого человека, то он сквозь приросший панцирь ничего не чувствует. Самоубийственный это панцирь. Да и какие это борцы, если с собственной бесчувственностью не борются!
– А бензин-то мешаный, – вслух заключил Иван Иванович, вслушиваясь в мотор. – Вот прохиндеи… Извини, Юлия Сергеевна… Все ты правильно говоришь…
Вяземская продолжала:
– Мы почему-то подразумеваем в слове «борьба» некую подчеркнутую общественность, публицистику. Борьбой с хамством, например, считается только разоблачение чужого хамства. А разве самому быть нежным – не борьба против хамства? Разве самому быть правдивым – не борьба с ложью? Разве прекрасные стихи о прекрасном – не борьба с уродливым? Почему ощущение борьбы у многих только какое-то военное, а не духовное.
– Война тоже дает примеры высокой духовности, – поправил ее Бурштейн. – Но только на той стороне линии огня, где справедливость. В немецкой поэзии ничего не осталось от патриотических стихов Второй мировой войны, да и не могло остаться. А сколько осталось в нашей поэзии! Потому что на нашей стороне была справедливость. А там, где справедливость, там и дух… Война определяет многое. Но не все. Я знаю людей, которые на войне не боялись рисковать жизнью, пулям не кланялись. А в мирное время угодливо кланяются так называемым нужным людям, боятся рисковать ступенькой карьеры. А что такое ступенька карьеры или вся ее лестница по сравнению с одной-единственной жизнью! Я долго думал – почему так бывает. Пришел к выводу: на войне иногда смелым быть легче. Конечно, страшно идти под пули, но ведь рядом с тобой под эти пули идут и другие. Кроме того, за твоей спиной – приказ. А в мирное время иногда бываешь одинок, никто тебя не поддерживает своей смелостью, за спиной никакого приказа, и за собственную смелость ты можешь быть не награжден, а наказан.
– Вы правы, Борис Абрамович, – сказал Коломейцев. – Смелость за награды – это трусость, притворяющаяся смелостью. Не такой смелостью мы войну выиграли. Поэтому я за фронтовую смелость в мирной жизни.
– Фронтовая смелость у нас ишо к дефициту не относится… Ты мне, Виктор Петрович, бензиновый шланг боком придавливашь, – сказал Иван Иванович Заграничный. – Если надо будет, Родину защитим. Но ежели все будут готовиться только к тому, что Родину на войне защищать, кто же ее будет защищать в мирное время? От подхалимов? От прохиндеев? От трусов? От неорганизованности нашей собственной?
– От Эдуарда Ситечкина, – добавил Бурштейн, и все рассмеялись.
И вдруг Коломейцев ощутил какую-то совсем незнакомую ему резь в глазах. «Слезы? – поразился он. – Проклятие, стареешь, Коломейцев, но почему слезы?»








