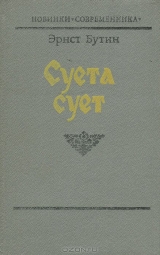
Текст книги "Суета сует"
Автор книги: Эрнст Бутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Патриарх засмеялся, расправил плечи.
– Ты – книжный правщик? Будя, не смеши, – он снисходительно постучал посохом по плечу Аввакума. – Ты со товарищи своим невежеством только пакостили, истину выявить мешали. За то и погнал вас. – Он зевнул. – Отец Епифаний выправит – зело учен, мудр. Риторство и философию знает.
– Риторство и философию?! – Аввакум задохнулся от возмущения. – Риторство и философия – блуд умствования! – Плюнул на землю, растер ногой. – Вот что есть риторство и философия! Вот что есть мудрость! – Протопоп, пошатываясь, двинулся к патриарху. Стрелец Арсений схватил Аввакума за плечи, но тот дернулся в нетерпении, толкнул стрельца. Арсений отлетел, упал спиной на телегу.
– Ах ты, шпынь долгогривый! – обозлился он и рванулся к протопопу.
Но Никон поднял руку, остановил стрельца.
– У-ух, мудрость, искус дьявольский, – зарычал, затопал Аввакум. – От знаний-то и беды все, ибо сказано, кто умножает познание – умножает скорбь. Где они, твои мудрецы, Пифагоры, Ераклиты да Аристотели? Сама память о них погибша, аки свинья, вшами изъеденная. Не знанием, – зашипел он в лицо патриарху, – не мудрствованием, а токмо верой – верой! – к истине придем и за единый аз той веры жизни отдадим!
– Зело свиреп! – Никон усмехнулся. – А ежели аз тот от невежества вписан?
Аввакум отвернулся, ссутулился, подошел, загребая ногами, к телеге, уперся в нее руками.
– Наши русские святые, учителя наши, по этому азу истину нам открыли, значит, и аз тот свят, – устало сказал он и опустил голову.
– Слепец! – загремел бас патриарха. – И святые твои, учителя твои, невежды-слепцы!
И стало тихо. Закрыли, как от удара, лица ладонями Лабы; охнув, качнулись мужики. Даже юродивые от такого святотатства и богохульства перестали поскуливать, побелели.
Протопоп рывком повернул голову, и сквозь упавшие на лоб космы волос Никон увидел его ненавидящий звериный глаз.
– Слепец! – с вызовом повторил патриарх. – Слепец слепца водит, оба в яму падут, потому как в ночи неведения ходят! – Он твердо глядел в остекленевший глаз Аввакума. – Расстригать тебя не стану. Поедешь в Тобольск… Хотел здесь тебя оставить, но лют ты. Подумай. Добра желаю.
Погас блеск в протопоповском глазу, наползло на него морщинистое желтое веко.
– Сказано: не может древо зла плод добр родить. – Аввакум упал лицом в телегу, вполз на нее, поворочался, устраиваясь, и вдруг рванул на груди остатки рубахи, закричал: – Но помни, Иуда, проклянешь и себя, и иноземную ложь, когда по твою душу судить придут. Помянешь меня!
– Помяну, помяну, – согласился Никон и приказал: – В Сибирский приказ! Сдашь дьяку Третьяку Башмаку.
Арсений сдернул шапку, подбежал, согнувшись, под благословение. Никон сунул ему руку для поцелуя, перекрестил его троеперстием. Аввакум плюнул в сторону патриарха и отвернулся.
Телега дернулась, вильнула колесами, и патриарх увидел, как раздалась толпа и сомкнулась, как потянулись к протопопу руки, как рванулась к мужу Настасья Марковна. Никон хотел благословить народ, но передумал – никто не видит его, все спинами повернулись. Посмотрел на небо – как бы дождь не начался, не испортил бы крестный ход. Но небо было чистое и ясное…
– Благослови трапезу, святой отец.
Никон очнулся, нахмурился.
Феодосий, сцепив на груди руки, улыбался смиренно – ждал похвалы. На столе – ендовы с медом, кувшины с квасом, пыльные фляги с романеей, ренским, фазаны, лебедь, обложенный яблоками, грибы, седло козы, рыба.
Патриарх вопросительно приподнял брови.
– От великого государя довольствие, – заулыбался Феодосий и поклонился.
– Вели вернуть. Не принимаю от него. Что наше?
– Стерлядка только да квас вот, – вздохнул эконом.
– Добро, – патриарх засмеялся, точно железом по железу поскребли. – Добро! – Схватил стерлядь, разодрал ее, взвесил на ладонях полутушки. – Рыба… Символ Христов… Вот так и церковь разодрали… – Он сложил вместе куски стерляди. – И не соединишь теперь… – И вдруг с размаху швырнул рыбу в угол. Понюхал руки, брезгливо вытер их о колени.
Феодосий замер с золоченой мисой в руках.
– И кто разъединил, кто разодрал?! Аввакумка со своими бесноватыми юродами! – Никон громыхнул кулаком по столу. Покатился серебряный кубок со взваром, зазвенел. – Иди! – приказал эконому. – С братией потрапезничай. А это, – патриарх сморщился, словно дурной запах учуял, кивнул в сторону стола, – немедля верни, скажи, что мне объедков не надобно. Пусть грекам дадут, для них это в сладость.
Мышью заметался Феодосий от стола к двери. Никон встал, подошел к окну, поковырял ногтем свинцовый переплет. На дворе стояла плотная, непроницаемая ночная тьма, только мерцал слабо желтый отсвет свечи в чьей-то далекой горнице.
«Мрак, мрак! Все есть мрак, – вздохнул Никон. – Накаркал распоп. Как это он кричал? Мор и раздор несу я? И мор был, и война была, и раздор – церкви раздел наступил. Но разве моя в том вина?.. Дурак, попишка, дурак! Испоганили службу, искривили писание, что молитвы, поди, и до бога не доходят, да еще за святую истину кривду свою и лжу выдают. Ах, сатаниновы слуги! – И почувствовал, как снова шевельнулась в груди старая, притупившаяся было ненависть. – Плевелы! – Патриарх разозлился. – Засорили посев господен. Мягок я с ними! Отшатнулись от истины, во тьме блуждают, а я пастырь. Пастырь должон стадо к свету правды вести. Силком, за шиворот, если людишки сами этого понять не хотят. Для их же блага стараюсь… Круче надо было с несогласными, круче! А чтоб неповадно было прочих с пути сбивать, надо было инакомыслящих в яме, как Логгина да Данилу, гноить, жечь надо было, как велел сын божий сжигать плевелы в день жатвы. В огонь их, в огонь!»
Никон торопливо подошел к киоту, открыл Евангелие, ткнул пальцем. Встретился взглядом с суровыми глазами нерукотворного Спаса, подмигнул ему и, ужаснувшись дерзости, опустил глаза. Расхохотался. Палец уперся в притчу о плевелах.
Патриарх схватил книгу и прочитал вслух:
– «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Вот истина! – Он потряс книгой, поцеловал ее. – Жечь надо. Жечь! – Никон повернулся к эконому и, пригнувшись, раскинув руки, пошел на него. – Жечь! Ибо сказано: уже и секира при корне дерев лежит; всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь!
Метались по стенам, ломались по сводам потолка черные угловатые тени патриарха, его рук, а сам Никон, страшный, с остановившимися глазами, надвигался на Феодосия.
Эконом уронил звонко задребезжавшее блюдо, перекрестился. Никон вздрогнул, удивленно посмотрел на монаха.
– Чего ты тут? Ступай!
Повернулся, упал на колени перед образами. Закрыл глаза. И видит…
…Холодные серые волны Кожозера. Камни, сосны, низкие сплошные тучи. Медленно, в затылок друг другу, бредут по берегу монахи. Никон, одинокий, гордый, поджидает их. Знает, в игумны просить идут…
…Шумная, бранчливая, суетная Москва. Царь. Глаза поблескивают слезами умиления. Шепчет: «Истинно так, заступник народный, истинно так!» А Никон, гневный, с жаром говорит об обидах людишек, о жалобах их. Алексей Михайлович слушает внимательно, улыбается светло и открыто…
…Новгород. Никон в митре, мантии – второе лицо после патриарха на Руси. Зубы стиснул так, что скулы ноют. Гудит колокол набатом. Полыхают где-то вдали амбары и лабазы, мечется, ворочается по улице черный вязкий дым… Лезут к митрополиту, заполняют все вокруг рожи, бороды, раззявленные в крике рты. Колья, вилы, дубины, шелепуги…
Никон дернулся, поднял голову. Испуганно осмотрелся. Видение было страшным. Били его тогда, в Новгороде, люто. До сих пор ребра, поломанные чернью, ноют к непогоде.
Он потянулся, крикнул Феодосия. Тот помог встать, раздел бережно и любовно патриарха, уложил в постель. Нагрел возле печки одеяло, укутал Никона, который, не мигая, глядел на негасимый огонек лампады.
Всплывало перед глазами Никона прошлое, но вспоминал он только приятное.
Как ездил, чтобы укрепить власть церкви, за мощами митрополита Филиппа в Соловки, как с горделивой радостью читал у гроба удушенного архиерея слезное, униженное прошение государя к покойному: не сердись, мол, святой старец, прости царю Ивану грех его, вернись в богом хранимую Москву… Как часто перечитывал письмо государя о смерти патриарха Иосифа, прятал улыбку, понимал намеки – его, Никона, готовят на патриарший престол. Вспоминал, как на коленях упрашивали его Алексей Михайлович и собор принять патриаршество, а он отказывался, глядя на склоненные у его ног царскую и боярские головы. «Будут ли меня почитать как архиепископа и отца верховнейшего и дадут ли мне устроить церковь?» Никон помнит, как онемела, вцепившаяся в гроб Филиппа рука, когда ждал ответа. «Будем, будем», – загудело в Успенском соборе, а новый патриарх наслаждался умоляющими глазами Алексея Михайловича, фальшиво-радостными улыбками архиереев… Вспомнил, как остался в Москве, а потом выехал с царской семьей в Вязьму, когда царь уехал к войскам под Смоленск. Был мор. И он, Никон, издавал указы, запер столицу, почти всю вымершую. Его боялись, ненавидели за крутой нрав, но любое повеление, малейшее движение бровей понимались и с готовностью выполнялись. Сладостное время!
Он, патриарх, держал в своей руке смутную, извоевавшуюся, обескровленную, выкошенную моровой язвой Русь и то слал полки на юг, то приказывал заколачивать избы и терема, сжигал зачумленных: сильных и слабых, бояр и смердов.
– Лепота, – слабо вздохнул патриарх и уснул, так и избежав воспоминаний о том, как хотел напугать царя и всю Россию, бросив патриаршество, ожидая, что с мольбами и слезами будут звать назад, и как бесился, зверел, проклиная всех и вся, когда понял, что звать, умолять не будут; как был выгнан, явившись в Москву без приглашения, и, оплеванный, с останавливающимся от стыда сердцем, должен был под конвоем, под хохот и улюлюканье стражи вернуться в Воскресенск, в свой Ново-Иерусалимский монастырь…
Утром, когда за тусклыми пластинами слюдяного окошечка только-только стало светать, Никон, сгорбившись, навалившись грудью на стол, уже завтракал. В келье – душно. Феодосий постарался, топил всю ночь. Но патриарха то кидало в жар, отчего потная испарина покрывала лоб, то окатывало холодной волной озноба – вспоминал вчерашнее судилище. Он вяло теребил стерлядь, лениво, сонно жевал. Руки мелко дрожали, и щеку иногда сводила судорога. Никон торопливо прижимал к этому месту кулак, чтобы Феодосий не заметил.
Тот стоял у двери, по привычке всунув руки в рукава рясы, шевелил беззвучно губами – молитвы читал.
– Велели поспешить, святой отец, – негромко напомнил он.
– Подождут! – рявкнул зло Никон, но трапезничать перестал. Вытер губы. Перекрестился.
Привычно встал перед Феодосием. Эконом надел на него черный клобук с белым, крупного жемчуга крестом.
На улице патриарх чуть не задохнулся от крепкого, пахучего морозного воздуха. После духоты и угара кельи голова закружилась, и Никон торопливо схватился, качнувшись, за резную балясину крыльца.
Двор Кремля затянуло белой дымкой. Смутно серели зубчатые тени стен и приземистых, кроме Спасской, бывшей Фроловской, башен.
Бояре Никита Одоевский и Юрий Долгорукий топтались у крыльца, смеялись, вспоминая вчерашний пир у государя. Пар белыми клубочками вырывался из ртов, долго не таял в воздухе. Бояре увидели Никона, сделали постные лица, припрятали в бороды ухмылки. Никон насупился, благословил. Одоевский и Долгорукий поклонились, но к целованию руки не подошли. Патриарх поджал губы, подождал недолго и пошел к Успенскому собору.
– Э-э! – неуверенно окликнул Одоевский. – Не туда.
Никон замер, оцепенел от такого обращения.
Боярин Никита оттирал замерзшее ухо, прятал глаза. Мялся, не знал, как обратиться.
– Велено… – Он высморкался. – Велено в Чудов монастырь, в церковь Благовещения.
Патриарх повернул к нему голову, и Одоевский попятился – я-то, дескать, при чем? Никон круто развернулся. Шуба упала у него с плеч. Феодосий и Долгорукий бросились к ней, подняли. Догнали патриарха, набросили на него шубу.
Церковь выглядела празднично. В желтоватом веселом мерцании свечей, блеске серебряного паникадила, сиянии окладов и риз образов ярко белели, алели шелка мантий, сверкали цветными искрами каменья митр.
Никон вошел стремительно. Оперся о посох, замер, и черная фигура его, неожиданно появившаяся в этом сверкающем многоцветье церкви, показалась всем нелепой и мрачной. Патриарх, притворяясь равнодушным, лениво осмотрел собравшихся. Прищурился. Бегло оглядел церковь еще раз. Царя не было. Никон выпятил нижнюю губу, задумался. Принял удобную позу, приготовился к расспросам и тут же понял: расспросов не будет.
Александрийский патриарх Паисий огладил бороду, поправил наперсный крест, вытянул перед собой худые коричневые руки, и новгородский Питирим всунул в них узкий лист пергамента.
– «По изволению святого духа и по власти патриархов, – дребезжащим голосом читал по-гречески Паисий, – Никон отныне не патриарх, не имеет права священнодействовать, и отныне он простой инок Никон».
Лицо Никона покрылось красными пятнами. Он опустил голову, спрятал глаза под сошедшимися бровями.
– «Призванный на собор Никон явился не смиренным образом, – монотонно продолжал Паисий, и слышно было, когда он переводил дыхание, как потрескивают свечи, – но осуждал нас, говорил, будто у нас нет древних престолов, и наши патриаршие рассуждения называл блудословием и баснями».
Никон кашлянул. Все вздрогнули, испуганно, встревоженно взглянули на него. Он улыбнулся, отмахнулся слабо ладонью: «Продолжайте!»
Паисий дочитал. Рязанский митрополит Илларион поднял лист к самым глазам и торопливо, путая слова, прочитал то же самое по-русски. Никон слушал внимательно, даже ухом к старцу повернулся. Крепился, кусал в кровь губы, но чувствовал – подкатывает под сердце, раздирает грудь страшное, неуправляемое желание взвыть, заорать, крушить все, ломать, визжать, топать, смешать с кровью и грязью это сборище. Красные, желтые круги плыли перед глазами Никона. Он видел, как в этих кругах ныряет лицо Иллариона, как шевелятся его губы, встопорщивая редкие белые усы, и казалось ему, что рязанский митрополит кривляется, подмигивает, ухмыляется, строит рожи. Никон не выдержал, гаркнул так, что колыхнулось пламя свечей.
– Если я достоин осуждения, то зачем вы, как вора, привели меня тайно в эту церковку?! Зачем здесь нет царского величества? Я принял патриарший жезл в Соборной церкви. – Он на вытянутых руках выкинул далеко перед собой посох. Голос гремел: – Принял патриаршество перед народом российским по его, царя и собора просьбе. Пусть они и судят! Туда, к люду московскому, в церковь Успения ведите…
– Там ли, здесь ли – все равно, – перебил Лигарид.
Никон оскалился, всем телом повернулся к нему.
– Дело совершается именем народа, советом царя и всех благочинных архиереев, – скучным голосом закончил Лигарид.
Александрийский Паисий и антиохийский Макарий медленно, будто плывя, подошли к Никону.
– Сними знаки святительские, – буднично пояснил Лигарид.
Никон крутил головой, заглядывал в лица вселенских патриархов. Лица были равнодушные.
– Нате, возьмите. – Он сдернул с головы клобук, начал отколупывать ногтем жемчужины. Не получилось. Вцепился зубами, дернул. Волосы разметались, рассыпались по плечам. Никон поднял голову, встретился взглядом с Лигаридом, швырнул клобук ему в лицо: – Возьми, разделишь с этими! – кивнул на патриархов. Потянул через голову панагию. Цепь запуталась в волосах, в бороде. Никон торопливо дернул ее, взвыл от боли, вырвав клок бороды. – Хватайте, делите. Достанется каждому золотников по пяти, по шести. Сгодится вам на пропитание.
Он ткнул панагию почти в лицо Макарию. Тот отшатнулся, забормотал что-то неразборчиво и зло, но иконку принял.
Александрийский Паисий снял с головы какого-то убогого греческого монашка грубую скуфейку, потянулся к Никону, чтоб надеть, но тот вырвал ее, надвинул вкривь себе на голову. Раздерганная борода торчала клочьями, из-под скуфейки выбились седые волосы, и вид у бывшего патриарха был дикий, звероватый.
– Вы, бродяги бездомные, побирушки, за милостыню не токмо правду, веру продать готовы. Хватайте, все хватайте, прячьте по кошелям…
– А определено тебе жить в Ферапонтовой монастыре, что рядом с Кирилло-Белозерским стоит, – скучающе объявил Лигарид, выждав, когда Никон задохнулся от ярости и умолк.
Никон швырнул посох, наступил на него. Хрустнули, растираясь в соль, самоцветы. Все ахнули, остолбенели от такого великого святотатства. Уставились на ногу Никона, на посох – шелохнуться боятся.
Никон вырвал у втянувшего голову в плечи, посеревшего от страха монашка палку, взмахнул ею и вдруг замер. Вспыхнуло в памяти давнее: «Проклянешь и себя, и иноземную ложь, когда по твою душу судить придут. Помянешь меня!» И с высоко поднятой палкой, не ударив, вышел он из церкви. Его поразило только сейчас понятое: надо же, он и Аввакумка – лютые враги, непримиримые, по-разному добро понимающие, а судил их один собор, один собор и расстриг: протопопишку в мае, а его, патриарха, нынче. Сравняли, стало быть, рядом поставили? Кто прав, где истина? Неужто нет ее, неужто оба ложной дорогой шли? Неужто все это суета и никому прочим до правды духовной дела нет? Неужто прочим все едино, что Никонова вера, что Аввакумова?
Лошадь, запряженная в сани, уже ждала опального патриарха. Крупно вздрагивала покрытой инеем кожей, крутила мордой, сторожко шевелила ушами. Бесились, гоготали стрельцы. Налетали по-петушиному друг на друга, согреваясь, сшибались на грудки, терли щеки, хлопали рукавицами по бедрам.
Бывший патриарх подошел не спеша к саням, рухнул на бок. Феодосий скромненько пристроился рядом.
– Псы, объедки жрущие, трутни! – выкрикнул Никон и погрозил кулаком в сторону дверей храма.
– Никоне, Никоне, буде злобствовать, – посмеиваясь, попросил крутицкий митрополит Павел. – Чего уж теперь-то горло драть.
Он и архимандрит Сергий, поеживаясь от холода, подошли к саням.
– На земский двор, – приказал Сергий.
Стрелец чмокнул на лошадь, покрутил вожжами.
– Э-эх! – Он повернул к благочинным огорченное лицо, и Никон узнал в нем рыжебородого Арсения. – А я думал, сразу – в яму, к свойственнику его Аввакуму. Думал, на чепь, в колодки.
– Успеется, – засмеялся Павел. – Будет ему и чепь, и колодки.
– Тогда ладно, – Арсений повеселел, заорал дурным голосом: – Ну, нехристь, трогай!
Лошадь дернулась, сорвала примерзшие сани, окуталась паром. Расступилась реденькая толпа, и Никон, косясь на равнодушные лица зевак, крикнул:
– Вы хотите меня, как Филиппа, удушить?! Проклинаю вас, греческие лизоблюды, холуи. Отлучаю вас от святой матери-церкви!
В толпе похохатывали, но, услыхав проклятие, перепугались, попятились.
– Никон, перестань лаяться! – потребовал Сергий. – Худо будет!
Феодосий скатился с саней, подбежал к Сергию, подбоченился. Крикнул визгливо, злым и дрожащим голосом:
– Патриарх велел сказать: если ты власть – приди и зажми ему рот!
Никон через плечо глянул на растерянное лицо архимандрита, расхохотался. Сергий вцепился в плечо Феодосия, тряхнул эконома:
– Как ты смеешь?! Как смеешь простого монаха патриархом величать?
Феодосий сорвал с плеча руку архимандрита, отскочил на шаг, раскрыл рот, чтобы облаять Сергия, но из толпы вывернулся щуплый мужичонка в рваном армяке, пьяненький и шутоватый.
– Патриаршество дано Никону свыше, – выкрикнул он пронзительно, – а не от тебя, гордого! – И победно посмотрел на народ.
В толпе одобрительно загудели, пододвинулись ближе. Но стрельцы уже подхватили мужика под руки и поволокли прочь. Мужичок расслабленно висел на руках стрельцов, волочил, не подгибая, ноги, глядел перед собой сосредоточенно и покорно. Стрельцы небольно, острастки ради, шпыняли его в шею, под ребра, посмеивались.
Никон с серьезным видом благословил мужичка. Вскинул ввысь руку.
– Блаженны изгнанные правды ради, – строго сказал он и опять покосился на зевак.
– Правда? Какая там правда, – Арсений засмеялся и покрутил головой. – Гордыня все твоя да глупство людское… Пра-авда, – хмыкнул он и зло сплюнул в снег. – Ишь чего удумал! Пра-а-авда…
Суета сует
Светлейший Римского и Российских государств князь и герцог Ижорский, генералиссимус, рейхсмаршал и над всеми войсками командующий, генерал-фельдмаршал, действительный тайный советник, генерал-губернатор Санкт-Петербургский, флота Всероссийского адмирал, подполковник Преображенский и полковник над тремя полками лейб-гвардии, орденов Святого апостола Андрея, Датского Слона, Польского Белого и Прусского Черного Орлов и святого Александра Невского кавалер Александр Данилыч Меншиков, сверкающий бриллиантами, золотом шитья, благоухающий и нарядный, насмешливо осмотрел членов Верховного Тайного Совета немигающими голубыми, чуть навыкате, глазами.
Канцлер Головкин, выпрямившись на стуле, подчеркнуто равнодушно глядел сквозь высокое окно туда, где холодный сентябрьский ветер с Балтики гнал по низкому небу сырые рваные тучи. Генерал-адмирал Апраксин, тучный и неопрятный, в сбившемся набок парике, сцепив на животе короткие пальцы, дремотно прикрыл глаза и лишь изредка сонно посматривал на Александра Данилыча. Князь Дмитрий Михайлович Голицын, сухой, желчный, размашисто чертил на бумаге вензеля, глаз не поднимал, чтобы не встретиться взглядом со светлейшим. Вице-канцлера барона Остермана, Елисаветы и государя не было. Но это не печаль, большая политика не для них, не они решают судьбы государства Российского.
Верховники сидели притихшие. Меншиков тоже редко бывал на заседаниях, и если уж пришел, то не к добру.
Светлейший князь усмехнулся.
– Господа! – властно и резко начал он. – Мы, члены Верховного Совета, призванные для соблюдения интересов государства и народа нашего, должны денно и нощно помнить об этом и токмо на благо отчизны должны направлять деяния наши…
«Сейчас про заветы Великого Петра краснобайствовать примется», – вздохнул про себя Головкин и покосился на Голицына. Тот понимающе поджал губы.
– Когда родина наша, – торжественно зазвеневшим голосом продолжал Меншиков, – гением Великого Преобразователя из невежества и дикости в число первейших европейских держав выведена была, мы, соратники Отца Отечества, дело его продолжили, к славе государство свое вели, ведем и вести будем. Для того токмо и живем, для того токмо взвалили на плечи свои непомерную тяжесть власти и ответственности перед народом нашим…
Он перевел дыхание, осмотрел присутствующих пристальным подозрительным взглядом. Члены Верховного Совета, придав лицам глубокомысленное выражение, согласно закивали головами. Апраксин пожевал губами, глянул пытливо на Александра Данилыча и закрыл глаза.
– Но зело трудное дело – создание государства, европейским державам подобного, – снова заговорил Меншиков. – Все иноземные страны хотели бы нас назад, к допетровской Московии, поворотить и к делам большой европейской политики не допускать. В великие войны в расходы ввели они державу нашу, и еще большие расходы понесть придется, дабы мощь свою увеличить, сильные армию и флот создав и тем самым завоеванное величие России сохранив. А посему! – Он повелительно хлопнул ладонью по столу. Верховники замерли. – Предлагаю издать указ о том, что подушная подать со всего подлого населения увеличивается на копейку.
Советники облегченно выдохнули, расслабили выжидательно напрягшиеся лица.
– Я знаю свой народ, – решительной скороговоркой закончил Меншиков и, сверкнув перстнями, побарабанил пальцами по столу. – Ради блага отечества он не токмо на копейку, но и на алтын увеличение подати с ликованием и радостью встретит. Написать сей указ и принесть мне, дабы я за государя руку приложил, – приказал Александр Данилыч через плечо кабинет-секретарю Василию Степанову.
Тот поклонился и подал двумя пальцами бумагу, шепнув что-то на ухо светлейшему князю. Меншиков поморщился, прочитал подсунутое Степановым, нахмурился. Изучающе глянул искоса на Голицына.
– Прошение фельдмаршала князя Голицына, – пояснил в задумчивости Совету, – о пожаловании украинных деревень за долгую и бескорыстную службу. – Поразмышлял, выпятив нижнюю губу и прищурясь. Решил: – Предлагаю отказать, потому как казна пуста и государевы земли сейчас дарить не след. О державе да о народе думать надо, а не о корысти своей, – напомнил внушительно и повернул к Голицыну строгое лицо. – Так и отпиши брату, князь. Да отметь еще в эпистоле своей, что ежели он и впредь к смуте против нас расположен будет, так и остатних своих деревенек лишиться может… Пусть подумает, и мы подумаем, может, что и отыщем.
Голицын побелел, глаза его зло сузились.
– Отпишу, – сухо сказал он.
– Вот и дело. – Меншиков рассматривал другую бумагу и вдруг резко повернулся к Головкину. – О зяте твоем, канцлер, мы уже переговорили. Генерал-прокурор Ягужинский поедет на Украину, так отечеству надобно. Я, граф, своего слова не изменю, и более ко мне с такой просьбой не ходи.
Головкин не ответил, не шелохнулся, только еще больше выпрямился, и лицо его с покрасневшими скулами окаменело.
– Теперь последнее. – Меншиков повернул голову к Степанову. – Пиши. Предлагаю ускорить выплату герцогу Голштинскому остатних денег из того миллиона рублев, кои герцогу за отказ от Российского престола назначены были. Принцессе же Елисавете с выплатой миллиона повременить, выдав малую толику, потому как она с нами живет и деньги ей без надобности.
Александр Данилыч встал. Верховники торопливо поднялись с мест, склонили в поклоне головы. Светлейший, прямой, холодный, пошел к выходу, но вдруг остановился, словно только что вспомнил.
– Да, попрошу побыстрее вернуть мне из казны последние двадцать тысяч из тех восьмидесяти, что как приданое дочери нашей Марии перед помолвкой с графом Сапегой внесены были, – повернувшись вполоборота, приказал он. И вышел из зала.
Едва бесшумно закрылись за ним белые с золотом двери, как верховники зашевелились, расправили плечи.
– Каков, а? – ища поддержки, повернулся к Головкину Голицын и недобро улыбнулся. – Отказал! Казна пуста! А сам хватанул за копейки лифляндские владения Принцен-Стернихи и вдовы генерала Ренна, да еще заставил нас указом утвердить, что полная стоимость выплачена. И положил деньги в карман.
Головкин слегка скривился, но промолчал.
– А Карлу Голштинскому зря ли хлопочет? Он за это получил уже от Карлова министра Басевича шестьдесят тысяч и еще двадцать намерение имеет получить…
– Знаю, князь. Всем то известно, – брюзгливо оборвал Головкин.
– Вознесся, вознесся светлейший, – усаживаясь поудобней, прокряхтел Апраксин. – Неумерен в гордыне и аппетите.
Голицын круто повернулся к нему.
– Истинно так, граф. Двадцать тысяч приданого просит вернуть. Мало ему тех трехсот сорока тысяч, что казна на содержание его дочери отпускает, так нет, ни копейки не упустит. Ну, погоди, – скрипнул он зубами, – потешимся мы над тобой. Ужо поползаешь ты, мужик, у ног наших, к памяти государя Великого взывая.
– Однако строго вы, князь, – насмешливо посмотрел на него Апраксин. – Ведь вы со светлейшим в вечной дружбе клялись. Вы да австрияк Рабутин всей империей, как своей вотчиной, правили.
– Да и вы, граф, – огрызнулся Голицын, – его первым другом считались. Вы с Ягужинским да опальным графом Толстым. Сожрал он лучшего друга Толстого, не поморщился. И нас сожрет.
Апраксин нахмурился и тяжело засопел.
А Меншиков, укутавшись в бобровую шубу, – что-то опять стало знобить, и горло разболелось, не пошла бы кровь – забился в угол кареты. Шесть белых, злых, с выгнутыми шеями коней помчали под свирепые окрики форейтора громыхающий экипаж по улицам столицы, и бросались в стороны, прижимались к стенам перепуганные прохожие: «Сам едет! Губернатор! Генералиссимус!»
«Обидел я Голицына, – лениво думал Меншиков. – Ну, не беда. Пусть братец его шею преклонит, а то предерзостно держать себя стал. Князь Дмитрий мой со всеми потрохами, мной только в Верховном Совете и держится. И братец его поворчит и смирится».
Он зевнул.
«Шипят, бесятся родовитые гусаки. Пущай себе, не страшно. Перебесятся. Ягужинский на Украине, Толстому не подняться, Петр Шафиров в Архангельске, Ганибалка в Сибири, слезные письма шлет».
Александр Данилыч улыбнулся.
«Мерзнет, поди, арап… Ничего, потерпит. Надо, чтоб даже малые людишки мою силу чуяли, а то великую амбицию иметь захотели».
Меншиков прикрыл глаза, попытался вздремнуть, но почувствовал, что не удастся. Перед глазами стояли злые, окаменевшие лица верховников, и это не нравилось Александру Данилычу. Многое не нравилось ему в последнее время. И то, как держится его зять – длинноносый прыщавый мальчишка – государь Петр Второй: дерзит, на поклоны не отвечает и даже ногой топает, волю свою проявлять пытается. Не нравится, что сблизился малолетний император с Долгорукими, лишенными после дела Девьера чинов и деревень, но вновь обласканными этим венценосным несмышленышем.
«Слава богу, что Остерман рядом с государем. Удержит. И слава богу, что Катерина так премудро завещание составила. Жаль, умерла рано, дело до конца довести не дала».
Он тяжело вздохнул, вспомнив последний разговор с ней.
…Императрица лежала одна в затененной, обтянутой игривыми французскими гобеленами спальне, пропитавшейся стойким запахом духов, пота, целительных трав и чужеземных снадобий, бальзамов, микстур. Осунувшееся лицо женщины, с резкими морщинами около рта, казалось безжизненным желтым пятном. Только глаза, черные, большие, нездорово блестевшие от болезни и возбуждения, говорили о том, что государыня жива. Меншиков, стесняясь своего огромного роста и здоровья, замер, ссутулясь, у постели Екатерины. Он с жалостью смотрел на это маленькое, с багровыми пятнами румянца лицо, запутавшееся в черных, разметавшихся по подушке волосах, и горькая, иссушающая душу обида наполняла его.
«Вот и еще один самый дорогой и нужный человек уходит, – думал он тогда. – И остаюсь я один среди старой боярской псарни, которая спит и видит, как бы безродного Алексашку снова столкнуть в грязь, в навоз. Не на кого теперь будет опереться, ничьим именем нельзя будет отныне заслониться, и придется одному пробиваться через злобу, ненависть и зависть людскую».
Меншиков вздохнул. Екатерина, измученным влюбленным взглядом изучавшая его лицо, тоже вздохнула.
– Светлейший, – свистящим шепотом окликнула она, – слышишь? Последний раз, чай, видимся. Умираю я.
– Полно, матушка, – с деланной бодростью пробасил Меншиков. – Ты еще нас переживешь.
Императрица слабо, благодарно улыбнулась и сразу же посерьезнела.
– Будет, Александр Данилыч. Не место и не время лукавить. Не о том я. Смерти не страшусь, хоть и жалко уходить. – Она с тоской смотрела на князя. Большая слеза выползла из налитого болью глаза, оставляя мокрый след на иссохшей коже щеки. – Отмучилась я, и нету во мне более страха… Я ведь всего боялась. Сперва Шереметьева, потом тебя, потом государя, потом титула своего. Все казалось мне, что кончится мой царственный сон и окажусь я снова у пастора Глюка или с гренадером под повозкой. Ты сильный, – улыбнулась вяло и как-то жалко, – ни бога, ни государя покойного не боялся, а меня так вовсе за дуру считал.






