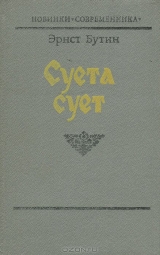
Текст книги "Суета сует"
Автор книги: Эрнст Бутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Этюд Скрябина
Вера Ивановна просыпалась тяжело, словно выкарабкивалась из огромной гулкой черной ямы, заполненной чем-то липким и сладким.
– Сейчас, сейчас, встаю, – сонно бормотала она.
– Ну, ма-а, просыпайся, – обиженно тянула Настенька, и маленькие ее пальцы торопливо гладили теплое лицо матери.
Вера Ивановна приоткрыла глаз, затуманенно посмотрела на разрумянившееся лицо дочки, на ее тугие щеки, измазанные ягодным соком.
– Опять небось немытые ела? – притворно рассердилась она.
– Мыла, мыла, – замотала головой Настенька и, пританцовывая от нетерпенья, снова заныла: – Ну вставай же, маленькая стрелка уже на четыре стоит. – Она выпятила нижнюю губу, сунула к лицу матери будильник. – Видишь!
– Вижу, вижу, – Вера Ивановна отвела рукой будильник. – Папка не пришел еще?
– Сейчас придет, – Настенька прижала к груди будильник и, надувшись, посмотрела на мать. – Он придет, а ты спишь.
– О, господи, – вздохнула Вера Ивановна и села на постели. – Видишь, встаю. Успокоилась?
Она, покачиваясь, посидела немного с закрытыми глазами, потом сильно потерла лицо ладонями и улыбнулась. Вставать не хотелось. Вера Ивановна прихворнула немного, но сегодня зашла в цех, хотя больничный еще не закрыли. Конечно же ее сверлильный оказался запущенным, никому не нужным и самым грязным. Она как увидела жирные, блестящие потеки, станину, покрытую пылью, точно мхом, так и ахнула. Сгоряча накричала на Зойку Лапину, подменщицу: «На весь завод осрамила, грязнуля! Сидеть тебе век в старых девах – ни один дурак такую неряху замуж не возьмет!» – но потом поостыла и полсмены, не разгибаясь, шоркала свой станок-кормилец, оттирала его до зеленого веселого блеска.
Вера Ивановна встала с постели, забросила за голову руки, потянулась. Прошла в ванную, умылась. Настенька тенью ходила за матерью, ждущими глазами ловила, искала ее взгляд.
– Не бойся, не опоздаем, – Вера Ивановна взъерошила льняные кудряшки дочери. – Иди, ешь.
Есть в такую жару не хотелось, но сегодня Настенька не стала отнекиваться и хныкать. Покорно села к столу, зажала в кулаке ложку.
Она старательно хлебала окрошку, не сводя серьезных и настороженных глаз с матери. Та, запахнув халат, присела напротив, подперла щеку кулаком, засмотрелась на дочь долгим удивленным взглядом… За окном пропел сигнал машины.
Настенька кинула ложку, сорвалась со стула, мелькнула в двери белым платьем, простучала по полу крепкими розовыми пятками.
– Приехал! – донесся с балкона ее истошный счастливый вопль. – Папка приехал! Он с дядей Федей приехал на «Жигулях»!
Вера Ивановна поморщилась.
– Тише ты! – через комнату крикнула она. – Все уши заложило.
Прошла к шкафу, открыла его.
– Идем, папка, идем! – пронзительно кричала Настенька. – Мамка уже платье выбирает, щас одеваться будет!
– Ты что?! – испугалась Вера Ивановна. Обхватила руками полные белые плечи, оглянулась, точно ее могли увидеть посторонние. – Кричи на весь белый свет, что мамка неодетая!
Настенька, навалившись на перила балкона, болтала ногами, посматривала через плечо на мать ликующими глазами.
– Вот не возьмем тебя, – пригрозила Вера Ивановна.
Дочь метнулась к ней. Повисла на шее, засмеялась, принялась целовать в подбородок, глаза, нос.
– Ну пусти, пусти, – крутила головой Вера Ивановна и тоже засмеялась. – Пусти, слышь, а то опоздаем.
Настенька побежала в коридор обуваться. Вера Ивановна оделась, повернулась перед зеркалом одним боком, другим. И, удовлетворенная собой, вышла вслед за Настенькой.
Около двадцать первой квартиры пригладила волосы, приготовила просительное лицо и нажала на кнопку звонка. Дверь открыла худощавая женщина с черными, тронутыми сединой волосами, серьезным лицом и строгими глазами. Рядом с Верой Ивановной, крупной, крепко сбитой, казалась она маленькой, тоненькой – почти девочкой.
– Елена Николаевна, – смущенно улыбнулась Вера Ивановна, – здравствуйте. Вы не передумали?
Она работала на одном заводе с Еленой Николаевной, только та – в конторе, в конструкторском бюро, поэтому Вера Ивановна немного робела перед соседкой, хотя и жалела ее, как увидит, – в прошлом году Елену Николаевну бросил муж – второй, первый-то помер, давно уже…
– А, это вы. Здравствуйте, – взгляд Елены Николаевны потеплел, лицо смягчилось. – Конечно, не передумала, что вы!
Она захлопнула дверь, погладила длинной ладонью Настеньку по голове. Та, притихшая, схватила ее за руку, подняла на соседку влюбленные глаза.
На улице изнывал от жары муж Веры Ивановны Леонид – белобрысый крепыш с синими, как у дочери, глазами. Федя, сосед из семнадцатой квартиры, друг Леонида – в одном автопарке работают – озабоченно протирал идеально чистое стекло «Жигулей».
Леонид, увидев Настеньку, заулыбался, отчего маленькие глазки его превратились в щелочки, подхватил дочь широкими, покрытыми рыжеватым пухом, руками и подбросил ее так высоко, что Настенька взвизгнула.
– Не балуй! – Вера Ивановна строго посмотрела на него. – Напугаешь.
– Ладно, мать, не ворчи, – Леонид, подкидывая дочь, подошел к «Жигулям», открыл дверцу. – Садитесь.
Женщины втиснулись в душную, прокаленную солнцем машину и застыли – строгие, чопорные. Леонид поудобней устроился, поерзав, на переднем сиденье, повернул к Настеньке веселое, мокрое от пота лицо. Подмигнул. Федя, сутулясь, обошел машину, попинал колеса. Сел за руль с хмурым видом.
– Заднее левое что-то барахлит, – удрученно покачал он головой. Включил зажигание, прислушался, вытянув шею.
– В голове у тебя барахлит, – фыркнул Леонид. – Собственник.
Федя около года назад, после долгих уговоров, упросил мать Ульяну Трофимовну переехать к нему, а деревенский дом ее и сад продал, чтобы купить машину. Недавно купил и теперь мог говорить только о своих «Жигулях».
– Собственник? – Федя ядовито усмехнулся. – Припомню я тебе эти слова, когда возьмешь наконец «Яву». Посмотрим, какой ты не собственник будешь…
– Плакала моя «Ява». Верно, Настенька? – Леонид через плечо посмотрел на дочь смеющимися глазами и громко вздохнул. Настенька проглотила слюну и молча кивнула.
– И что обидно, – повернувшись к Феде, подчеркнуто скорбно сказал Леонид, – два года копил. Лишней кружки пива не выпил.
– И еще два года не выпьешь, – отрезала Вера Ивановна и поджала губы. – Невелика печаль.
– Я что, – Леонид сильно поскреб макушку, на которой сквозь короткие светлые волосы просвечивала розовая кожа, – я потерплю. Только вот, как назло, в магазин ИЖи завезли. Не мотоцикл – картинка! Может, завернем, посмотрим?
– Я тебе посмотрю, – Вера Ивановна шлепнула мужа по круглому затылку. – Не умрешь!
Леонид в притворном испуге вжал голову в плечи, поднял руки.
У Елены Николаевны от с трудом сдерживаемого смеха мелко-мелко задрожал подбородок, и она отвернулась к окну. Настенька круглыми глазами смотрела то на отца, то на мать.
– Слышь, Федя? Не умрешь, говорит, – очень жалобным голосом протянул Леонид. – Конечно, дети – наше будущее. Цветы жизни, так сказать. Но променять мотоцикл на какой-то гроб с музыкой…
– Лучше замолчи, – громко и внятно потребовала Вера Ивановна. – Дождешься!
– Молчу, – согласился Леонид. – Что еще остается главе семьи.
– Ох уж эти женщины! – не то с осуждением, не то с восхищением вдруг громко сказал Федя.
Когда машина остановилась около салона – нового, из бетона и стекла, здания, Федя вылез из кабины, присел около заднего левого колеса. Елена Николаевна тряхнула головой, поправляя волосы, и первая пошла в магазин. За ней – Вера Ивановна, уверенная в себе, с гордо откинутой головой. Настенька так сильно вцепилась в руку матери, что ногти девочки чуть не до крови вонзились в кожу, но та этого не заметила. Леонид потоптался около Феди, спросил, посмеиваясь: «Пойти, что ли, посмотреть?» – и не спеша, вразвалку побрел вслед за женщинами. Федя хмыкнул ему в спину.
В огромном и гулком зале магазина-салона людей почти не было. Только у черного кабинетного рояля шептались две чистенькие, опрятные старушки. Одна из них изредка нажимала клавиши, сияющие холодной глянцевой белизной, и тогда раздельные звуки – чистые и ясные – заполняли магазин. Около старушек, облокотившись о рояль, чистил ногти молодой, совсем еще мальчик, бородатый продавец в синем сатиновом халате. Скучными глазами он посматривал то на старушек, то в стекло витрины.
– Молодой человек, – Елена Николаевна строго посмотрела на него. – Мы хотели бы выбрать инструмент.
– Пианино, – уточнила Вера Ивановна и гордо поглядела на продавца.
– Выбирайте, – тот вяло повел рукой в сторону зала.
– Но вы могли бы посоветовать? – Елена Николаевна нахмурилась.
– Все хорошие, все первый сорт, – бородатый юноша подул на ногти, потер их о рукав.
– Хорошо, – Елена Николаевна резко повернулась, пошла по магазину.
Около ближней «Эстонии» остановилась, откинула крышку, пробежала пальцами по клавиатуре. Прислушалась. Еще раз ударила по крайней белой клавише, отчего пианино высоко и жалобно вскрикнуло.
– Тембр глухой, – не оглядываясь, бросила она Вере Ивановне.
– Чего? – не понял Леонид. Он подошел неслышно и улыбался с видом, что все это, мол, ерунда, несерьезное дело, но глаза тревожно перебегали с лица Елены Николаевны на клавиши.
– Глухое чего-то. Звук, – прошипела Вера Ивановна.
– Ага, ясно, – понимающе кивнул Леонид и зашептал в ухо жене: – Ты ей скажи, чтоб плохое не брала, а то оставим Настеньке старое.
– Вот, видел? – Вера Ивановна сунула под нос мужу кулак. – Я тебе оставлю!
А все началось именно с того игрушечного красного пианино, которое Леонид имел в виду. Однажды он подарил его дочери, и Настенька, к удивлению всех, скоро уже отстукивала и песенку крокодила Гены из мультфильма, и «Пусть всегда будет солнце». Как-то ее увидела около песочницы Елена Николаевна, услышала игру девочки. Присела около Настеньки и долго смотрела, как та старательно тычет пальцем в клавиши.
– Нравится?
Настенька надула щеки, кивнула.
– Только мало их, – пояснила обиженно, указав на клавиши. – Не хватает.
– Верно, деточка, – обрадовалась Елена Николаевна. – Здесь всего одна октава, и та неполная.
Она увела девочку с собой, и с тех пор Настенька после детского сада все свободное время пропадала у нее или соседки Полины Ефимовны, дочка которой Оля училась играть на пианино. Но к Оле Настенька ходила, только когда Полины Ефимовны не было дома – редко ходила…
Однажды в воскресенье Елена Николаевна пришла к Вере Ивановне и заявила, что Настеньке надо учиться музыке. Вера Ивановна сначала испугалась, потом растерялась и на все уговоры отмахивалась, смеялась, прикрывая рот передником.
– Поймите, – Елена Николаевна прижала руки к груди, – у девочки абсолютный музыкальный слух и идеальное чувство ритма. Ей надо серьезно заниматься, поверьте мне. Ненавижу, когда родители делают из детей вундеркиндов, но в данном случае: не учить Настеньку – преступление.
– Это она в меня такая талантливая, – заявил Леонид, который, услышав, о чем речь, пришел на кухню. – В детстве я на гармошке играл. Страдания. – Он цапнул из-под рук жены огурец, с хрустом разгрыз его, почесал грудь. – Очень душевно играл.
– Я не шучу, – Елена Николаевна сверкнула глазами в его сторону. – Если вы лишите девочку музыки, она будет несчастна… По себе знаю.
Вера Ивановна еще поотнекивалась – какая, мол, из Настенька музыкантша! – но мысль о том, что дочке надо учиться играть на пианино, очень понравилась ей. Она посоветовалась на работе с женщинами. Те отнеслись по-разному: одни равнодушно пожимали плечами – твое, дескать, дело, другие считали затею блажью. Только бездетная Валя Сорокина принялась жарко убеждать, взмахивая рукой: «Покупай, Верка, покупай. Настя твоя – золото, пусть учится. Глядишь, в жизни, окромя работы, увидит хоть что-то. Как люди заживет, в театры ходить будет, на концерты разные, сама артисткой, может, станет… Не забудь тогда на ее выступление пригласить». Вера Ивановна тихо смеялась, и глаза ее туманились. Представить Настеньку на сцене она не могла: в концертах, где играют на пианино, не бывала, а если по телевизору показывали – переключала программу: барабанят невесть что! Но она ясно представляла, как Настенька сидит за пианино в большой комнате, сидит в коричневом платье, в белом переднике, и играет что-то трогательное, ласковое, теплое, а она, Вера Ивановна, топчется на кухне, выглядывает иногда осторожно в дверь – любуется. «Куплю!» – решила твердо. Леонида долго уговаривать не пришлось, ведь для Настеньки надо – значит, о чем разговор? «Жили без мотоцикла и еще проживем!» – заявил он после недолгого раздумья.
…Елена Николаевна проверила еще несколько инструментов. Наконец остановилась около одного пианино, пробежала гаммы. Улыбнулась. Пододвинула табурет, села. Задумалась, откинув голову. И вдруг резко бросила пальцы на клавиши. Тревожная мелодия – нервная, полная боли и отчаяния, неуверенности и скрытой, подспудной, пробивающейся силы, металась, ей было тесно в этом огромном и чистом зале с неживыми инструментами, ей хотелось вырваться, но она не могла, отскакивала от полированных крышек, холодных стекол витрины.
Старушки разом повернули головы.
– Этюд Скрябина, – прошептала одна.
Вторая серьезно посмотрела на Елену Николаевну. Кивнула, соглашаясь.
Юный бородатый продавец, обрабатывающий ногти уже на второй руке, медленно повернулся к Елене Николаевне, приоткрыл рот.
Когда Елена Николаевна оборвала игру и бережно опустила ладони на колени, продавец тихо подошел к ней.
– Вы извините, – юноша покраснел. – Я не знал, что вы… Извините меня. Попробуйте вот это, – он показал мизинцем в сторону стоящего в углу пианино орехового дерева. – Пусть вас не смущает, что это «Элегия». Вы попробуйте. Вам понравится, поверьте.
Елена Николаевна отрешенно смотрела сквозь него, но постепенно взгляд ее оттаял, она слабо улыбнулась.
– Спасибо.
Подошла к «Элегии», села. Осторожно прикоснулась длинными сухими пальцами к клавишам.
– «Лунная…» – вздохнула одна старушка.
– Да, да, – грустно улыбнулась другая.
Вера Ивановна покосилась на них, потом на мужа. Леонид, еще больше покрасневший, достал папиросу, крутил ее в пальцах, смущенно поглядывая на жену.
Настенька серьезно смотрела на Елену Николаевну большими глазами и вдруг заплакала.
– Что ты, что ты? – переполошилась Вера Ивановна. Схватила дочь, подняла на руки, прижала к себе, торопливо вытерла ладонью ее мокрые щеки. Виновато поглядела на Елену Николаевну. – Такая большая и мокроту развела. Не стыдно?
Елена Николаевна устало улыбнулась Настеньке. Встала.
– Вот этот инструмент надо брать, Леонид Васильевич, – сказала будничным голосом. Опустила голову, сцепила пальцы, хрустнула ими.
– Понятно, я мигом, – Леонид засуетился. Достал деньги, зажал их в кулаке, полубегом просеменил к продавцу.
Вера Ивановна, покачивая Настеньку, склонилась над пианино.
– Ну вот, видишь, и купили. И не надо будет больше к Полине Ефимовне ходить, кланяться… Нравится? Видишь, какое красивое, большое. И клавишев вон сколько. Черные, белые. Нравится?
Настенька прижалась щекой к матери. Мокрыми от слез глазами строго смотрела на пианино.
– Ну вот, золотая моя, – Вера Ивановна ловила губами мочку уха дочери, – придет время, и ты у нас будешь играть музыку Скрябина и этот… как его, «Лунный вальс». Будешь ведь?
Настенька сунула палец в рот и серьезно кивнула.
Нежданно-негаданно
Егор проснулся сразу, словно кто в бок его толкнул. Что-то разбудило, но что именно – он спросонья не понял. Повернул голову, прислушался. Все спокойно: вздыхала во сне жена, похрапывал шурин, которого Егор уважительно величал по отчеству Митрий Митрич – шибко уж важным был городской брат Марьи.
Вчера, по случаю приезда Митрия Митрича, который прикатил на субботу-воскресенье поохотиться, Егор малость перепил и теперь чувствовал себя неважно: гудела, разламывалась голова, повис под ложечкой кисло-сладкий липкий комок.
«Эт, язви тя, охотник – ни ружья, ни припасу, ни лыж, – беззлобно подумал Егор, прислушиваясь к трелям шурина. – Не мог уж, зараза, беленькой, что ли, купить? Набрал какой-то отравы, вермутища поганого. Все ловчит, чтоб подешевле да посердитей, а ты хворай теперь…» Он тяжело сполз с койки, сунул ноги в остывшие за ночь валенки. Подошел, пошатываясь, к двери, набросил на плечи полушубок и вышел из избы. «Освежиться надо – авось полегчает».
На улице свирепствовал мороз. Луна, окруженная радужным кольцом, повисла в беззвездном небе, точно белый пятак, и в ее неживом свете все вокруг было ясным и четким, словно отмытым и очищенным.
Егор остановился на крыльце, качнулся от ударившего в голову студеного воздуха, пахнущего хвоей и снегом, жадно глотнул эту бодрящую благодать, поежился, когда первая волна озноба пробежала по телу, покрывая кожу шершавыми пупырьками. Огляделся.
Изба Егора стояла у самой опушки леса, с трех сторон окруженная такими же теплыми когда-то и обжитыми домами, которые все вместе носили немного легкомысленное, но веселое название Пятнышко. Но как стали укрупнять колхоз, соседи разъехались кто куда – кто на центральную усадьбу, а кто и вовсе в город – и остался в бывшей деревеньке один Егор, который, чтоб не приставало колхозное начальство, оформился лесником и, довольнешенький, докуковывал с суровой на вид, молчаливой женой оставшуюся жизнь – летом шустрил в лесу, справляя свои новые бессчетные обязанности, зимой гонял с заезжими городскими зайцев и лис или помогал мужикам вывозить дрова.
Сейчас соседние избы выглядели сиротливо, утонули под пуховиками снега, уткнулись глазками-окошками в сугробы. Егор нахмурился, вспомнив вчерашнее. После того как переговорили обо всех новостях, от международной политики до городских и колхозных сплетен, после того как похвалили-похаяли детей, которые, что у Митрия Митрича, что у Егора, жили врозь с родителями, отделились, завел шурин давнюю нудную песню, только в этот раз вовсе уж откровенно и настырно: давай, дескать, разберем избы, все равно, мол, бесхозные, да продадим – какие на дачи горожанам, какие на дрова; покупателей, говорил, уже нашел, это, говорил, беру на себя, твое, говорил, Егорово то есть, дело лишь согласие дать – хорошие, говорил, деньги получишь, да и людям, которые нужду в дачах или дровах имеют, добро сделаешь. Но Егор даже и слушать не хотел.
«Нет, не дело это, – запахивая полушубок, снова укрепился в решении он. – А вдруг хозяева приедут? Срамоты не оберешься. Чужие ведь избы, чу-жи-е!.. Ох ты, Митрий Митрич, шустряк, охотник липовый, в рот те дышло! – разозлился Егор. – Охотник… до чужого добра».
Он перевел взгляд на двор. Посмотрел на поленницу, на колоду с воткнутым в нее топором и разбросанными вокруг чурками, которые так и не собрал вчера, – очень уж приезду шурина обрадовался, на утрамбованный снег, исчерченный блестящими следами полозьев. Потеплел взглядом. Все было знакомо и привычно до мелочей, но все же что-то во дворе было не так, чего-то не хватало. Егор сморщился, прислушался, соображая. Ничего не понял и пошел посмотреть лошадей: своего вислобрюхого, старого и сонного мерина Дурачка и Ваську – откормленного красавца жеребца, на котором приехал шурин. То, что председатель колхоза отдал Митрию Митричу лучшего в районе рысака, не удивило Егора – еще бы, шуряк в Облсельхозтехнике работает, с таким дружить надо; удивило другое – Митрий Митрич, оказывается, не разучился с лошадью управляться: сильна, видать, крестьянская жилка, живуча! В ответ на изумленно-веселый взгляд Егора, увидевшего шурина в кошевке, с вожжами в руках, Митрий Митрич хмуро буркнул, что председателев «газик» сломался, и Егор еле успел спрятать улыбку: ага, ясно, посулил, поди, запчасти и обманул – получай, значит, коняжку.
Лошади вели себя странно: глухо, тревожно всфыркивал Васька, жалобно и испуганно ржал Дурачок – суетливо затопали копыта, раздался приглушенный удар, и снова коротко всфыркнул-вскрикнул жеребец.
«Что за леший! Дерутся, что ли?» – Егор удивился и захрустел по снегу, словно по капустным листьям, к сараю. И, уже подходя к двери, остановился, озадаченный. Понял, что удивило и обеспокоило на крыльце. Не было Шарика – лохматого, неизвестно какой породы и масти пса. Обычно Шарик всегда крутился во дворе, и, появись Егор днем или ночью, вокруг него всегда металось изнывающее от преданности, подпрыгивающее, чтобы лизнуть руку, падающее на спину, чтобы пощекотали живот, влюбленное в хозяина мохнатое существо с подхалимскими глазами.
«Вот вражина! – Егор сплюнул. – Забрался небось в сарай и гоняет жеребца – за Дурачка, вишь, обиделся, что потеснили его. Ну, паразит!»
Он решительно дернул ручку двери. С косяка, обросшего серебристым мхом инея, посыпались снежные кружева, беззвучно рассыпаясь в невесомую пыль. Струйка снега скользнула Егору за шиворот. Он зябко поежился, поднял глаза, а мельком, боковым зрением, успел увидеть: сероватая мгла сарая… белый столб света, пробивающийся через невесть откуда взявшуюся в крыше дыру… толстые глянцевые крупы лошадей, забившихся в угол, их взбрыкивающие ноги, взблеск подков… две пары красноватых, словно остывающие угли, непонятных пятнышек… одна пара – в дальнем углу… другая – метнулась к двери. Сильный удар в грудь отшвырнул Егора, и он, охнув, ударился затылком о поленницу.
Из сарая выпрыгнула большелобая, с подтянутым животом и злобно поджатыми ушами, собака. Отскочила в сторону, села напротив человека, оскалилась, собрав в складки кожу на морде. Следом за ней не спеша, трусцой, выбежала другая собака, поменьше – самка, наверно. Неторопливо просеменила по двору, села рядом с первой, отвернула башку в сторону.
«Волки!» – Егор похолодел.
Первый волк, задрав морду к луне, взвыл вдруг на низкой ноте, перешедшей постепенно в высокий дрожащий вопль. Откуда-то из-за сарая ему заунывно откликнулся другой зверь.
«Мать честная, да сколько же их?!» – Егор с ужасом вспомнил, что этот-то вот тоскливый, скулящий всхлип и разбудил его.
Из-за сарая серыми гибкими тенями выскользнули еще два волка и сели, облизываясь, рядом с первыми.
«Шарика сожрали», – машинально отметил Егор.
Волки сидели неподвижно, и их длинные тени черными полосами распластались на белом-белом снегу.
Егор всматривался в зверей, и вдруг ему показалось смешным и глупым все это. Дурь какая-то! В его собственном доме, у поленницы, которую он два дня назад так старательно складывал, невдалеке от крыльца, вторая ступенька которого поскрипывает, если встать на край ее, он, Егор, здоровый, крепкий, может нежданно-негаданно умереть, его не станет – навсегда, совсем не станет! – а эти дрова, эта колода, которую он чувствует плечом, эти катыши лошадиного навоза останутся, и ступенька по-прежнему будет поскрипывать и поскрипывать. Без него.
А в сарае бились, пытаясь сорваться с привязей, лошади, и глухой топот их копыт отдавался в голове Егора имеете с ударами сердца. Он хотел вскочить, рассмеявшись, и шугануть обнаглевшее зверье, но слишком уж спокойно, слишком уж уверенно сидели волки, и Егор, всмотревшись в них, в их равнодушные, немигающие глаза, попил, почувствовал, даже корешками шевельнувшихся волос почувствовал: все это явь, это серьезно, это страшно. Это смерть.
Он осторожно протянул руку к колоде и, нащупав отполированное долгой работой топорище, вскочил на ноги. И тут же первый волк бросился на него.
– A-а, гад! – закричал Егор и, выдернув топор, с поворота, плашмя ударил зверя по голове.
Удар получился сильным. Металл зазвенел, словно стукнули по мерзлому бревну. Волк, перевернувшись, шлепнулся на землю. Но два других уже повисли на Егоре. Один, вцепившись в его левую руку, с силой рванул ее, и мужик чуть не упал. Овчина полушубка лопнула, вывернулась раздерганным лохматым клоком. Другой волк, не рассчитав прыжка, клацнул зубами у шеи Егора – захватил ворот и, падая, распластал полушубок до полы. Всплеснулись по воздуху белые ленты нательной рубахи, ударил в нос Егору густой запах псины, и человек, встретившись на мгновенье взглядом с лютыми глазами зверя, закричал пронзительно и истошно. Волк, упав к ногам, прокусил валенок; Егор инстинктивно, по укусу, почувствовав-определив, где голова зверя, ударил по ней – не глядя, с широким замахом. И сразу же, снизу – под живот, в пах, тому, другому, который, пьянея от запаха пота и крови, грыз, рыча, левый рукав полушубка. Удар по нему оказался таким сильным, что волка подбросило вверх. Он, выгнувшись, рухнул набок, заизвивался, закрутился по снегу. Егор что-то кричал, матерился, брызгал слюной и бил, бил по зверю топором, даже когда зверь, дернувшись, затих.
Волчица, все это время невозмутимо сидевшая на прежнем месте, осторожно поднялась и, спрятав хвост под брюхо, потрусила не спеша за сарай.
Егор, забывший о ней, увидел краем глаза это несуетное отступление. Закричал, захлебываясь от бешенства;
– Стой, сука!
Волчица прижала уши, метнулась за угол. Егор, вложив всю силу в бросок, метнул в нее топор. Топор кувыркнулся в воздухе, ударил волчицу в бок, отскочил в сугроб. Волчица упала, но сразу же вскочила, ощерилась, сжалась в комок. Егор в два прыжка был уже около нее. Рухнул всем телом на зверя, нащупал, путаясь пальцами в шерсти, горло врага, сдавил его. Волчица успела хватануть Егора за плечо, полоснула передней лапой по боку, но мужик, оскалясь, нажал из последних сил. Хрустнули хрящи. Зверь дернулся, обслюнявил вывалившимся языком щеку Егора, а он, зарывшись лицом в сугроб, скрипел зубами и не мог разжать пальцы.
Бухнул выстрел. Егор не слышал. Когда что-то осторожно ткнулось ему в бок, он зарычал, обернулся рывком, хотел броситься на нового врага, но увидел перед собой белые, обшитые кожей бурки, отпрыгнувшие в сторону, и сразу обмяк. Поднял голову.
Митрий Митрич, с серым лицом, смотрел испуганно с высоты своего роста на Егора, и на полных губах шурина застыла растерянная вымученная улыбка. Ствол ружья, направленного на Егора, мелко дрожал. Егор вяло отвел ладонью ружье, перевел взгляд на жену. Марья, вцепившись побелевшими пальцами в воротник фуфайки, жуткими глазами глядела на мужа. Перехватила его взгляд, упала на колени, обхватила Егора, заголосила.
Боль в плече обожгла мужика. Он сморщился, скрежетнул зубами.
– Тише ты! – крикнул зло.
Жена отдернула руку и беззвучно, не вытирая слез, заплакала.
Егор тяжело поднялся на колени и вдруг почувствовал страшную усталость. Усмехнулся:
– Во дела! По нужде пошел и чуть смерть не принял…
Марья обхватила мужа за пояс, помогла встать. Подкапнула Егора к избе и запричитала, завсхлипывала. Митрий Митрич, опасливо поглядывая на волчьи трупы, Подхватил свояка с другой стороны.
Проходя мимо волка, который первым бросился на него, Егор с ненавистью пнул зверя в морду:
– У-у, падаль!
Волк дернулся, поднял с усилием голову.
– Живой?! – удивился Егор.
Митрий Митрич отскочил, приложил ружье к плечу, и не успел Егор сообразить, как грохнул выстрел.
– Чего ты? – изумился Егор.
– Волк ведь. Живой… – шурин уставился на него круглыми глазами.
Егор с недоумением смотрел на Митрия Митрича и вдруг засмеялся. Сначала тихо, потом все громче и громче и наконец расхохотался. Он согнулся, дергался, схватившись за живот, корчился, кривился от боли, но сдержать ослабляющий, изнуряющий смех не мог. Марья тоже робко, сквозь слезы, улыбнулась. Митрий Митрич обиделся:
– Чего ржешь? А если б он встал и кинулся?
Егор, постанывая от смеха, от рези в боку и плече, вытер ладонью глаза. Обнял шурина, повис на нем.
– Не сердись. Я не со зла, – и заковылял к крыльцу.
В комнате он сбросил у порога полушубок. Марья увидела его тело и то, что осталось от рубашки, прижала кулак ко рту, ойкнула и стала медленно сползать вниз по стене. Егор подхватил ее:
– Ну будет, будет… Не реви. Порвали маленько, так ведь на то они и звери. Такой у них закон жизни… Найди-ка лучше, чем перевязать.
Марья бесшумно заметалась по избе, а Егор тяжело подошел к столу, опустился, охнув, на лавку.
– Садись, Митрий Митрич. Отпразднуем, как говорится, победу Самсона надо львами рыкающими… – Засмеялся, но, неловко повернувшись, сморщился, застонал.
Митрий Митрич робко присел рядом, натянуто улыбнулся. Он исподтишка разглядывал Егора, его горбоносое, слегка побитое оспой лицо. Покачал удивленно головой:
– Однако ловко ты их, Егор, обработал. Четырех таких матерых зверюг – голыми по сути руками… Н-да-а. А ведь поглядишь на тебя и не скажешь. Я по сравнению с тобой намного крепче, здоровей, а не смог бы, пожалуй. Хотя кто знает… Пришлось бы за жизнь драться, я, глядишь, родному брату, может, глотку перегрыз бы…
Егор вежливо улыбался, но улыбка получалась кислой. Митрия Митрича он не слушал. У плеча колдовала Марья – плаксиво скривившись, промывала самогонкой раны, и Егор, окаменев лицом, сводил грозно к переносице брови, стискивал зубы, отчего на скулах вздувались желваки, и иногда, дернув головой, обжигал жену взглядом: полегче, мол. Та испуганно заглядывала ему в лицо, покрытое капельками пота, точно росой:
– Больно, Егорушка?
– Ничего, валяй, фершал… Терпимо.
Марья перевязала его, села неуверенно на лавку и, сцепив на коленях руки, уставилась умоляюще на мужа.
– В больницу надо бы…
Егор пренебрежительно отмахнулся.
– Надо, – принялась торопливо убеждать жена. – Кровяная жила не тронута, слава те господи, но порезали они тебя страсть как. Рука сохнуть будет, сухорукой станешь. – Она всхлипнула. – Скажи хоть ты ему, Митрий!
Митрий Митрич откинулся к стене, поглядел оценивающе на Егора, пожевал губами. Подтвердил солидно:
– Врачу надо показаться непременно. Может быть заражение крови. Столбняк. Не исключено бешенство.
Егор с сомнением посмотрел на него, хмыкнул, хотя уже понял, что ехать придется. Бок пылал, и рука ныла, а иногда вздрагивала, словно озорник какой дергал за жилку, и тогда заходилось сердце, боль горячей волной била в голову, и все вокруг: Марья, стол, выцветшие плакаты на стене, щекастое красное лицо шурина – расплывалось, исчезало, покачиваясь, в алом, с желтыми кругами тумане.
– Так ехать, говоришь?
– Полагаю, безусловно. Собирайтесь, я одним моментом запрягу.
Марья засуетилась, помогла одеться хакающему, фыркающему от боли мужу, укуталась наспех сама и бережно вывела Егора на крыльцо.
На улице уже светало. Бледная прозрачная луна запуталась в вершинах сосен. Белесая дымка затянула двор, затушевала сарай – только волки резко, кричаще чернели уродливыми комками на утоптанном снегу.
Митрий Митрич стоял у крыльца и, подергивая вожжами, грозно покрикивал на лошадь. Дурачок испуганно взматывал головой, перебирал ногами. Дергая замшевой ноздрей с редкими, выбеленными морозом волосами, косился выпученным глазом на мертвых зверей-врагов, и по телу мерина волной пробегала крупная дрожь.






