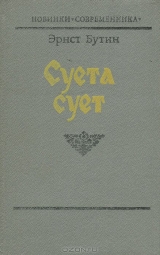
Текст книги "Суета сует"
Автор книги: Эрнст Бутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Долбил разведочные шурфы, валялся по вечерам у костра, слушал байки Гриневского – долговязого и нахального юнца, который приехал в тайгу «свет посмотреть», – ждал вертолета с письмом от Клавдии. Вертолеты приходили, письма не было. Михаил не переживал. Клавдия писала ему в заключение регулярно: скоро ли выйдешь? – не испорться, люди-то там, поди, все шпана, а ты, Миша, человек неплохой, только пьяный шибко дурной, вот из-за дури своей и попал… И наконец письмо пришло.
Вертолет стоял на песочной отмели, и Михаил торопливо грузил в него ящики с образцами, бегом перетаскивал на берег привезенные коробки, тюки, а сам все время ощущал в кармане письмо. Он мог прочитать его сразу, как это сделали некоторые, но не стал – нежил, лелеял в себе предчувствие удовольствия, когда, закончив дела, сядет под сосной на солнцепеке и, смакуя, впитает строчку за строчкой Клавдины нежности и радостные причитания.
Когда отнес последний куль, отошел подальше и, убедившись, что его не видят, заулыбался. Сел под сосной, достал папиросу, тщательно размял, закурил. Вынул письмо, внимательно прочитал адрес, изучил картинку на конверте – синенькие, красненькие альпинисты лезут в гору, – перевернул, усмехнулся. По полоскам склейки с угла на угол выведено: «Привет вашему дому, а потом, как по закону, привет почтальону».
«Добрый день или вечер, Михаил. Пишет вам известная ваша знакомая Клавдия, – начал он с той же улыбкой ожидания радости, но уже кольнуло сердце, уже тревожным холодком потянуло из-под ложечки к горлу. – Михаил, я очень радая, что у вас так хорошо закончилось и что вы уже вышли и теперь работаете у хороших людей. У нас на ферме все девки, как я им прочитала, тоже радовались, а ваша мама Мария Игнатьевна так прямо расплакалась и обещалась сама вам сразу написать свое материнское слово. Все у вас теперь будет хорошо, Михаил, только я прошу вас меня не ругать, потому как вы теперь вышли и я теперь тоже навроде свободная и не виноватая, а то за эти три года прямо всю себя исказнила: из-за меня Мишка сел, из-за меня, совсем вся извелась, изревелась. А теперь все будет хорошо, и если можете, Михаил, пока к нам не приезжайте, а то вы опять начнете гонять всех, если со мной увидите, и ко мне приставать, и как бы опять чего не вышло, а я хочу начать самостоятельно жить, потому что выхожу замуж за Николая Воротникова, которого вы знаете и из-за которого у вас вышла такая беда с тюрьмой. Николай все три года ходит за мной, но я ему сказала, что если я виноватая, что так с Михаилом получилось, то буду ждать, когда он освободится, а потом уж и распишемся. Не серчайте на меня, потому что я вам ничего не сулила, а Николай парень хороший, потому прошу вас – пока не приезжайте, а то вы опять чего-нибудь натворите и попадете в беду.
Кланяется вам ваша мать Мария Игнатьевна, дядя Степан, Семен Захарович, Ефим Горякин и все наши девки с фермы. И Николай вам тоже кланяется. На том до свидания, ваша знакомая Клавдия Соснина».
Михаил торопливо прочитал письмо еще раз, прищурился, сильно откинул голову, стукнувшись затылком о дерево. Застонал, зажмурился. Тут же резко открыл глаза, ткнулся взглядом в листок. Нашел: «…я вам ничего не сулила».
– Сука, – проговорил раздельно сквозь сжатые зубы. Зло вспомнил: «…и Николай вам кланяется» – и повторил со свистом: – Сука!
Выплюнул окурок, раздавил его сапогом. Сложил письмо, старательно всунул в конверт и убрал в карман. Раскинул руки, уперся ладонями в колкую хвою, уставился, сузив глаза, вверх. «Вот небо, – думал он. – Вот облака. – Слова возникали в голове, но Михаил не понимал их смысла. – Вот ветка… вот шишка… вот сосна. Соснина. Хорошо-о-о…»
Он не слышал, как его звали, – будет ли писать ответ? – не слышал, как улетел вертолет. Вернулся в лагерь поздно. Подошел к костру, как всегда неуклюже громоздкий, спросил насмешливо: «Все слопали?» – но не слышал своего голоса, не видел лиц. Внутри у Михаила было как-то странно пусто, и, как недавно в лесу, все, что он видел и слышал, отмечалось в мозгу короткими фразами, смысл которых не доходил: «Это начальник, это костер… это каша… это чай». Он делал все механически, потому что, не отдавая себе отчета, чувствовал – надо поступать именно так, в этом его спасение, и если он будет выглядеть для всех привычно, то найдется какой-то выход…
Вошел в палатку, упал на спальник, лицом в фуфайку, и под голоса у костра, под шорохи, шумы вечерней тайги вдруг ясно представил, что Клавдия будет не с ним, всегда не с ним, а с этим беленьким худеньким Колькой Воротниковым, – и чуть не взвыл. Крутанулся на спину, уставился выкатившимися глазами в скос палатки, раскрыл рот, хватанул воздух, чтобы не заорать по-звериному от сжавшей вдруг сердце колючей, игловатой боли. «Так! – быстро и четко сработала мысль. – Надо что-то делать!» Михаил затаился, подкарауливая мысль: знал, что она вот-вот подойдет, она уже здесь, рядом, только нельзя спешить, а то спугнешь. «Тихо, ти-хо», – успокаивал он себя одной половинкой мозга, а вторая напряженно ждала: сейчас, сейчас…
– Чего это ты сбежал? – всунул в палатку ухмыляющуюся рожу Гриневский. – Спать, что ли, завалился?
– Тихо, – прошипел Михаил. Схватил напарника за руку, втянул в палатку. – Спасибо, браток!
– Чего ты? – растерялся Гриневский. – За что спасибо?
– А так, авансом. У тебя небось «Беломор» есть? Дай-ка. Вот за это и спасибо. – Михаил размял папиросу, торопливо прикурил. Он уже понял, поймал эту мысль. Как только напарник сказал «сбежал», Михаил с облегчением выдохнул – вот оно! Надо ехать, надо сейчас же ехать: на лодке по Нярге до большой реки, там внизу, километрах в двадцати, деревня, а оттуда уж – хо! – дурак доберется.
– Письмо получил? – вежливо поинтересовался Гриневский. – Чего пишет-то?
– Хорошо пишет. Пишет что надо! – торопливо ответил Михаил.
– Чудной ты какой-то сегодня, – недовольно буркнул напарник.
Посмотрел обиженно, забрался в спальник. Но долго молчать он не умел и, повздыхав, начал рассуждать о том, как прекрасно в тайге. Говорил, что только тут осталась еще первозданная мудрость, от которой веет тысячелетиями, и что не зря он так стремился сюда, потому что скоро природу убьют и на всей земле останутся только пустыни и города, в которых свежий воздух будут продавать в автоматах, как газировку, – кстати, это уже делается в Японии, – а в зоопарках будут показывать зверей на полупроводниках, их совсем не отличишь от живых, но все равно – это подделка…
Михаил слушал разглагольствования Гриневского, где надо, посмеивался, где надо, удивлялся, где надо, переспрашивал, а сам хищно прислушивался к тому, что происходило снаружи, и думал – надо, пожалуй, что-то с рацией сделать, не сломать, нет, а чуть-чуть подпортить, чтобы Женька-радист дня два провозился с ней, а то начальник сообщит на базу и могут перехватить… Вот костер прикрыла чья-то тень. По шагам Михаил догадался, что это ушел спать начальник. Потом протопал в палатку радист. У костра бубнили лишь Арефьев и Смагин, тоже шурфовщики. Гриневский бормотал уже еле слышно и скоро затих. Михаил не спеша, бесшумно собрал рюкзак, продуманно – тепло и подогнанно – оделся и стал ждать, положив голову на колени. Наконец Арефьев и Смагин, заслонив от Михаила красное пятно углей, встали. Залили костер. Ушли спать.
Михаил сидел долго и ни о чем не думал. Потом деловито поднялся. Не таясь и оттого как-то особенно бесшумно прошел к палатке начальника, вошел в нее; уверенно, будто сам поставил, нащупал карабин, так же безошибочно нашел в изголовье мешочек с патронами, наткнулся на скользкую кожу полевой сумки. «Карта, – мелькнуло в голове. – Сгодится». Решительно протянул руку, торопливыми пальцами пробежал по металлу передатчика, дополз ими до каких-то проводов и, крутанув, дернул.
Вышел. И опять у него получилось без шороха, без хруста, без шелеста. Обошел палатку, нашел металлическую нитку антенны. Намотал на руку, рванул, скривился, когда проволока резанула ладонь. Вверху, на сосне, хрустнуло, антенна обвисла. Михаил смотал ее – все делал аккуратно, не торопясь, – зашвырнул моток далеко в ночь. У смутно белевших под тентом ящиков на ощупь загрузил рюкзак сахаром, галетами, консервами; нагнувшись, прихватил насос-«лягушку» и не спеша спустился к реке. Ткнул пальцем в упругий резиновый бок лодки, обстоятельно уложил рюкзак, карабин, патроны, перебросил через плечо ремешок сумки с картой, сел на корму и оттолкнулся…
В комнате вспыхнул свет, залил балкон. Михаил повернулся, увидел краем глаза, как из спальни идет к нему Роман, недовольно хмурясь.
– Не спят? – Михаил потянулся за перышком лука и принялся меланхолически жевать его.
– Уснут. Вечная история. Мать им сказки читает. – Роман взял стаканчик, понюхал его, отставил в сторону. – Скажи Михаил, – он в упор взглянул на него, – зачем ты ездишь? Любишь старые болячки ковырять?
Михаил растерялся.
– Гонишь?
– Да брось ты, – Роман отвел глаза. – Приезжай когда хочешь, живи сколько хочешь. Только надо кончать колупаться в этом… – не договорил, покрутил в воздухе ладонью. – Было так было, ну и все. Прошло!
– Ладно, мне к брату пора, – гость встал, оправил под ремнем рубаху.
– Хочешь – оставайся. Постелю, – неуверенно предложил хозяин.
– Не-е, – замотал головой Михаил, – надо к брату.
Они прошли через комнату в прихожую. Михаил прихватил по пути рюкзак. Надел курточку, натянул ботинки, нахлобучил кепку.
– Бывай, начальник, – подал Роману руку. – Человек ты! Я тебе там, – повел бородой в сторону балкона, – подарок привез. Еле выклянчил у нашего главного геолога. Как увидел, думаю: сдохну, но выкуплю… Бывай! – повторил он, ткнул несильно Романа в плечо и вышел.
Роман прошел на балкон и, перегнувшись через перила, увидел, как черной широкой тенью прошел сквозь свет подъездного фонаря Михаил и растворился в темноте. Изредка он мелькал в полосах света из окон дома напротив, а потом исчез совсем. Роман выпрямился, взял со стола сверток, заботливо укутанный в тряпки, развернул его и ахнул. В руках у него была ржаво-коричневая жеода, словно две золотистые ладони, сложенные лодочкой, а внутри – щедро насыпаны веселые аккуратненькие кристаллы аметиста, переливающиеся, подмигивающие фиолетовыми огоньками. Роман долго любовался подарком, потом бережно поставил его на полку за стекло и прошел в спальню.
– Уехал? – сонно спросила Марина, когда муж лег в постель. – Господи, и чего он повадился.
– Я откуда знаю, – прошептал Роман. – Спи.
– И ты спи. Завтра рано вставать.
«Рано», – согласился медленно Роман и увидел завтрашний день: стирка, потом надо будет с детьми заняться – поиграть, сводить их хотя бы в зоопарк. За диссертацию опять сесть не удастся. Вдруг вспомнил довольное лицо шефа, его уверенное: «В понедельник закончите» – и разозлился: «Ничего я заканчивать не буду!» Он заворочался.
– Да спи ты, – потребовала Марина. – Вечно, как Михаил приезжает, неделю сам не свой ходишь. Опять, что ли, жизнь свою пересматриваешь?
– Чего ее пересматривать, – вздохнул Роман. – Тогда было одно, сейчас другое. Количество перешло в качество.
– Вот именно, – согласилась жена, – поэтому кончай наниматься самокопанием, самоедством. – И, совсем уже засыпая, добавила: – Снова по тайге затосковал? Не вздыхай, кандидаты наук тоже в поле ездят.
«Когда это еще будет, – тоскливо подумал Роман. Вспомнилась речка Нярга, потом Усть-Няргинское месторождение. И тут же всплыла, сначала робкая, а потом превратившаяся в твердое решение, мысль: – Буду переносить защиту, пока не разберусь с этой проклятой Верхнебуйской тектоникой».
А Михаил прокараулил около получаса такси на перекрестке – их немало проносилось мимо, но никто не хотел брать в такое позднее время огромного лохматого и бородатого мужика – и пошел было пешком, как с визгом остановились частные «Жигули», и молодой голос окликнул:
– Далеко, дед?
– На вокзал, – попросил Михаил, потому что никакого брата у него не было и надо было возвращаться домой или ехать на юг, куда он каждый год собирался и каждый год, побывав у Романа, не ехал. Посмотрел, как живет бывший начальник, – и ладно! Может быть, на следующий год Роману все же потребуется его помощь…
День рождения
– Что же, я так играть должен, что ли?! – Широкоплечий парень схватил солдата за грудь, притянул к себе. – Или женись, или оставь девушку в покое! Мы тебе баловством заниматься не дадим!
Сунул под нос солдату кулак и скрипнул зубами.
– Кто, это мы? – солдат испуганно крутил головой, косился ошарашенно на кулак.
– Ребята из ее бригады, – противник гордо выпятил грудь. – Весь цех. Общественность… Ведь Вика, она знаешь у нас какая! Знаешь?! А ты… Эх ты! – Он расслабил плечи, тяжело вздохнул, махнул рукой. И насмешливо посмотрел на режиссера.
– Вот именно, Саша, вот именно, – режиссер, худощавый, нервный, суетливый, подскочил к актеру. – Так и работай, так и работай. – Он часто моргал длинными белыми ресницами, вытягивал шею, словно ему тесен был воротничок. – Ты точно нашел состояние. Помни, помни, – режиссер осторожно притрагивался сухими бледными пальцами к широкой, обтянутой тельняшкой груди актера и отдергивал, точно ожегшись, руку, – помни, что ты простая, бесхитростная душа. Цельная и ясная. Любить – так любить. Ненавидеть – так ненавидеть. Для тебя мир разделен на белое и черное. Друзья и враги, – он говорил быстро, отчего в уголках рта вскипали и лопались маленькие пузырьки. – Ты добр и доверчив. Обман и интриги не понимаешь и не принимаешь. Ты лишен этих душевных сложностей, комплексов и прочих штучек. Понял, Саша?
Александр Лукьянин недоверчиво смотрел сверху вниз на режиссера, улыбался иронически.
– Примитив какой-то. Черное, белое и никаких сложностей.
– Ну почему примитив? – простонал режиссер и, умоляюще сложив руки, прижал их ко лбу. – Опять ты за свое… Это рабочий парень, – размеренно, подчеркнуто усталым тоном начал втолковывать он, помахивая в такт словам сцепленными ладонями, – человек с доверчивым отношением к жизни, с открытой душой, неиспорченной, чистой. Поэтому всякая ложь, всякая неискренность для него чудовищны. Понял, Саша?
Актер глядел поверх его головы, и вид у Лукьянина был злой.
– Со всем, о чем говорите, согласен! – Он вздохнул и впервые внимательно посмотрел в глаза режиссеру. – Но зачем эти страсти-мордасти? Зачем эти приемчики немого кино? Первый раз видит человека, не поговорил с ним и сразу же за грудки…
– Но он же любит Вику! – в отчаянии выкрикнул режиссер. Оглянулся, словно ища сочувствия, и беспомощно развел руками. – Любит, понял? В душе. Безответно. Глубоко и чисто… Ему больно, понял?!
Лукьянин отвернулся, и весь вид его, скучающий, безразличный, говорил о том, что понять-то он понял, но с рисунком роли не согласен. Его взгляд столкнулся с насмешливыми глазами Виктора Божко, сценариста, и Лукьянин опустил голову. Божко, поглаживая аккуратную холеную бородку, с улыбкой рассматривал актера, и когда глаза их встретились – усмехнулся.
– Понял, Евгений Львович, – твердо сказал Лукьянин. – Буду играть рабочего парня. Простого и бесхитростного. Но только просьба: один раз я повыкатываю глаза, поору, а потом вы пару раз отснимете меня не вмешиваясь. Я сыграю так, как понимаю роль. Ладно?
Режиссер возмущенно оглянулся на сценариста. Тот медленно опустил в знак согласия голову.
– Хорошо, хорошо, – раздраженно согласился Евгений Львович. Он решил не портить себе нервы: все равно отберет из дублей то, что нужно, пусть уж актер потешится. – Только запомни – это рабочий новой формации. Член коллектива, часть целого. Он импульсивно, в забытьи, говорит о самом дорогом – о коллективе. – Умоляюще заглянул в глаза Лукьянину. – Понял сверхзадачу эпизода? Высшее возмущение, негодование, почти бесконтрольность вначале и недоумение, обида, проскользнувшее чувство любви к Вике после слов… Как там?
– А Вика… Она знаешь у нас какая?.. – А ты? Эх ты!
– Вот, вот, после: «А Вика, она знаешь у нас какая, а ты, эх ты», – выдохнул одной фразой без выражения Евгений Львович, резко повернулся на каблуке, властно хлопнул в ладоши:
– Приготовились! – Упал в кресло, забросил ногу на ногу, подпер лоб двумя пальцами.
Площадку залил свет прожекторов. К Лукьянину подскочила гримерша, подправила под глазами тени, припудрила лицо. Щелкнула хлопушка: «Кадр девятый, дубль второй!»
И снова Александр Лукьянин схватил за грудь маленького и безобидного солдатика, затряс его, раздул ноздри, зарычал, а потом, уронив голову на грудь, дрожащим голосом приоткрыл перед будущими зрителями тайну своей чистой и безответной любви к Вике.
Режиссер был доволен и поэтому, когда актер вопросительно посмотрел на него – разрешите, мол, сыграть по-своему? – благодушно махнул рукой: валяй!
Лукьянин обрадовался, подмигнул оператору, торопливо и незаметно для Евгения Львовича показал на свое лицо – дай крупно! – и после обязательных: «Мотор!» – «Кадр девятый, дубль третий!», медленно и устало подошел к солдату. Похлопал по карманам, отыскивая курево, и, не глядя на соперника, попросил: «Слушай, парень, оставь девушку в покое». Сказал он это с такой тоской, что партнер забыл про роль, удивленно заморгал. А когда Лукьянин, помолчав, добавил тихим, неуверенным голосом: «Или женись», – солдат откровенно растерялся.
Режиссер замер и хотя дубль был загублен партнером Лукьянина, ничего не сказал. Эту сцену отсняли еще два раза. И оба раза Евгений Львович счел нужным притвориться, будто ему все не нравится: хмурил брови, морщился, делал вид, что порывается вскочить, что-то крикнуть, но тут же, словно отчаявшись, утопал в кресле, прикрыв глаза длинной узкой ладонью. Наконец стремительно встал, обвел всех присутствующих взглядом, сухо пробормотал:
– На сегодня достаточно. Благодарю вас. Все свободны. Григорий Михайлович, пройдемте со мной, нужно кое-что уточнить.
Он опять резко повернулся на одном каблуке, сцепил за спиной руки и, ссутулившись, быстро вышел, почти выбежал из павильона.
Григорий Михайлович – второй режиссер, пожилой, с огромным желтым лбом и мудрыми глазами, посмотрел ему вслед, шепнул оператору:
– Попроще, Слава, попроще. Не надо ни стремительных наездов, ни вычурных ракурсов, никакой этой «субъективной камеры». Не мудри, будь другом, я прошу тебя.
Оператор нехотя кивнул и отвернулся.
Григорий Михайлович походя похлопал Лукьянина по плечу, подмигнул: все, дескать, отлично! Лукьянин, присевший на подлокотник режиссерского кресла, вяло улыбнулся ему. И снова задумался. Сосредоточенно нахмурившись, он смотрел перед собой немигающими глазами, не замечал, как гасли, один за другим, софиты, как уносили со звоном щиты подсветки, как осветители, поругиваясь, сматывали тугие черные кабели.
– Ты домой, Саша?.. Поедем вместе.
Лукьянин повернул голову. Элегантный Божко, разминая нехотя сигарету, разглядывал его.
Александр, словно умываясь, отер лицо.
– Подожди у проходной. Пойду переоденусь.
Они знали друг друга давно. Жили в одной комнате, когда в институт поступали. Относились друг к другу с настороженным недоверием. Божко много и красиво говорил о специфике кино, контрапункте, монтаже аттракционов, а Лукьянин посмеивался, слушая его. Он считал, что главное – талант! В свой талант Саша верил, а вот Божко казался ему позером, и Лукьянин был уверен, что Виктор не пройдет и первого собеседования. Но Божко все экзамены сдал на «отлично». Саша удивился. И Божко был удивлен, когда узнал, что Александр Лукьянин, грубоватый самоуверенный матрос, не имеющий понятия ни об Эйзенштейне, ни о Пудовкине, ни о Довженко, прошел фантастически огромный конкурс. После зачисления они впервые посмотрели друг на друга с уважением.
Божко улыбнулся, вспомнив свою первую встречу с Лукьяниным.
Сашу не допустили до вступительных экзаменов. Ему было двадцать три года. Стар… Он горячился, раздувал ноздри, косил на заведующего приемной комиссией дикими степными глазами. Заведующий, зажмурившись, выслушивал доводы Лукьянина, покачивал с понимающей улыбкой головой. А Александр напирал на него, доказывал, что не зря же он с самого Тихого океана ехал, что дайте, мол, хоть один тур пройти – у него нет дурных денег по всему Союзу мотаться и уехать, даже не проверив себя на актера. Заведующий поддакивал, соглашался со всем. И разводил руками: «Не могу. Положение».
– А мое положение вы понимаете?! – возмущался Лукьянин.
Он весь день преследовал заведующего, и тот, чтобы отвязаться, выписал направление на первый тур. Все равно не пройдет.
Но Лукьянин прошел. Держался перед приемной комиссией смело, зло. Был уверен, что против него заговор. Прочитал «На рынке корову старик продавал» с еле сдерживаемой яростью: раскатисто тянул «р», обжигал экзаменаторов бешеным взглядом. Его выслушали. Попросили прозу. Прочитал монолог Мелехова из «Тихого Дона». Предложили прийти завтра.
На следующий день по институту пополз слушок, что какой-то матрос уморил всю комиссию. И к аудитории, где проверяли будущих актеров, потянулись абитуриенты. На Сашу, в форменке, в тельняшке, посматривали посмеиваясь. Отводили глаза. Он мрачнел, стискивал зубы. Когда вызвали, вдруг решил неожиданно для себя: «А, пропади оно все пропадом! И институт, и актерство. Поступлю в сельхоз, стану ветеринаром, как мать просила». И представил доверчивые глаза коровы, полные ожидания боли родов, увидел беспомощного мокрого теленка на тонких, расползающихся, бугристых в суставах ножках. «Уеду!» – решил, но тут же разозлился на себя и уверенно вошел в аудиторию.
В комиссии сидел кто-то новый: лысый, сутуловатый, с большим шишковатым носом. К его уху наклонились, зашептали. Он поморщился, забарабанил пальцами по бумагам.
– Ну-ну, Лукьянин, что вы приготовили? – Лысый мягко выговаривал «л» и у него получалось: «Вукьянин», «приготовиви».
– «Полтава». Отрывок.
Лысый – «Видно, старший», – подумал Лукьянин – повернул голову к девушке справа. Та приподнялась.
– Вы лучше вчерашнее.
– Хорошо, – согласился Александр и, твердо глядя в лоб старшему в комиссии, отчеканил про старика и корову.
Лысый на мгновенье вонзил в него острый цепкий взгляд, но тут же погасил его, полуприкрыв глаза веками… Девушка краснела, кусала губы, ерзала.
– Прозу, пожалуйста, – попросила она.
Саша прочитал монолог Мелехова. Прочитал, лишь бы отделаться – монотонно и скороговоркой.
Лысый, упершись локтями в стол, положил подбородок на кулаки и равнодушно смотрел перед собой. Только один раз, словно нехотя, перевел взгляд на Лукьянина и снова отвел глаза… Александр закончил.
– Поете? – спросил главный.
– Пою, – с вызовом тряхнул чубом Александр.
– Спойте.
– А чего?
– Все, что угодно.
Седенькая старушка на цыпочках подошла к роялю, спросила шепотом:
– Что будете исполнять?
– «По диким степям Забайкалья».
Старушка сделала суровое лицо и бурно заиграла.
Лукьянин, не отрывая глаз от главного, громко попросил:
– Вы, пожалуйста, подождите. Я под пианино не умею. Сбивать будете.
Старушка смутилась, оборвала игру.
Тучный член комиссии, сидевший за столом с краю, фыркнул, достал платок, торопливо сделал вид, что вытирает лицо, и вышел.
Лукьянин откашлялся, переступил с ноги на ногу, набрал в легкие воздуху, отчего грудь выпятилась и фланелевка плотно обтянула ее. Взял ноту – жалобную и чуть дрожащую. Потом голос набрал силу, захватил всю аудиторию. Свободно и легко, на полном дыхании, поведал он историю о бродяге и его матери, об их печальной встрече. Пел Саша хорошо, это он знал, и пел с удовольствием.
– И пляшете? – поинтересовался лысый, когда песня кончилась.
– Могу, – Саша сделал отрешенный вид, зачастил в чечетке.
– Хорошо, хорошо, – отмахнулся лысый. – А вот покажи-ка мне, как ты выберешь арбуз, разрежешь и съешь один ломтик.
Лукьянин усмехнулся, выбрал из воображаемой кучи воображаемый же арбуз, потискал его. Сделал вид, что достал нож, разрезал арбуз, вынул ломтик и добросовестно изобразил, как ест его, не забывая сплевывать невидимые косточки в ладонь. В комиссии заулыбались.
– Ну, хорошо, идите, – сказал главный. – Только отчего это вы, батенька, сердитый такой, а? – Вопросительно посмотрел на Лукьянина. – Там настропалили?.. – ткнул рукой в сторону двери. – Ладно, идите, идите. Спасибо.
Саша вышел. Его окружили.
– Ну что?
– «Спасибо. Идите».
– Завал! – авторитетно заверил красивый мальчик и осторожно, мизинчиком, почесал голову. – По Щукинскому знаю.
– Жаль, – Божко, который стоял рядом, с сочувствием посмотрел на Лукьянина. – Пел ты классно.
Дверь приоткрылась, выскользнула девушка из комиссии – красная, счастливая.
– Лукьянин, на третий тур не приходите, – торопливым шепотом выдохнула она. – Готовьтесь к экзаменам. Смотрите, не дай бог завалите, – закатила испуганно глаза и сдвинула перед лицом розовые ладошки. – И не забудьте – послезавтра кинопробы, проверка на фотогеничность.
– Подождите, – Саша схватил ее за руку, когда она хотела уже скрыться за дверью. – А этот кто? – очертил рукой на голове лысину.
– Не знаете?! – ужаснулась девушка и даже побледнела.
…Божко улыбнулся, вспомнив и себя, и Лукьянина в те далекие абитуриентские дни – молодых, наивных, самоуверенных, – и не заметил, как подошел Александр. Тот был не один. Рядом с Лукьяниным важно вышагивал коротышка Карманов со своей знаменитой «фернанделевской» улыбкой на лице, улыбкой, сделавшей его, не имеющего специального образования, непременным участником любой кинокомедии.
– Будь здоров, Всеволод, – не глядя на него, протянул руку Карманову Лукьянин. – Меня ждут, – кивнул на Божко.
– Тоже киношник? – Карманов бесцеремонно принялся рассматривать Виктора. Представился: – Карманов, киноактер.
– Неужели? – вежливо удивился Божко и зевнул. – Не видел вас ни в одном фильме.
Лучезарная кармановская улыбка потускнела было, но тут же вновь засияла во всем великолепии тридцати двух огромных зубов.
– Шутите, – снисходительно решил Карманов. – Ну, пока, – и пошел, торжественный, кажущийся сам себе скромным и обаятельным.
– Поедем на другом автобусе, – попросил Лукьянин. – Не хочу с ним ехать.
– Подождем. Я такси вызвал.
Девочки-школьницы на остановке зашушукались, заволновались, когда подошел Карманов. Он сделал вид, будто не заметил этого, скромненько пристроился в очередь за ними. Когда подошел автобус, девочки покраснели, пропустили актера вперед. Тот почти правдоподобно изобразил смущение, прижал руки к груди и озарил своим легендарным оскалом зардевшихся поклонниц.
– Звезда, – усмехнулся Лукьянин. – Завтра у этих глупышек только и разговору будет с подружками: «Ах, мы видели живого Карманова! Ах, ах!» А осенью они, дурочки, попрутся за славой во ВГИК. И дай бог, чтобы не поступили… Ты никогда не задумывался, сколько одна Москва выпускает актеров и сколько ими становятся? А где остальные? – Он повернулся к Божко.
Виктор снисходительно глядел на него сквозь черные стекла очков. Александр увидел его лицо, отвернулся. Посмотрел скучающе вдаль.
– Ты хотел поговорить со мной?
– Ну что ты… – Божко помялся. – Хотя. Как тебе нравится роль?
– Ты уже спрашивал, – равнодушно ответил Лукьянин.
– Это было давно. А сейчас, после доработки?
– Роль как роль, – Лукьянин прикрыл ладонью сдерживаемый зевок.
– Хороший комплимент автору, – Божко принужденно засмеялся. – Что ж ты не отказался?
– Я не премьер и не могу все время отказываться, – жестко оборвал Александр. – Эта роль не хуже других, а кое в чем и лучше. Смотря как повернуть.
– Я думал, ты будешь доволен, – все еще снисходительно улыбаясь, вздохнул неискренне Виктор. – Ведь своего Николая я для тебя и с тебя писал.
– Значит, ты меня не знаешь.
– Ну, старик, ты сегодня не в духе. Нехорошо, – сценарист вяло похлопал по круглому и твердому плечу актера. Тот осторожно вывернулся из-под руки, посмотрел на Божко и увидел в его очках свое маленькое, пузатое и кривоногое отражение.
– Сними очки, – поморщился Александр. – Не могу разговаривать, когда глаз не вижу.
– Чудишь, – но очки Виктор снял и, закусив губами дужку, уставился на Лукьянина. – А чем плох мой сценарий, мой герой? Рабочая тема сейчас в почете.
– Она всегда в почете, – Александр прищурился. – Не в теме дело. Сценарий слабый… Ты уж не обижайся.
– Его же утвердили, – Божко начал злиться. – Значит, не так и плох.
– Конечно, утвердят. У тебя там все правильно. И писать ты умеешь… Но вспомни, – Лукьянин повернул расстроенное лицо к Виктору, – вспомни, сколько раз ты его переделывал! Только намекнут, что вот это положение сомнительно, эта проблема спорна, и готово – ты уже несешь вариант без спорной проблемы.
– Шедевры нужно доводить, – Божко громко, но неуверенно рассмеялся.
– Вот ты и довел, – Лукьянин вздохнул. – А диплом? У тебя же был отличный дипломный сценарий, но вокруг него поднялся шум, мнения разделились, и ты убрал его до лучших времен. Взял два рассказа Шолохова, перетасовал их, перелицевал, и пожалуйста, готово: пять баллов!
– Ты что же, против экранизаций? – рассердился Божко. Достал пачку сигарет, щелчком выбил одну. – Тогда нужна была эта тема. О гражданской войне.
– Вот именно, – согласился Лукьянин. – У тебя есть великий талант: ты всегда знаешь, когда и что нужно. И бьешь беспроигрышно.
– Тоже искусство.
– Искусство, – согласился Александр. – И большое.
Прошуршав шинами, подкатила бледно-голубая «Волга». Божко наклонился к водителю:
– По вызову? Это я вызывал. – Повернулся к Лукьянину: – Поедешь?
– Если возьмешь.
– Не дури, – Виктор отвел глаза.
Они ехали молча. Александр задумался, смотрел перед собой остановившимся сосредоточенным взглядом. Виктор выпрямился на сиденье и, поставив портфель на колени, размеренно щелкал по нему пальцами.
– Ну, и какая же ассоциация? – насмешливо спросил он, подчеркнув слово «ассоциация». Лукьянин покраснел, стиснул зубы.
– А никакой, – он закрыл глаза.
Это был давний подлый прием Виктора… Когда-то, на первом курсе, Саша случайно зашел в просмотровый класс. Сценаристам показывали «Третью Мещанскую». Герой страстно смотрел на героиню и поглаживал кошку. Кошку показали крупным планом.
– Ассоциация, – громким шепотом, чтобы все слышали, сказал Божко.
– Чего? – переспросил Саша.
Виктор промолчал. Лукьянин фыркнул.
– Ассоциация, – пренебрежительно протянул он. – Выдумают тоже… Кошка – она и есть кошка. А то – ассоциа-а-ация! – Убийственно расхохотался и вышел…
– Редакторы тоже не дураки, – вдруг громко и раздраженно заявил Божко. – Они знают, что делают.
– А ты, когда пишешь, не знаешь, что и для чего? Не знаешь, что делаешь и зачем? – насмешливо поинтересовался Александр.
– Я-то знаю, – Виктор не на шутку обозлился. – А ты? Ты знаешь? Чего донкихотствуешь? Сколько еще будешь нос от предложений воротить?






