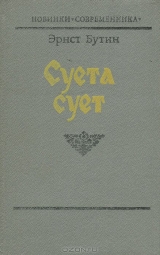
Текст книги "Суета сует"
Автор книги: Эрнст Бутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Свет, который тьма
Вселенские патриархи, русские и иноземные православной церкви архиереи сидели с важными, значительными лицами. Бояре и думные дьяки сонно таращили глаза, потели в собольих шубах, с трудом сдерживали зевоту, государя слушали вполслуха. На опального патриарха не смотрели – боялись глазами встретиться.
Никон, огромный, ширококостный, крепко вцепился в двурогий патриарший посох. Стоит – не шелохнется, только желтые волчьи глаза его следят за каждым из-под черного, по самые брови, клобука. Упаси Христос встретиться с его глазами – опалят! Слушает царя, губы кусает.
Алексей Михайлович переминается с ноги на ногу – устал. Тихо жалуется собору на своего патриарха. Голос скорбный, просящий. Иногда только, пропитавшись слезными нотками обиды, задрожит и тогда становится звонким. На Никона государь не смотрит, антиохийскому патриарху Макарию в лицо заглядывает, сочувствия ищет. Суров Макарий. Лицо, как лик на иконе старого письма, длинное, темное. Седая борода по груди струится. Из запавших глазниц следят за Алексеем Михайловичем черные, совсем не старческие глаза, и страшно от них государю, зябко. Он ежится, передергивает плечами, словно ему за ворот что-то попало.
– А найпаче того предерзостен, – Алексей Михайлович вильнул взглядом в сторону Никона, – великим государем себя именует, указы от своего имени издает, к нам, помазаннику божьему, пренебрежение имеет.
Царь замигал покрасневшими веками, растерянно уставился на александрийского патриарха Паисия. А Паисий и не слышал его, и не понимал, но нахмурил седые брови, головой покачал. Красное лицо его, утонувшее в белой пене бороды, стало возмущенным. Он склонил голову к плечу, и газский митрополит Лигарид зашептал перевод. Александрийский Паисий выслушал, притворно и нарочито громко ахнул.
Лигарид выпрямился, покрутил двумя пальцами черный ус – словно шляхтич какой. Посмотрел на Никона выпуклыми оленьими глазами.
– Отвечай! – потребовал властно. – Пошто великим государем звался, пошто православную церковь овдовил, патриарший стол покинув, пошто паству на многие годы сиротами сделал?
Помертвело лицо Никона. Почернела кровь в его сердце, вскипела, ударила в голову.
Давно уже, много дней, допрашивают патриарха. Все одно и то же. И притупилась было злоба Никона, поослабла. Но голос Лигарида, его холеная, красивая рожа опять всколыхнули ненависть, и опять захлестнуло патриарха волной бешенства. Даже затылок вспотел, и по спине словно ледяные мурашки побежали. Люто ненавидел Никон Лигарида. Сам когда-то вызвал его в Москву за великую книжную мудрость, думал, другом будет. А он, собака, почуяв, что охладел государь к патриарху, переметнулся, наушничать стал, «волком бешеным» Никона представил, вселенский Собор посоветовал созвать и сам первым обвинителем стал.
– Я тебе не ответчик, – чуть слышно сказал Никон и вдруг с силой ударил посохом в пол, закричал, оскалясь: – Ты пошто красную мантию надел, еретик? Тебя иерусалимский патриарх отлучил за латиномудроствования! Что тебе Русь?! Кто ты на Руси?! Мы что, сами, без вас, инородцев, в своих делах не разберемся? – Закрыл глаза, прижал, опустив голову, подбородок к груди, усмехнулся желчно. – Привыкли вы, людишки без роду, без племени, у нас в мутной воде рыбалить. Пиявицам подобно к телу государства Российского присосались. – Взмахнул вяло и пренебрежительно в сторону Лигарида ладонью. – Я его митрополитом не почитаю и отвечать ему не буду!
– О господи, – отчетливо прозвучал тихий шепот за спиной Никона.
Это вздохнул эконом Воскресенского монастыря Феодосий. Тот, который до нынешнего дня, пока не отобрали, носил перед Никоном крест, вместо арестованного клирика Шушеры.
И вздох, и скорбное «о господи» громко разнеслось по притихшей Столовой избе.
Русские митрополиты побледнели – знали нрав своего патриарха. Саарский Павел, рязанский Илларион мелко-мелко перекрестились. Новгородский Питирим пригнул бычью свою голову, потянулся было со скамьи, хотел что-то крикнуть, но его придержал за руку сухонький улыбчивый тверской Иосиф.
– Не о газском митрополите речь!
Все повернулись на голос. Думный дьяк Алмаз Иванов, усмехаясь, рассматривал свои ладони: впервые их увидел, что ли?
– Ответствуй, пошто великим государем звался, пошто стол патриарший оставил? – Он поднял на Никона равнодушные глаза. – Это тебя патриархи вселенские спрашивают, а не Лигарид.
Скрежетнул зубами Никон, задрал к потолку каштановую, перевитую серебром седины бороду, набрал в грудь воздуху.
– Этих патриархов не признаю! – выдохнул, точно в лицо плюнул.
– А-а-ах!
И сорвался с места собор. Заорали святые отцы, затрясли бородами, затопали, потянулись к Никону скрюченными, растопыренными пальцами.
– Вор! Богохульник! – визжало, звенело, рычало со всех сторон. – Расстричь его! На чепь! На чепь! В яму!
Никон насмешливо глядел на взбешенных первосвященников: растрепавшиеся бороды… потные лбы… слюнявые старческие рты… желтые зубы… выпученные глаза.
– Бога не боишься?! Гордыня обуяла?! – хрипел новгородский Питирим, пытаясь дотянуться до посоха в руках опального патриарха, и жила на лбу митрополита вздулась ижицей.
– Цыц, не лапай! – неожиданно зверея, рявкнул Никон и, как копье, взметнул посох над головой. – Кто тебя рукоположил? Я! Я тебе судья, а не ты мне!
Питирим откинулся, пискнул, рухнул, с отвалившейся челюстью, на скамью. Патриарх водил около его остекленевших глаз острым, мелко дрожащим кончиком посоха.
– Меня судить может только иерусалимский патриарх: он меня рукоположил! – Никон выпрямился, повернулся к Алмазу Иванову. – А ни иерусалимского, ни константинопольского – двух первейших вселенских судий – я не вижу. Что скажешь на это, дьяк?
– Ты же видел грамоту сих патриархов, – лениво отозвался Алмаз Иванов. – И что руку они приложили, власть свою здесь присутствующим передоверяя, знаешь.
– А может, она ложная, грамота-то? – процедил сквозь зубы Никон.
Алмаз Иванов крутил в руках огромный свиток пергамента. Приподнял бровь, засмеялся беззвучно, погрозил патриарху пальцем.
Никон хотел было рыкнуть, но встал антиохийский Макарий, огладил бороду.
– Ясно ли всякому, что александрийский патриарх есть судия вселенский? – Он важно оглядел собор.
Лигарид, щурясь, маслено улыбаясь, перевел с удовольствием его слова.
Умилились лица святых отцов, засветились сладостно их глаза.
– Знаем. Знаем то и признаем…
– Там себе и суди! – перекрыл это сюсюканье злой бас Никона. – В Александрии и Антиохии патриархов нет. Александрийский живет в Каире, Антиохийский в Дамаске.
Макарий от неожиданности икнул, покраснел.
– У вас и престолов-то своих нет, судьи! – Никон усмехнулся, широко зевнул, закрестил рот. Отвернулся, положил подбородок на посох.
Макарий засопел, насупился.
Алексей Михайлович, который все это время сидел съежившись, приподнялся и, поморщившись недовольно, попросил раздраженным голосом:
– Полно вам препираться. Святой отец, пусть он на запросы ответит!
Никон покосился в его сторону. Лицо царя не рассмотрел. Стояло в глазах желтое, золотистое пятно государевой парчи, расплывающееся, переливающееся, искрящееся каменьями, рассыпанными по бармам. Ответил, не отрывая подбородка от посоха:
– Я называюсь великим государем не сам собой, – он перевел глаза на александрийского Паисия. Тому в ухо торопливо нашептывал перевод Лигарид. – Так восхотел и повелел его величество государь. На то у меня и грамоты есть. – Говорил Никон лениво, врастяжку и с таким видом, точно царя здесь и не было.
Алексей Михайлович потоптался, сел на краешек кресла, опустил взгляд. Блеснув перстнями, поднял руку, огладил мягкую русую бородку, принялся накручивать прядь ее на палец.
– А кроме того, – голос Никона наполнился силой, – испокон две власти в мире: духовная и мирская. И как чистая душа выше грязного и греховного тела, так и власть духовная выше власти мирской. Потому-то я, духовной властью облеченный, более великий государь, нежели государь светский! – Поднял руку, готовый опять обрушить свой гнев и на собор, и на царя, но опомнился и закончил скороговоркой: – А с патриаршьего стола я ушел от государева гнева, – сказал, лишь бы что-нибудь сказать, но тут же повернулся к Алексею Михайловичу, воткнул в него тот свой взгляд, от которого женщины падали в обморок, а мужчины бледнели. – А ты, государь?! Ты на коленях меня упрашивал на стол взойти, сыном звал, а теперь против меня свидетельствуешь! Не грешно?.. Э-э, – он устало махнул рукой, – тебе не впервой словами блудить. Ты и ни роду своему неправду свидетельствовал, когда на Москве бунт учинился и люди к тебе приходили.
Алексей Михайлович закрыл лицо ладонями, но при последних словах своего бывшего друга, своего патриарха, рывком убрал руки.
– Непристойные речи говоришь. Бесчестишь меня, – глаза царя, сухие, злые, стали ненавидящими. – Бунтом на меня никто не хаживал. Народ меня любит! Молятся на меня! Приходили как-то земские люди бить челом об обидах своих, было такое, и ушли просветленные…
Никон насмешливо наблюдал за ним и вдруг громко, но весь голос, расхохотался:
– Челом бить?! За медные деньги небось ручку целовали?
И опять взорвался, завизжал, затопал, зарычал собор:
– Бога не боишься!
– Государя срамишь!
– Истину в ложь ставишь!
– Вселенских патриархов не признает! – звенел крик Лигарида. – Восточную церковь поругал!
– Еретик! Ерети-и-ик!
Александрийский Паисий хлопнул ладонями по столу, вскочил. Лицо дергается, губы кривятся – крикнул что-то, брызжа слюной.
– Судить будем. По Номоканону, – перевел-прокричал Лигарид. Подал с поклоном патриархам-судьям огромную книгу, в коже, с золотыми застежками.
– По этой судить будете? – Никон ткнул посохом в сторону Номоканона. – Греческие правила не прямые. Печатали их еретики.
– Добро! Будем судить по русскому Номоканону! – Лигарид покрутил зло головой, пододвинул к патриархам еще более толстую Кормчую книгу.
– И эта ложная, – Никон, посмеиваясь, захватил ртом ус, пожевал его. – Я ее выправить не успел. Ошибок, а посему ереси много.
Александрийский патриарх сжал губы, темное лицо его совсем почернело, стало похожим на вырезанное из дерева. Зыркнул на Лигарида. Тот торопливо отыскал нужное место. Откашлялся.
– «Кто потревожит царя и смутит его царствие, тот не имеет оправдания!» – зачитал он. Взглянул на Никона.
Никон улыбался. Одним ртом улыбался, а глаза поблескивали холодно.
– Истинно, истинно так: не имеет оправдания! – Алексей Михайлович тоже заулыбался, закивал головой одобрительно.
И духовные отцы тоже одобрительно, радостно головами замотали.
– Чего достоин Никон? – повысив голос, вопросил патриарх Паисий.
Выслушали перевод архиереи, засопели, заерзали. Морщат лбы, скребут бороды, вздыхают. Заворчали робко:
– Расстричь…
– Сана лишить…
– Отлучить…
В рот Паисию косятся, его решение угадать хотят.
– Да будет отлучен и лишен священнодействия, – твердо сказал по-гречески, а потом по-русски Лигарид. Захлопнул книгу, бережно защелкнул застежки. Выслушал бормотание александрийского патриарха, лицо которого расслабилось, стало довольным. Перевел: – Такова воля вселенских судей. Никон… – обратился к опальному русскому патриарху.
Но тот, повернувшись так резко, что ангелы, вышитые на крыльях клобука, прочертили вокруг лица смазанную белую полосу, уже шел к выходу. Не останавливаясь, прошипел желчно через плечо:
– Вы на меня пришли, как фарисеи на Христа!
Ожег собор взглядом, погасил радостные улыбки в глазах судий. И вышел.
Эконом Феодосий, кругленький, румяный, руки в рукава ряски вложены, поднял в первый раз за весь день глаза, задержал взгляд на Лигариде, но тут же спрятал его. Поклонился собору и утицей, вперевалку, побежал за своим владыкой.
На крыльце Никон остановился, глубоко вдохнул пряный морозный воздух. Благовестили к вечерне. Дробился, отскакивал от кремлевских стен говорок колоколов. Гомонили на шеломе Ивана Великого галки. Грызлись возле Царь-пушки облезлые, заблудшие собаки. Мирно, благостно!
Никон поежился, пошел по утоптанному снегу к Никольским воротам. Шел широко, выбрасывая далеко вперед посох, сбивая им с пути промерзшие звонкие яблоки конского навоза. Черной унылой цепочкой брели за ним монахи Воскресенского монастыря.
Возле крыльца покоев, отведенных ему, патриарх остановился. Посмотрел на тяжелую дубовую поперечину, которой были заложены кремлевские ворота: значит, опять припас из монастыря не привезли. Спросил Феодосия, не повернув к нему головы:
– Не отпирали?
– Не отпирали, – опередил эконома чей-то радостный голос.
Никон нахмурился, обернулся на голос.
Стрелец – веселые синие глаза, рыжая раздерганная борода – на бердыш навалился, шапку на ухо сбил, красным пухлым носом шмыгает.
– Ну?! – Никон помрачнел.
– Заперты ворота, говорю, едрена Матрена, – ухмыльнулся стрелец. Рот большой, губастый; в ряде крупных желтых зубов черные дырки. – И мост перед воротами разобран, так-то вот, святейший!
– Кто таков? Пошто дерзишь? – Патриарх пристукнул посохом.
– Ай не узнал? – удивился стрелец. – Арсений я. Ты еще меня с отцом Аввакумом в студеные края отправил как-то. Запамятовал?.. А я вот помню. Кажный день, почитай, тебя поминал, кажный день, как богу душу отдавал, с тобой по-матерному толковал. – Стрелец говорил посмеиваясь, ласково, но голос у него был нехороший. Ехидный голос. – Вспоминал тебя, когда корье жрал, когда на Байкал-море тонул, когда, иззябший, в сугробах валялся, по трое ден не емши, когда за манну небесную дохлую волчатину признавал. Ох, как сладко я тебя поминал! – Арсений крепко зажмурился, покачал медленно головой.
– А распопишка? – усмехнувшись, полюбопытствовал Никон.
– Аввакум-то? – стрелец открыл глаза и даже замер, восхищенный. – У-у-ух! – выдохнул он с восторгом. – Как ты еще жив остался после его поминок?! Куды мне с ним тягаться! И нонешним годом, когда его расстригли да в колодники определили, славно тебя благословлял. Носатый, грит, пузатый еретик, вор, блуднин сын, собака поганая, триехидна латинская… – радостно выкрикивал стрелец в лицо патриарху.
– Вижу, хорошо запомнил, – Никон поморщился. – Ну, помни меня и впредь! – Он наотмашь, с силой ударил Арсения в зубы.
Стрелец выронил бердыш, отлетел к стене, но тут же присел, изготовился к прыжку.
Никон, не глядя на него, прошел в сени. За ним, не поднимая голов, скорбными тенями скользнула монастырская братия. Арсений замычал, выплюнул в снег зуб и, взвыв, сдернул шапку, уткнулся в нее лицом.
А патриарх, пока шел узкими тесными лестницами, пока входил в свою душную келью, пока размашисто клал кресты перед черным ликом нерукотворного Спаса да отбивал поклоны, и потом, сев к столу, наблюдал, не видя, как суетится Феодосий, накрывая на стол, все думал об этом стрельце, и не о нем даже, а о бесноватом протопопе Аввакуме, которого вызвал в памяти стрелец. Когда же это было? Да, тринадцать годов назад. Время-то, время-то как летит…
…Утро никитиного дня, дня своего святого, патриарх встретил с тяжелой головой. Посидел недолго на краю постели, тупо рассматривая пол. Ничего не вспомнил. Подошел, шлепая босыми ногами, к столику и, не отрываясь, гулко, как лошадь, выпил огромный, заготовленный еще с вечера, жбан рассолу. Отдернул занавеску с киота. «Греха боится, блудница, образа закрыла», – подумалось вяло. Никон покосился на постель.
Агафья, разметав по подушке волосы, разрумянившаяся, тихо посапывала. Ее красные подкарминенные губы улыбались снам. Женщина почувствовала взгляд патриарха, поморщилась. Зашевелилась, пошарила рядом пухлой белой рукой, сонно приоткрыла блеснувшие ласковой синью глаза.
– Ты чего, золотой, сладкий мой? – она приоткрыла в улыбке белые крепкие, один к одному зубы. – Чего встал? Аль поздно уже?
– Пора мне. – Никон расчесывал бороду роговым гребнем, каждый раз поднимая его к глазам и разглядывая на просвет. – Слышь, благовестят.
Москва готовилась к крестному ходу в Басманную слободу в церковь Святого великомученика Никиты. В воздухе висело заливчатое треньканье малых колоколов, ровно стонали те, что поболее, сладкими тугими вздохами плыло буханье Ивана Великого и собора Успения.
– Ах, как лепо, – вздохнула Агафья и потянулась, – благостно как… Возьми меня с собой.
– Не богохульствуй, – Никон зевнул, – знай свое место. – Посмотрел на сытые круглые плечи женщины, потеплел взглядом: – Закройся, срамница. Ишь, растелешилась…
Подошел к ней, намотал на руку шелковистые, льняного цвета волосы, дернул небольно.
– У, бесстыжая, прикрой хоть голову-то. Опростоволосилась, обрадовалась!
Агафья выгнулась, схватила руку патриарха, прижалась к ней щекой. Никон, как кошку, пощекотал женщину за ухом.
– Ну, понежься еще. Келарь потом выведет тебя. А я пойду на врага своего Аввакумку посмотрю.
– Протопопа привезли? – Агафья вскочила на колени. – Врешь!
– У меня в темной сидит. – Никон чесал грудь и размышлял: звать ли сюда служку или самому одеться?
– Покажи! – властно потребовала женщина, и глаза ее, васильковые, любящие, стали темными, почти черными. – Покажи мне этого аспида. Хочу его в сраме видеть!
– Баба-а, – протянул Никон. – Плетей захотела?
– Покажи! – Агафья принялась колотить кулаком по подушке. – Он меня срамил, батогами бил на своем подворье, дьяволовой усладой, сукой, блудницей вавилонской кричал.
– Цыц! – Никон замахнулся на нее. – На чепь хочешь, в железо?!
Агафья упала лицом в подушку, заголосила навскрик.
– Ишь, Иродиада, – с удивлением посмотрел на нее патриарх. – Головы на блюде захотела, ай? Ласковая, ласковая, а гляди каким зверем взвыла. У-у, бесовское племя. – Он хотел сплюнуть, но опомнился, испуганно взглянул на образа и торопливо перекрестился.
Утро было звонкое и чистое. В ясном, пропитанном терпким запахом сырой листвы воздухе серебристыми нитями плыли паутинки, и в веселом трезвоне колоколов, в красном, желтом нежарком огне увядания листвы, в беготне дворни чувствовалось наступление праздника.
Никон, шурша опавшими листьями, неся на лице затаенную улыбку умиленности, пошел к темнице.
Около подвала стрелец Арсений, кривоногий, длиннорукий, притиснул к темным потрескавшимся бревнам стены черницу, похабно похохатывал, лез к ее лицу рыжей дремучей бородой. Монахиня, опустив глаза, ойкала замлевшим голосом, длинно и обещающе улыбалась, взвизгивала неискренне.
– Так-то ты службу блюдешь! – рявкнул патриарх и с замахом воткнул посох в спину стрельца.
Тот взвыл, изогнулся, хотел с разворота, не оглядываясь, двинуть полупудовым кулаком обидчика, но увидел краем глаза перекошенное лицо владыки и обомлел. Никон ударил его посохом по левой щеке. Подумал, ударил и по правой. Арсений жмурился, дергал головой. На лице его вздувались, наливаясь вишневым цветом, рубцы. Монашенка пискнула, качнулась на обмякших ногах и – бочком-бочком вдоль стенки…
– Чья? – не повернув головы, рыкнул патриарх.
– Меланья, – еле расслышал он. – Новодевичьего послушница…
– Блуда послушница, – Никон повернул к ней страшное, дергающееся лицо. – Скажешь матери-игуменье, чтоб епитимью на тебя наложила.
Послушница вжала голову в плечи, царапала в кровь сцепленные у груди руки. Патриарх раздувал ноздри, глядел на ее побледневшие, еще совсем детские губы, на остренький носик, покрывшийся, точно росой, капельками пота.
– Не скажешь, чай, – усмехнулся Никон. – Ко мне зайди вечером, сам епитимью наложу. Ступай.
Меланья боком, точно падая, побежала, спотыкаясь, к крыльцу съезжей монастырской избы. Никон смотрел ей вслед, жевал ус. Повернулся к стрельцу.
– За блуд, за святотатство, – он снова стукнул посохом Арсения, – поедешь к Пашкову, в Енисейский острог.
– Не губи, владыко! – стрелец повалился на колени, схватил край патриаршей мантии, прижал к губам. – Не губи, помилуй. Лукавый попутал.
Патриарх пнул его в плечо. Арсений опрокинулся в лужу, задрал к небу мокрое от слез лицо.
– Не губи-и-и…
– Отопри!
Стрелец на коленях пополз к двери, застучал, зачастил ключом в замке.
Никон, пригнувшись, вошел внутрь и скривился. В нос ударил тяжелый, кислый запах гнили, прелой соломы. Патриарх остановился, чтобы глаза привыкли к темноте.
– Что, Никитка, кобель борзой, аль пахнет невкусно? – по-лешачьи захохотало из тьмы.
Никон всмотрелся. Из черного угла поднималось что-то лохматое, большое. Загремела цепь, прыснули серыми комочками мыши. Одна ткнулась в сапог патриарха, и он брезгливо попятился.
Звонким малиновым бормотаньем тренькали за спиной колокола, рвалось в раскрытую дверь холодное, но яркое осеннее солнце, а в подвале, в вони и тьме, в бренчании кандалов, вырастал перед патриархом протопоп Аввакум – худой, с желтой кожей, обтянувшей лицо, с прелой соломой в спутанных лохмах и свалявшейся бороде.
– Потешаться пришел, ирод? – протопоп рванулся к Никону, но цепь дернула за ошейник, отбросила назад. Аввакум захрипел, схватил широко разинутым ртом воздух. Замельтешили руки – рвали железо на шее. – Латинист, еретик, предтеча антихристова! – Пена выступила на губах Аввакума. – Собака, немец русский! – Протопоп встал на четвереньки, пополз к патриарху. – Ну, веселись, разоряй Русь, блудодействуй над церковью.
Никон тяжело дышал ртом, носом не мог – пахло. Арсений угодливо сопел за спиной, заглядывал сбоку в лицо владыке и рванулся было к протопопу, но патриарх схватил стрельца за ворот.
– Злобствуешь? – огорченно спросил он протопопа. – Ну ин ладно. Судить тебя буду. – И слегка оттолкнул от себя стрельца. Тот пинком отшвырнул Аввакума от патриарха. Протопоп отлетел в угол, но опять встал, попытался укрепиться на ногах.
– Посмотри на рожу-то свою! – завопил он. – На брюхо свое посмотри! Как в дверь небесную вместиться хочешь, враг креста Христова? А-а-а, – вдруг отчаянно взвыл он.
Арсений, хакнув, точно дрова рубил, шибанул протопопа в грудь. Аввакум деревянно стукнулся головой о стену, закашлялся.
– Горе тебе, смеющемуся, – отрывисто, сквозь кашель выталкивал слова протопоп. – Восплачешь и возрыдаешь еще у меня!
Стрелец, оглядываясь на патриарха, торопливо бил Аввакума черешком бердыша. Все норовил в рот попасть.
Никон так сильно сжал в руке панагию, что серебро оправы и самоцветы врезались в ладонь, дернул раздраженно. Цепь больно резанула по шее. Патриарх поморщился, мотнул головой, повернулся и вышел. А вслед ему рвался захлебывающийся крик протопопа и мягко, словно дворовая девка перину выбивает, частили удары бердыша стрельца.
– Сластолюбец, пьяница, греха желатель! – догоняли Никона вопли Аввакума. – Не уйдешь от меня! Выдавлю из вас сок-от, выдавлю. Перережу, как собак… а-а-а! – всех развешу по дубью…
Патриарх, расхлестывая в быстром шаге лужи, шел прочь, и дворня, увидев его, цепенела. Страшен ликом был Никон.
Аввакума привезли в Кремль, когда Никон спешил к обедне. Он шел из Патриаршьих палат, где смотрел – ладно ли мастера Мироварню изукрасили, и увидел, как из Фроловских ворот появилась окруженная стрельцами плохонькая телега. В ней Аввакум, растянутый за руки цепями.
Протопоп задирал затвердевшую от крови бороду, щурился на золотые луковки церквей Благовещения, Ризположения, Спаса-на-бору, слезливо морщился, улыбался разбитыми, запекшимися губами. Дернул было рукой – перекреститься хотел, покосился на цепи. Арсений, позевывая, равнодушно брел рядом с телегой, подергивал вожжи, покрикивал на спотыкающуюся лядащую клячонку. Брел за телегой московский люд, скорбный, обомлевший, опечаленный. Ковыляли Христа ради юродивые, тащили на жилистых плечах медные кресты, гремели веригами. Сопели в бороды посадские, скребли в кровь макушки, крутили лохматыми головами. Обтирали рукавами слезы, старухи. Молодухи терли кулаками покрасневшие глаза, слезно поскуливали.
Никон отвернулся, вошел в гулкую полутьму собора. Хотел пройти в алтарь, приготовиться к службе, но на ходу развернулся, подошел к царскому месту.
– Привезли! – отрывисто доложил Алексею Михайловичу.
У того сморщился лоб. Государь с силой потер его ладонью.
– Лаяться будет? – спросил тихо.
– Будет, – заверил патриарх. – Почище Ваньки Неронова да Логгина. Не токмо в лицо плевать да рубахи швырять начнет, а и драку учинит.
– Ах ты, господи, в храме-то… – Алексей Михайлович вздохнул. Приложился губами к холеной руке Никона. – Ты уж, святой отец, – он просительно посмотрел снизу вверх, – ты уж, ради такого дня, помягче бы, а? Ушли его куда-нибудь, и господь с ним.
– Расстригу! – заскрипел зубами патриарх. Размашисто благословил Алексея Михайловича и ушел в алтарь.
Всю службу смаковал он картину, стоявшую перед глазами, – Аввакум с разбитым лицом, растянутый за руки… Но постепенно, как всегда, когда видел Никон склоненного перед ним государя, видел влюбленные глаза прихожан, на душе становилось сладостно, легко, светло. Он вслушивался в ангельские голоса хора, всматривался в печальное лицо Владимирской божьей матери, и знакомое радостное чувство наполняло его: вот он, Никон, пащенок Никитка, как звала его мачеха, сын смерда Мины – первый теперь после бога человек, и нет никого сильней и могущественней его. Патриарх всматривался в икону «Древо государства Российского», и казалось ему, что это он, а не митрополит Петр поливает мощное дерево – Русь, его радением и заботами набирает силы, крепнет на удивление и страх иноземцам могучий дуб – государство Российское. И пусть копошатся у его корней, подрывают их злобствующие вепри – Аввакумка со товарищи – древо государства, впитав соки истинной восточной веры, будет стоять неколебимо и вечно. Будет так, будет!
Октависто, бархатным басом гудел дьякон; строго, словно передоверяя власть, всматривался в патриарха Спас Ярое Око. Висели, тая, душистые ленты ладанного дыма, и Никон, умиляясь, с радостью прислушивался к себе и чувствовал: тает в нем, тает, как этот дым, ожидание расправы над Аввакумом, улетучивается злоба и лютость…
После обедни умиротворенный патриарх неспешно вышел на паперть. Взмахнул рукой – и отшатнулись, оттекли от Аввакума ферязи, однорядки, охабни, опашни, зипуны, кафтаны, лохмотья, пестрой, многоцветной толпой окружавшие протопопа.
Аввакум, морщась, растирал изъеденные железом запястья, чесал, постанывая, гноящиеся струпья на груди. Он подслеповато всматривался в жену. Ее, позеленевшую от горя, оттирал бердышом стрелец. Настасья Марковна послушно пятилась назад. Но ни стрельца, ни толпы не видела. Надрывался в крике восьмидневный грудняшка Корнилий, ловил красными замерзшими руками лицо матери, но та недовольно дергала головой, вытягивала шею, искала взгляд мужа.
– Протопоп! – негромко, но раскатисто позвал Никон.
Аввакум на миг повернул к нему распухшее лицо с черным заплывшим глазом и опять отвернулся.
– Протопоп! – уже нетерпеливей и властней зыкнул Никон. Стукнул посохом в камень крыльца. – Я, великий государь, старейший Никон, архиепископ Московский и всея Великая, Малыя и Белыя России и многих епархий патриарх, спрашиваю: раскаялся ли ты в ереси и признаешь ли каноны истинной православной церкви?
Аввакум медленно, всем телом развернулся. Потянул цепь, поднял к своему лицу грязную руку, осмотрел ее. Неторопливо сложил пальцы в троеперстие и, разглядывая их, втиснул большой палец между указательным и средним.
– Это, что ли, признать? – вдруг визгливо, по-юродски крикнул он и ткнул кукиш в сторону Никона. – Это?! Никогда!
Опустила глаза патриархова свита. Замерли стрельцы. Ахнула толпа.
– Не глумись, – с угрозой потребовал Никон. – Три перста есть символ трех ипостасей божьих…
– Три перста есть кукиш, клеймо антихристово! – закричал на всю площадь протопоп.
– Молчи, дурак! – Никон шагнул к нему, схватил за грудь, притянул Аввакума к себе, уперся в его расширившиеся глаза взглядом. – Тремя перстами первосвятители знамение клали…
– Никоне, Никоне, – не слушая, запричитал протопоп, кривя сухие, в черной коросте губы. Глаз не отводил, смотрел дерзко, с вызовом. – Что делаешь с православными? Пошто веру отцов и дедов рушишь? Пошто над церковью глумишься? К папе Русь прислонить хочешь?
Патриарх застонал, тряхнул протопопа. Истлевшая рубаха мягко поползла, клочья ее остались в руке Никона. Он брезгливо посмотрел на этот зловонный ком тряпья, швырнул его в лицо Аввакуму.
– Русь верой своей сильна, – звонко, по-молодому кричал Аввакум. – Дедовскими заветами сильна. На том стоим!
Колыхнулась толпа, подалась вперед.
– Ох, ох, Русь, – кликушествовал протопоп. – Чего тебе захотелось чужих обычаев? Чего тебе захотелось к немцам, к латинянам в наложницы идти?
– Опомнись, безумный! – взревел Никон. – Какие немцы? Какие латиняне? – Он обвел толпу бешеным взглядом. – Не я ли хотел православную церковь по древлим греческим законам устроить? Здесь! На Руси! И ее, неверными обесчещенную, у нас в чистоте возродить! Во всем, в самой малой малости первоапостольские заветы соблюсти – значит чистую и истинную веру сохранить! Потому и книги править велел, потому и троеперстие почитать велел, что так в греческой церкви заведено. Только очистившись от скверны вашего невежества и самочинства, можем принять мы духовный стяг из ослабших рук греческих первосвященников и утвердить его здесь, в Москве! – Патриарх раскинул руки, голос его зазвенел. – Здесь третий Рим! Здесь будет и истинная православная церковь! Единая и соблюдением законов сильная! А сильная и единая церковь народ наш сделает сильным духом. А духовно единый народ мощь и величие России придаст. И тогда Россия, аки сокол, над всеми иными странами взлетит и над всем миром могущество свое утвердит! Мир и единство несу я!
– Не мир, не мир, – закричал Аввакум, – а мор и раздор несешь ты! В чем единение ищешь? В подражании греческой церкви? Она нам не указ! Не указ нам учения иноземные! – Протопоп обвел взглядом народ, и опять колыхнулся московский люд, подвинулся на шаг к протопопу. – Мы верой святых и мучеников наших, российских, сильны и едины. И другим кланяться не будем! – Аввакум нагло ощерился. – Святые отцы наши так знамение клали! – Он поднял вверх два черных пальца, пошевелил ими. – Так нас учили, так и мы персты складывать должны!
Взвыла толпа. Заголосили юродивые, загремели веригами, потянули к протопопу медные кресты.
– Пошто латинский крыж заместо осьмиконечного на святительский клобук нацепил? – протопоп выметнул руку чуть не в лицо патриарху. – Пошто трегубую аллилуйю заместо сугубой ввел? Не лютеранство это? Не поклонение перед иными странами? Не предательство Руси? Не отступничество от дедовых да отчих заветов?
Никон, навалившись на посох, по-коршунячьи вытягивал шею, раздувал ноздри. Аввакум схватился за грудь, зашелся кашлем.
– Пошто нас, книжных правщиков, отставил? – сквозь хрип выкрикнул он, и крик получился жалобный, просящий. – Киевских латинян за правку посадил, а нас – прогнал! Пошто?






