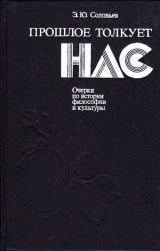
Текст книги "Прошлое толкует нас"
Автор книги: Эрих Соловьёв
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц)
Реформаторская критика космологического и телеологического доказательства бытия бога имеет общефилософский характер. Лютер, как и Кант, видит однотипность этих доказательств: оба они представляют собой умозаключение от совершенств мира к его творцу (в одном случае – в значении первопричины, в другом – в значении мастера, устроителя). Но все дело в том, что само совершенство мира – это отнюдь не констатация «естественного знания», как полагал Фома Аквинский. Видит ли человек мир совершенным или несовершенным, зависит от установки. По мнению Лютера, совершенство мира замечает лишь тот, кто уже заранее (без схоластических доказательств) считает его «божьим», «богоустроенным». Только эта исходная настроенность позволяет не придавать значения тем свидетельствам о несовершенстве мира, которые доставляет именно «естественное знание». Главным из этих свидетельств является констатация смертности всего живого. Лютер полагает поэтому, что мир, как он дан для естественного постижения, «скорее скрывает, чем раскрывает творца». Он – не манифестация бога, а лишь «след ног его».[56]
[Закрыть] Способность видеть совершенство мира и любоваться им существует вопреки «естественному знанию» о бренности всех природных вещей; она присуща, по мнению Лютера, лишь тем, кто уже /92/ понял слово откровения. Способность эта единородна с парадоксальной христианской любовью, о которой в «Гейдельбергской диспутации» говорится так:
«Общим местом для всех теологов и философов (схоластиков. – Э. С.) стало то, что совершенство предмета образует основу любви, поскольку, согласно Аристотелю, все способности души имеют начало в пассивном восприятии…»
В противоположность этому христианская любовь проспективна и действенна:
«Она любит и то, что грешно, дурно, немудро, немощно, – любит для того, чтобы сделать все это благим, мудрым, сильным; она изливается в неоправданном избытке и творит добро. Ибо грешники делаются хорошими оттого, что их любят, а не оттого их любят, что они хороши».[57]
[Закрыть]
Восприятие мира как совершенного («космического») есть проспективная позиция, implicite содержащая в себе определенную веру; космологическое и телеологическое доказательства лишь эксплицируют ее; субъекту «естественного знания» они ничего не доказывают. В поздних сочинениях Лютер совершенно отказывается от идеи познания бога из природы: верующему она открывается как богосотворенная, неверующему – как сущая сама по себе.[58]
[Закрыть]
Лютер приходит к выводу, что рациональные доказательства существования бога либо ничего не доказывают, либо утверждают бытие такого божества, которое несовместимо с религией откровения. Как бы ни усердствовали схоластики, они не смогут вывести из природы и «естественного разума» ничего более содержательного, чем безличный и абстрактный бог Аристотеля, в которого, по строгому счету, просто нельзя верить.
Схоластика трактует Аристотеля как своего язычески ограниченного предшественника, в действительности это данным давно означенный предел всякой рациональной теологии. Стагирит для Лютера – это философ вообще, «воплощение (incarnatio) философии», образцовый выразитель схоластической ограниченности и схоластического самомнения.[59]
[Закрыть] Никакого другого античного мыслителя реформатор не цитирует так часто и с такой неприязнью. /93/
Как и все средневековые христианские теологи, Лютер отвергает учение Аристотеля о смертности души и вечности мира. Однако своеобразие его позиции не в этом. Доктора Мартинуса не устраивает общее теоретико-познавательное содержание аристотелизма. Он решительно не согласен с тем, что знание о вещах в мире может быть расширено с помощью логики (силлогистики) и превратится в знание о таких метафизических объектах, как бог или душа человека. На почве теологии Лютер высказывает догадку, которую Ф. Бэкон обоснует на материале естествознания: аристотелевская логика – это вовсе не органон, не средство приращения знания.[60]
[Закрыть] Она имеет лишь экспликативное значение. Задача силлогистики, разъясняет Лютер в одной из «застольных речей», состоит в обеспечении «ответливости речи». Ничего кроме отчетливости и порядка логика к познанию не добавляет. Там, где отсутствует достаточно богатое опытное содержание, никакая «диалектика» (так называли тогда искусство силлогистического развертывания понятий) не восполнит его нехватку. «Если бы я пожелал диалектически рассуждать о горном деле, я не смог бы этого сделать, ибо не знаю, как нужно внедряться в землю, пробивать шурф и ставить крепления».[61]
[Закрыть] В теологии, которая имеет дело не с опытным, а с вычитанным, понятым и интерпретируемым содержанием, силлогистические упражнения не только тщетны, но и опасны. В письме к гуманисту Спалатину от 22 февраля 1518 года Лютер одобряет аристотелевскую логику как одно из средств воспитания проповедников и риторов, но отвергает ее в качестве инструмента теологического анализа. Для «истинного богословия», говорит он, не требуется ничего, кроме «прирожденной естественной диалектики».[62]
[Закрыть]
Отношение к Аристотелю как к символу схоластики отчетливо выражено и в известнейшем реформаторском сочинении Лютера «К христианскому дворянству германской нации…». «Борьба против аристотелизма» – основной лозунг предлагаемой Лютером университетской реформы. В 1520–1522 годах она была на деле проведена в Виттенберге при активном участии доктора Мартинуса. /94/ Из университетского курса были исключены аристотелевская физика, психология и метафизика, поскольку из соответствующих сочинений Стагирита «ничего нельзя узнать о естественных вещах»: с ними правильнее знакомиться «в поле или в мастерской». Логика, риторика и поэтика (но без позднейших схоластических комментариев) сохранялись для тех, кто готовился к степени магистра. Изучение «Никомаховой этики» было низведено до факультатива. Вместо психологических и этических сочинений перипатетиков Лютер рекомендовал трактаты Цицерона. Он видел в нем мыслителя, который несравненно лучше Аристотеля понимает конкретно-содержательную сторону нравственности. Время, освободившееся за счет сокращения схоластических курсов, Лютер предлагал использовать для обучения студентов древним языкам. Традиционная «школьная философия» ущемлялась в пользу новой, ренессансной филологии.[63]
[Закрыть]
Трудно не согласиться с теми исследователями, которые утверждали, что антисхоластические мероприятия Лютера – Меланхтона носили максималистский характер. Перипатетическая физика, например, была отвергнута задолго до того, как естествознание сумело ее опровергнуть. Но несомненно, что общая направленность реформаторской «чистки» университета была той же, что и направленность новоевропейской научной критики. Виттенбергские преобразования были с энтузиазмом приняты немецкими и итальянскими гуманистами. До конца XVI века «город Лютера» сохранил за собой славу одного из самых передовых образовательных центров Европы.[64]
[Закрыть]
Реформатор надеялся, что, отлучив схоластику от университета, он сделает его центром нестесненного изучения «свободных искусств», практически полезных наук и нового, экзегетического богословия. Однако уже к концу 20-х годов обнаружилось, что схоластика – это не просто аристотелевско-томистские темы и курсы. Она возрождается и продолжает расти даже там, где никто сознательно не высевал семян перипатетики. Поздние сочинения Лютера, в частности его обширное «Толкование Первой книги Моисея» (1534–1545), пронизаны горьким сознанием «неистребимости» схоластического стиля мышления. /95/ Доктор Мартинус приходит к выводу, что это род соблазна, которому ум человеческий подвержен с момента грехопадения. От схоластического умонастроения невозможно избавиться сразу, «однажды и навсегда»: здесь требуется дисциплина и методичность, непрерывное до самой смерти не прекращающееся – усилие, умение сосредотачиваться на изучении «вещей в мире» и постигать силу ratio в законных его пределах.
Почти в каждом лютеровском тексте, посвященном развенчанию рационального богопознания, мы находим; коррелятивное указание на то, что в ремеслах и практических науках, в руководстве хозяйством и политической жизнью нет инструмента более уместного и эффективного, чем разум. Это санкционирование обычной, профанической рациональности было, пожалуй, самым важным вкладом Реформации в становление буржуазного «здравого смысла» и в подготовку научной революции XVII века В своих нападках на богопознающую (схоластическую) философию Лютер срывался порой в стиль отрицания философии вообще.[65]
[Закрыть] Вместе с тем реформаторская проповедь в немалой степени способствовала тому чтобы профанический ум избавился от «комплекса неполноценности» перед господствующим умозрением и возвысился до научно-теоретического, а затем и философского достоинства.
«Это не умещается в нашей голове, – писал реформатор в 1530 году, – как люди от бога существуют и приходят к вечной жизни. Но в других вещах, касающихся временной жизни и существ, ты можешь вполне довольствоваться тем, что тебе советует разум, – как, например делать обувь и одежду, управляться с домом, двором и скотиной; здесь применяй мысли ума своего так широко как только можешь…».[66]
[Закрыть]
Те, кто разглядывал Лютера из XIX века, из эпохи, когда наука утвердилась в значении рационального знания о законах, нередко усматривали в этом наставлении тенденцию к снижению разума к ограничению его «горизонтом дома и скотного двора». Но не так выглядит проблема, если ее рассматривать конкретно-исторически, принимая во внимание своеобразные условия и задачи XVI–XVII столетий. Ведь одним из самых /96/ новаторских воззрений была в то время идея принципиального единства интеллекта, который эффективно обнаруживает себя в поле и мастерской, и интеллекта, который реализуется в научном исследовании. Об этом много говорил Ф. Бэкон в «Новом Органоне».
Лютер не оставил ничего подобного рассуждению об индукции, но, будь ему известны сочинения ранних индуктивистов, он наверняка принял бы их с одобрением: ему было по душе сведение научных процедур к тем простым методикам, которыми издавна пользуется ремесленник-механик, скотовод или рудознатец. В той мере, в какой это вообще посильно для религиозного мыслителя, жившего на исходе средневековья, Лютер осознавал науку в качестве высшей разновидности опытного знания.
Важным выражением общего антисхоластического духа лютеровского учения было недоверие к спекулятивному природоведению.
Реформатор решительно отвергает астрологию с ее «соблазнительным стремлением судить о запредельном и невидимом (о провидении и индивидуальном избрании) на основании видимого (движения светил)».[67]
[Закрыть] Кометы и метеоры не могут быть знамениями.[68]
[Закрыть] Знание неба должно быть исключено из судьбического контекста и пониматься как «наука внешнего опыта и доказательств».[69]
[Закрыть]
Лютер не принял гелиоцентрическую гипотезу и парировал ее прямыми ссылками на Священное писание.[70]
[Закрыть] Однако зачислять его в «антикоперниканцы» нет оснований. Скрупулезное и тонкое исследование, проведенное немецким историком Генрихом Борнкамом, показывает, что Лютер не знал ни имени Коперника, ни тем более «демонстраций, с помощью которых тот обосновывал гипотезу о вращении Земли вокруг Солнца».[71]
[Закрыть] Гелиоцентризм воспринимался реформатором как умозрительное построение, более того, как одно из астрологических поветрий, распространившихся в народных сектах после Крестьянской войны.[72]
[Закрыть] /97/
Выступая против попыток прямого прозревания невидимого в наглядных, чувственно данных знаках, Лютер наряду с астрологией отрицал также хиромантию, физиогномику и всякое иное психологическое «чтение в сердцах». Способность высказывать скрытый смысл он признавал только за словом и изображением.
Подобно многим натурфилософам XVI века. Лютер исходил из того, что в природе действуют «скрытые силы».[73]
[Закрыть] Однако способность их постижения он считал невосстановимым достоянием библейской древности.[74]
[Закрыть] Новейший естествоиспытатель, отваживающийся повторить «Соломоново искусство», либо попусту потратит время, либо вступит в контакт с сатанинскими силами.[75]
[Закрыть]
Не дело науки исследовать и «истинный генезис вещей»: он видим лишь для бога. Природоведение, сознающее границы своей компетентности, должно брать вещи как ставшие и изучать их «взаимопригодные» (мы сказали бы «функциональные») отношения.
Лютеровская критика схоластики – это, если угодно эпистемологическая манифестация бюргерски-предпринимательского умственного склада. Здесь отчетливо выражает себя, с одной стороны, стремление к искренней, непреложной, глубоко субъективной вере по Писанию, другой – доверие к разуму как средству безобманного постижения земных явлений и процессов, «целесообразно обхождения с вещами в мире и правильного, полезного, осмысленного поведения, направленного на приобретен и сохранение мирских благ».[76]
[Закрыть]
***
Критические расчеты со схоластическим богословием как бы «достраивали доверху» систему реформаторского обличения папства. Римский владыка оказывался главой многотысячной армии церковных магов, самозваных посредников между богом и человеком, и, наконец, титулованных ученых шарлатанов, которые заместили живую веру зыбким спекулятивно-схоластическим богознанием. Возможно ли, чтобы подобный всесторонний обман, продержавшийся в течение веков, был просто человеческим /98/ изобретением? Ужасаясь своей собственной догадке, а затем с неистовой решимостью первооткрывателя, готового идти на крест ради очевидности, Лютер в 1520 году подводит папство под самое страшное из обвинительных понятий Евангелия – под понятиеантихристова установления.
Средневековые сектанты именовали антихристами отдельных пап или существующую церковную верхушку. Лютер, говоря об антихристе, имел в виду папство как таковое, господствующую систему власти и культа. Корень зла, поразившего вселенскую церковь, он усматривал в догмате о непогрешимости, благодаря которому мнение папы ставилось выше «божественного откровения, явленного в Писании». По политико-юридическим нормам позднего средневековья, аттестовать какой-либо институт как «антихристов» значило поставить его «вне закона». Лютер не останавливается перед этим приговором: папство заслуживает насильственного уничтожения, и если бы завтра христиане узнали, что Рим, этот «богом проклятый город», захвачен и разграблен отрядом императорских ландскнехтов, нет, войском самого турецкого султана, им не о чем было бы горевать.
Но не следовало ли отсюда, что христиане должны сами прибегнуть к насилию и учинить своего рода крестовый поход против Рима? В 1520 году Лютер не дает ясного ответа на этот вопрос. Он пытается построить программу массового ненасильственного сопротивления Риму, но по временам не может сдержать праведного гнева, противоречит себе и говорит как проповедник восстания.
Реформатор хотел бы нацелить нацию на терпеливую, основательную и долгую работу по отвержению папства. Римская власть, полагает он, держится суеверием самих мирян. А покуда у папства не отвоевана масса слепых приверженцев, никакие заговоры, бунты и военные походы его не уничтожат. В письме Францу фон Зиккингену, главе дворянского заговора, предложившему свой меч для защиты виттенбергской реформации, Лютер говорит:
«Я не хотел бы, чтобы Евангелие отстаивалось насилием и пролитием крови. Слово победило мир, благодаря слову сохранилась церковь, словом же она и возродится, а антихрист, как он добился своего без насилия, без насилия и падет».[77]
[Закрыть]
Вместе с тем и в самой «реформаторской трилогии» и в примыкающих к ней полемических /99/ выступлениях Лютера содержится немало высказываний, звучащих как призыв к насильственному действию. В обличительном предисловии к сочинению папского обвинителя Приериа (май 1520) Лютер провозглашает:
«Если мы наказываем воров мечом, убийц виселицей, еретиков огнем, то не должны ли мы тем скорее напасть на этих вредоносных учителей пагубы, на пап, кардиналов, епископов и всю остальную свору римского содома, напасть на них со всевозможным орудием и омыть наши руки в их крови…».[78]
[Закрыть]
Лютер выражается гипотетически, предпочитает говорить не своими словами, а знакомыми формулами Писания (фраза «омыть наши руки в их крови» представляет собой цитату из Псалмов). И все-таки очевидно, что простой читатель приведенных рассуждений не мог толковать их иначе, чем призыв к расправе над римскими попами.
Лишь к началу 1521 года осмотрительность и мятежная страстность лютеровской проповеди примиряются в относительно цельной религиозно-политической конструкции. Христианин как христианин, полагает реформатор не может идти дальше ненасильственного неповиновения папству. Иное дело – светская власть, возглавляющая «христианское сообщество» как мирское, политическое тело. Она вправе силой пресекать церковный грабеж: мечом защищать «истинную веру». Низовое восстание против Рима недозволительно и пагубно, но каждый мирянин-простолюдин может и даже обязан вступить в армию своего государя, коль скоро тот объявил бы войну священникам-преступникам.
В Лютере возгорается давнее упование немецкого бюргерства – надежда на патриотически настроенного императора-антипаписта. Реформатор связывает ее с молодым обладателем германской короны Карлом V.
В апреле 1521 года «виттенбергский еретик» вызывается для выслушивания на рейхстаг в Вормсе. В своей исторической речи перед кайзером и высшими чинами империи он отвергает основные презумпции римских инквизиционных процессов и предъявляет первую протестантскую декларацию терпимости.
Выше индивидуальной совести верующего стоит только Священное писание. Если совесть не находится в противоречии с ним (и если это противоречие не доказано общепонятным, рациональным образом), мнение христианина /100/ не должно ни преследоваться, ни стесняться. Оно может оказаться ошибочным, но таковы же мнения папы и соборов.
Лютер не придает этим утверждениям формы общих принципов, которым должен следовать мудрый правитель. Он говорит о том, чему он сам – как и всякий христианин – не может не следовать («неправомерно и неправедно делать что-либо против совести»). Но это один из способов, каким выражает себя всеобщая норма.
Представитель зарождающегося «среднего сословия» вообще редко говорит: гарантируйте свободу таких-то и таких-то действий, он просит (подчас униженно просит) понять, что действия эти стали для него чем-то неотвратимым, провиденциальным, что он обязан ими перед богом и вынужден будет совершать, даже если их не санкционируют. Классическую формулу этого петиционного истребования прав и находит Лютер, когда произносит знаменитое:«На том стою и не могу иначе». Перед нами и жалоба (на бессилие, на фатум, на какую-то крайнюю нужду, овладевшую всем его существом), и одновременно – ультиматум.
Лютер сетует на то, что, какие бы доводы ни предложили ему от лица авторитета, государственной целесообразности, интересов дела, которое он сам затеял, он бессилен, безволен что-либо с собой сделать. Только разумное переубеждение, основывающееся на Писании, может вывести его из этого совсем нерадостного паралича. Пока нет воздействия слова (слабейшего из всех воздействий), пока отсутствует ненасильственность христианского опровержения, он, Лютер, «восхищен в своей совести и уловлен в Слово Божье». Он находится в прямом рабстве у создателя и является «орудием Бога».[79]
[Закрыть]
Лютер в Вормсе не отказался от отречения, он лишь объявил, что бессилен отказаться от своих взглядов, покуда не будет опровергнут и переубежден. Он ясно обозначил, что не чувствует за собой ни правды, ни могущественной /101/ воли пророка, но толькоправо, наличествующее как безотрадная невозможность поступить иначе.
Трудно назвать другой документ, в котором зарождающееся правосознание выразило бы себя с такой простотой, ситуационно-исторической адекватностью и одновременно с такой философской глубиной, как в речи, произнесенной Лютером в Вормсе. Этому соответствовало и последующее поведение реформатора. Отклоняя все компромиссные предложения дворянско-княжеских комиссий, он поставил императора перед жесткой альтернативой: либо принять на себя роль протектора и защитника немецкой реформации, либо выступить в качестве палача, покорно приводящего в исполнение папские приговоры.[80]
[Закрыть]
Карл V отверг масштабную историческую возможность, указанную ему виттенбергским августинцем. На духовную стойкость Лютера он ответил позорным Вормсским эдиктом. Реформационное учение объявлялось компендиумом старых и давно таившихся ересей. Всему немецкому населению приказано было «не давать вышеуказанному Лютеру ни постоя, ни приюта, ни пищи, ни питья, ни лекарства». Предписывалось также, чтобы «сочинений Мартина Лютера никто не продавал, не покупал, не читал, не держал в доме, не переписывал, не печатал и не давал печатать другим».[81]
[Закрыть]
Видный немецкий историк второй половины XIX века О. Ранке доказывал, будто Лютер уже с самого начала своей реформаторской деятельности стремился к разрушению имперско-абсолютистских устремлений германской нации и старался объединить все элементы антиримской оппозиции вокруг интересов княжеской партии. Эти взгляды были подвергнуты убедительной критике в работах советского исследователя акад. М. М. Смирина.[82]
[Закрыть]
В 1519–1520 гг. Лютер еще придерживался традиционных для немецкого бюргерства имперско-политических чаяний. На путь сближения с интересами княжеской партии Реформацию толкнул не ее зачинатель, а сам Карл V и чужеземный имперский двор.
Вормсский эдикт был камнем, который империя положила в протянутую руку немецкой реформации. Исполнение /102/ этого мрачного документа Германия саботировала. Вместо того чтобы послужить укреплению «религиозного порядка и мира», эдикт способствовал развитию в стране революционной ситуации. Призывы Лютера к долгой и терпеливой борьбе с папством, возглавляемой законной имперской властью, потеряли всякую убедительность. Зато мятежные лозунги, которые бюргерский реформатор в 1521–1522 годах неоднократно пытался «взять обратно», оказывали все более мощное воздействие на массовое сознание. Оживилось крестьянское движение, которое в 1517–1520 годах сдерживалось ожиданием реформ сверху. Запрещенные сочинения августинского теолога распространялись в списках, пересказах, вольных (как правило, радикальных) истолкованиях и проникали в различные слои немецкого общества.
1519–1521 годы – время наивысшего авторитета Лютера как религиозного бюргерского мыслителя. Германия видит в нем своего духовного вождя. Лютера окружают талантливые и энергичные соратники (Иоганн Карлштадт, Филипп Меланхтон, Георг Спалатин, Иоганн Бугенхаген, Юстус Йонас, Никлас Амсдорф и др.). Идеи тюрингенского августинца оплодотворяют верхненемецкую (страсбургскую) реформацию и распространяются далеко за пределы Германии. В Чехии Лютера называют «саксонским Гусом»; в швейцарских кантонах его начинания получают самобытное развитие благодаря деятельности Ульриха Цвингли. Книги Лютера штудируются в Нидерландах, Венгрии, Франции, Италии и даже в глубоко католической Испании. Раннереформаторская идеология становится устойчивым фактором общеевропейской духовной жизни. То, что Лютер напишет после 1524 года, по преимуществу окажется немецким (а точнее, немецко-лютеранским) достоянием. Но сочинения 1517–1520 годов в течение почти двух столетий будут функционировать в качестве международного духовного приобретения.
***
Сразу после Вормсского рейхстага в Германии начался бурный подъем оппозиционного движения. В Эрфурте в июне 1521 года «мартиниане» (так в первые годы реформации именовали приверженцев Лютера) штурмовали монастыри и дома знатного духовенства; в Виттенберге реформация одержала победу под руководством Меланхтона, Йонаса и Карлштадта. Евангелическая проповедь получала /103/ все более широкое распространение; во многих городах насильственно вводились новые церковные порядки.
Движение реформации вширь сопровождалось социальной дифференциацией внутри антиримской оппозиции. Исходная бюргерски-реформационная программа Лютера оказалась «экспонентом временного единства». Ссылаясь на «доктора Мартинуса», дворяне требовали созыва общегерманского собора; бюргеры отстаивали идею «дешевой церкви»; крестьяне выступали против церковно-феодальных поборов. Каждое из этих движений по-своему использовало и оружие Писания, которое Лютер столь успешно обратил против господствующей церкви. В интерпретациях священного текста все определеннее обнаруживали себя разнородные социальные интересы и стремление к переоценке самого мирского порядка.
В сентябре 1522 года вышел в свет лютеровский перевод Нового завета, который во всех течениях антиримской оппозиции (но прежде всего в среде доведенных до отчаяния крестьян и плебеев) нашел именно это, социально-критическое применение.
«Своим переводом библии, – писал Энгельс, – Лютер дал в руки плебейскому движению мощное оружие. Посредством библии он противопоставил феодализированному христианству своего времени скромное христианство первых столетий, распадающемуся феодальному обществу – картину общества, совершенно не знавшего многосложной, искусственной феодальной иерархии. Крестьяне всесторонне использовали это оружие против князей, дворянства и попов».[83]
[Закрыть]
Практика использования Библии для обоснования ущемленных прав и интересов находит последовательное выражение в программах Великой крестьянской войны, явившейся высшим пунктом в развитии революционного антифеодального движения.
Ссылки на Писание используются крестьянскими вождями для доказательства правомерности по крайней мере трех типов притязаний:
– требований, традиционных для средневековых крестьянских восстаний (об уважении обычаев и ранее предоставленных, а затем отнятых вольностей и пожалований);
– требований граждански-демократических, в основном воспроизводящих то, что уже выдвигалось в документах бюргерской оппозиции второй половины XV века (устранение /104/ всякого начальства, кроме имперского; учреждение в немецких землях выборной власти; отмена духовных судов и суда зависимых княжеских юристов; минимизация ростовщического процента; секуляризация церковных имуществ и реформа церкви);
– требований плебейско-радикальных: уравнительно-коммунистических, анархических, грубо аскетических и т. д.
Поначалу эти программы предъявляются на основе ненасильственного неповиновения, но после того как обнаруживается, что князья и дворяне отвечают на них проволочками, увертками и репрессиями, проводятся в жизнь явочно и насильственно.
Показательно, что многие восставшие крестьяне видели в Лютере своего естественного защитника, поскольку, как им было известно, он сам предъявлял римской церкви требования, основывавшиеся на Библии, а после того как они не были удовлетворены, «отказывался повиноваться не только папе, но даже повелениям императора и имперского сейма, то есть высшему светскому начальству».[84]
[Закрыть]
Лютер не принял крестьянского движения и ответил на него тремя ретроградными акциями. В апреле 1525 года в своем «Призыве к миру…» он уговаривал уже теснимых и преследуемых повстанцев положиться на добрую волю господ. В памфлете «Против разбойных и грабительских шаек крестьян» Лютер рекомендовал князьям тактику беспощадной и скорой расправы. Наконец, в июле 1525 года в «Разъяснительном письме к жестокой брошюре…» он санкционировал уже развернувшиеся карательные действия княжеских армий.
Объективная политическая реакционность этих выступлений очевидна; но совсем не просто оценить их мотивы и подлинный субъективный смысл. Биографии Лютера переполнены психологически упрощенными трактовками его поведения. Много говорится о панике, в которую поверг евангелиста сам факт мятежа; о страхе перед тем, что ответственность за народные волнения будет возложена на Виттенберг; об обидном непонимании и третировании, которое Лютер встретил при посещении Тюрингии в апреле 1525 года; наконец, просто о мстительной зависти к растущей популярности Карлштадта и Мюнцера. Во всех этих объяснениях предполагается как нечто само собой разумеющееся, /105/ будто действия Лютера были делом настроения, а не принципа и грубо противоречили содержанию ранее развивавшегося им учения. Между тем факты свидетельствуют о другом.
Как показал М. М. Смирин в статье «Лютер и общественное движение в эпоху Реформации», отношение реформатора к крестьянской войне было подготовлено (и более того, концептуально предопределено) его трактатом «О светской власти, в какой мере ей следует повиноваться», появившимся в 1523 году. Работа эта никакой ретроградностью не страдает, а как раз напротив, развивает раннереформационные принципы в направлении «формально-юридического радикализма». Содержащиеся в ней аргументы в пользу «решающей роли светского государства в вопросах социальных отношений… приближают учение Лютера к политическим концепциям нового времени».[85]
[Закрыть]
Основная идея трактата «О светской власти…» – идея «двух порядков» (духовного и светского) и соответственно двух систем права («божественного» и «естественного»). Если отвлечься от двусмысленностей, неизбежных при еще неустоявшейся политической терминологии, то суть лютеровского различения может быть сведена к следующему.
«Духовный порядок» – это отношения людей как верующих, как членов церковной общины (отношения по характеру своему межличные). Они непосредственно регулируются Писанием, нравственные требования которого Лютер и разумеет под «божественным правом». «Светский порядок» – это жизнь государственная и цивильная, которая лишь санкционируется Писанием, но не определяется им. Она подчинена требованиям общественной целесообразности, или «естественно-правовым» нормам. Государь как христианин стоит, разумеется, под евангельскими заповедями, но специфическим для его роли выражением христианской сознательности является то, что он сообразуется не с «божественным», а именно с «естественным правом». Это значит, что государь управляется со своей страной не как отец с семьей и не как земельный владелец (хотя бы и евангельски благочестивый) со своей вотчиной. Он – должностное лицо, поставленное богом для того, чтобы с разумом заботиться о защите и выгоде своих подданных. /106/ Если, говорит Лютер, нельзя иметь правителя, обладающего одновременно и умом и христианской добротой нравов, то лучше иметь правителя благоразумного и неблагочестивого, чем благочестивого, но неблагоразумного.
«Естественное право», как его понимает Лютер, совершенно не походит на естественное право либеральных и буржуазно-демократических идеологов XVIII столетия. Реформатор еще не связывает это понятие с идеей неотчуждаемых личных свобод и не вкладывает в него аподиктически непреложного значения. Естественным правом в духе XVIII века является у Лютера только свобода совести. Но в его учении она фигурирует как раз в качестве базисного «божественного права». Свободу совести подданный вправе испрашивать категорически, от имени Евангелия, не останавливаясь даже перед опасностью нарушения гражданского мира. Все другие личные или групповые притязания должны обосновываться по «естественному праву», высшим требованием которого являются гражданский мир и порядок. «Естественное право», Лютера предвосхищает «естественный закон» Гоббса и других антиклерикальных защитников государственного абсолютизма.







