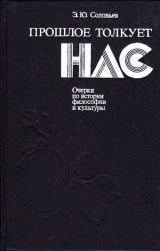
Текст книги "Прошлое толкует нас"
Автор книги: Эрих Соловьёв
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 33 страниц)
Если богу не угодны духовная слабость, малодушие и униженность (именно те состояния, в которых обычно пребывают люди, полагающие, что они общаются с ним), то не угодно ли все это «князю тьмы»? А раз так, то (вопрос, некогда брошенный Лютером по адресу католической церкви) не градом ли дьявола являются храмы, в которых всякий пребывает в страхе, стыде и беспомощном заискивании?
Сам Кант не формулировал альтернативу с такой резкостью. Однако он достаточно определенно говорил о том, что все известные формы религии (в том числе и христианство) являлисьидолослужениемв той мере, в какой они допускали человеческую униженность и льстивость, индульгентное понимание божьей милости и утешительную ложь, веру в чудеса и богослужебные жертвы.
Кант столкнул религию и теологию с глубочайшими внутренними противоречиями религиозного сознания. Тем самым он поставил не только религию и теологию, но и самого себя, как религиозного мыслителя, перед неразрешимыми трудностями. Основной вопрос, смущавший религиозную совесть Канта, состоял в следующем: не является ли вера в бога соблазном на пути к полной нравственной самостоятельности человека?
Ведь как существо всесильное бог не может не искушать верующих к исканию его милостей.
Как существо всезнающее бог совращает к мольбам о подсказке и руководстве там, где человек обязан принять /181/ свободное решение перед лицом неопределенности.
Как перманентный творец мира он оставляет верующему надежду на чудесное изменение любых обстоятельств.
Высшим проявлением нравственной силы человека является стоическое мужество в ситуации, безысходность, которой он осознал («борьба без надежды на успех»). Но для верующего эта позиция оказывается попросту не доступной, ибо он не может не надеяться на то, что бог способен допустить и невероятное. Сама вера исключает для него возможность того ригористического поведения и внутренней чистоты мотива, для которых нет препятствий у неверующего.
Как отмечалось выше, философски понятая вера, по Канту, отличается от вульгарной, богооткровенной веры как надежда от упования и слепой уверенности. Но бог, как бы ни изображался он в различных системах религии и теологии, всегда имеет такую власть над будущим, что на него нельзя просто надеяться. Он обрекает именно на упования, на провиденциалистский оптимизм, в атмосфере которого подлинная нравственность не может ни развиться, ни существовать.
Существеннейшей характеристикой морального действия Кант считалбескорыстие. Но чтобы бескорыстие родилось на свет, где-то в истории должна была иметь место ситуация, для участников которой всякая корысть, всякая ставка на выгодность и успешность действия сделалась бы насквозь проблематичной и даже невозможной.
Одно из основных противоречий кантовской философии состояло в том, что в ней достаточно ясно осознавалась генетическая связь между бескорыстием и девальвацией корысти в критических ситуациях и в то же время предполагалось, что мораль могла возникнуть из религии и внутри религии (вопрос о происхождении морали был тождествен для Канта вопросу о развитии христианства из иудаизма).
Но мораль не могла созреть внутри религии именно потому, что религия маскирует отчаянность критических ситуаций, ограждает своих приверженцев от столкновении с «ничто», с «миром без будущего». Застраховывая от отчаяния, она застраховывает и от кризиса расчетливости.
При всех своих противоречиях моральная концепция Канта в основных ее разделах более всего созвучна этике стоицизма. На первый взгляд это может показаться странным. В самом деле, откуда было взяться стоическим настроениям /182/ в самом конце XVIII столетия, в эпоху ожиданий и надежд, предреволюционного оживления и веры в торжество разума?
Основные произведения Канта, в которых изложено его моральное учение, – «Критика практического разума» и «Религия в пределах только разума» – появились соответственно в 1788 и 1793 годах. Между этими временными отметками лежала Великая французская революция.
Этическое учение Канта проникнуто ощущением трагичности революции, выступившим сперва как предчувствие, а потом как горькое сознание о происходящем и совершившемся. В то же время кантовская философия не только далека от пессимизма, овладевшего после якобинского террора и термидора теми, кто был одушевлен надеждами Просвещения, но и прямо враждебна этому пессимизму. Подлинный пафос кантовской этики – пафос стоической личной верности просветительским идеалам, верности даже вопреки истории, которая их дискредитировала. Посрамлены были не сами идеи личной независимости, справедливости и достоинства человека, а лишь надежды построить общество, основывающееся на этих идеях.
После поражения революции сохранять верность просветительским идеалам можно было, лишь решительно отвергая утопизм и наивный прогрессизм, с которым они были слиты в идеологии XVIII века. Именно это и определило отношение Канта к философской проповеди Просвещения. Он стремится показать, что как откровение самого разума она неоспорима; ее непреложную обязательность для всякого разумного существа не может отменить никакой общественный опыт, никакие «уроки истории». Вместе с тем Кант решительно выступает против натуралистически-прогрессистского духа просветительской идеологии, против свойственной ей веры в скорое торжество разума, против изображения идеального состояния общества в качестве некой скрытой «природы людей», которой «суждено» одержать верх над несоответствующими ей формами общежития, против изображения обязанностей индивида в качестве его «разумных потребностей», моральных требований – в качестве «подлинных интересов» и т. д.
Вместе с тем кантовская критика прогрессизма с самого начала была ослаблена его провиденциалистским представлением о том, что человеческое сообщество в бесконечно далеком будущем (вероятнее всего, уже «за пределами /183/ земной истории») достигнет при содействии творца состояния «морального миропорядка».
Либеральное кантианство второй половины XIX века, стремившееся к тому, чтобы придать этике Канта «безусловно светский характер», поставило во главу угла именно то, что было наиболее тесно связано с его религиозным образом мышления, – упование на царство справедливости в финале истории. Этика Канта стала называться концепцией «бесконечно удаленного социального идеала», делающей ставку на временную беспредельность человеческого бытия. «Научная» и «светская» интерпретация кантовского морального учения обернулась, иными словами, научным и светским перетолкованием постулата о бессмертии души.
Мне представляется, что главным в кантовской философии является как раз противоположная установка – стремление (пусть не до конца осуществленное) различитьдолжное(безусловно-обязательное для личности) идолженствующее иметь место в будущем(особое измерение сущего).
В этом смысле понимание морального действия исключительно как действия во имя будущего (самоограничение в настоящий момент ради выгоды в перспективе, несправедливость сегодня во имя справедливости завтра, попрание личного достоинства в интересах будущего, где оно будет уважаться) есть, с точки зрения Канта, моральность в границах расчетливости и корысти. Он искал такую этическую концепцию, которая приводила бы к одному знаменателю и циничный практицизм, далекий от всякой внутренней ориентации на идеал, и прогрессистский фанатизм. Эта двуединая критико-полемическая направленность объясняет своеобразие кантовской моральной доктрины, связывающей антиисторицистскую стоическую преданность безусловному и пафос бескорыстия, идею верности нравственному закону и идею духовной автономии личности. /184/
Личность и ситуация в социально-политическом анализе Маркса
Едва ли не главным упреком, который бросают в адрес марксизма современные западные философы, является обвинение в недооценке «экзистенциальной проблематики» (вопросов, касающихся личной ответственности вины, выбора и подлинности человеческого поведения).[1]
[Закрыть]
Этот упрек сделан еще в 30-х годах представителями немецкой «философии существования», заявлявшими что исторический материализм заражен провиденциалистской болезнью гегелевской философии, знает лишь «общий план истории», отрицает самостоятельное значение конкретных ситуаций, апеллирующих к человеческой свободе, а потому делает невозможной какую-либо цельную концепцию совести и морального суда.[2]
[Закрыть]
После второй мировой войны эти аргументы были повторены рядом персоналистских авторов и вскоре сделались «общим местом» в зарубежной литературе. Я не буду разбирать многочисленные сплошь и рядом откровенно пропагандистские доводы, посредством которых доказывается, будто учение Маркса представляет собой «теоретическое обоснование личной безответственности». Это неблагодарная и скучная работа. Куда важнее и интереснее разобраться в тех серьезных затруднениях, с которыми сталкиваются (и в которых все чаще откровенно признаются) некоторые западные теоретики, пытающиеся обосновать «экзистенциальную недостаточность» марксизма.
Яркий пример этих затруднений – книга Ж.-П. Сартра «Критика диалектического разума», появившаяся в 1960 году. Как и другие представители экзистенциализма, /185/ Сартр считает марксистскую концепцию истории «универсализирующей», то есть такой, которая ставит в центр внимания общую схему мирового процесса и не располагает необходимыми инструментами анализа конкретных временных «тотальностей» (локальных событий и ситуаций), образующих непосредственную реальность личностей и конституируемых их самостоятельными решениями.[3]
[Закрыть]
Формулируя свои критические упреки и претензии, Сартр, однако, наталкивается на препятствие, о котором открыто говорит сам. Это работа К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».
«Маркс, – признает Сартр, – исследовал февральскую революцию 1848 года и государственный переворот Луи-Наполеона в синтетическом духе: он видел в ней (революции – Э. С.) тотальности, одновременно разорванные и произведенные посредством их внутренних противоречий»
; включение в универсальную историческую перспективу не препятствовало в данном случае «оценке процессов какединичной тотальности».[4]
[Закрыть]
Сартр не уделяет специального внимания марксову подходу к проблеме личной ответственности, не рассматривает, как в «Восемнадцатом брюмера» используются приемы морального и психологического обличения неподлинности и т. д. И все-таки признание Сартра – это нечто новое, ранее не встречавшееся в экзистенциалистской литературе, и к нему необходимо отнестись с должным вниманием. Ведь, по сути дела, Сартр указывает на то, какие разделы марксистского философского наследия приобретают особое значение в условиях широко развернувшейся в последние годы экзистенциальной критики исторического материализма: задача состоит в том, чтобы выявить философское содержание марксистского ситуационно-политического анализа.
В настоящей статье я обращаюсь именно к той работе Маркса, которая оказалась камнем преткновения для Сартра, – к «Восемнадцатому брюмера Луи Бонапарта». Я постараюсь показать, что целый ряд проблем, которые сегодня без всякого колебания могли бы быть причислены к разряду экзистенциальных, были сформулированы Марксом с удивительной четкостью и бескомпромиссностью /186/ именно потому, что он не был экзистенциалистом.[5]
[Закрыть]
***
В начале 1852 года Ф. Энгельс опубликовал в чартистском еженедельнике «Заметки для народа» статью «Действительные причины относительной пассивности французских пролетариев в декабре прошлого года». В ней говорилось:
«Со 2 декабря прошлого года весь интерес, который только способна возбудить иностранная или, по крайней мере, европейская политика, привлек к себе удачливый и беззастенчивый игрок – Луи-Наполеон Бонапарт… И действительно, есть что-то поразительное в том, что произошло: сравнительно безвестный авантюрист, вознесенный игрой случая на пост главы исполнительной власти великой республики, захватывает между заходом и восходом солнца важнейшие пункты столицы, выметает парламент точно мусор, за два дня подавляет восстание в столице, в течение двух недель усмиряет волнения в провинции, навязывает себя в результате показных выборов целому народу и немедленно же устанавливает конституцию, вручающую ему всю власть в государстве. Подобного случая и подобного позора не знал еще ни один народ, с тех пор как преторианские легионы гибнущего Рима выставили Империю на торги, продавая ее тому, кто больше заплатит».[6]
[Закрыть]
Энгельс достаточно точно описывает исходную задачу, с которой столкнулся автор «Восемнадцатого брюмера»: задачу объяснения государственного переворота, героем которого оказалась личность, абсолютно не соизмеримая с действительным историческим масштабом этого переворота и его значением для судеб страны.
В конце 1851 – начале 1852 года вся либеральная, буржуазно-республиканская и демократическая пресса билась над задачей сглаживания, устранения этого парадокса. Она пыталась возвысить личность Луи-Наполеона /187/ до размеров совершенного им узурпаторского деяния, то есть в форме критики и морального обличения создавала культ личности Бонапарта, делала его великим в качестве «военного деспота, предателя… душителя печати и т. п.».[7]
[Закрыть] Ярким примером этой уничижительной переоценки явился памфлет В. Гюго «Наполеон маленький». Виктор Гюго, – писал по этому поводу Маркс, – ограничивается едкими и остроумными выпадами против ответственного издателя государственного переворота. Самое событие изображается у него, как гром с ясного неба. Он видит в нем лишь насильственное деяние одного человека. Он не замечает, что возвеличивает этого человека, вместо того чтобы умалить его, приписывая ему беспримерную во всемирной истории мощь личной инициативы.[8]
[Закрыть] Таков и вообще был бумерангов эффект крикливой хулы и добродетельного негодования, обрушившийся на голову новоявленного кандидата во французские императоры.
Отличительная особенность «Восемнадцатого брюмера» состоит в том, что в этом произведении кричащее несоответствие между индивидуальными возможностями Луи-Наполеона и теми действиями, которые ему удалось совершить в декабре 1851 года, не сглаживается, а подвергается анализу именно в качестве исторического противоречия.
Строго говоря, в работе Маркса президент Второй французской республики, узурпатор и кандидат в императоры вообще не принимается в качестве личности, если иметь в виду не обыденное, а требовательное, философское употребление этого понятия. Поведение Луи Бонапарта описывается и объясняется здесь без всякого обращения к таким специфически личностным характеристикам, как самосознание, совесть и ответственность за определенные убеждения.
Маркс оказался единственным критиком этого исторического персонажа, который не попал в ловушку «возвышающего уничижения». Он избежал ее, потому что обличение Луи-Наполеона в «Восемнадцатом брюмера» имеет не моральный, а объективно-юридический характер: герой 2 декабря фигурирует здесь не в качестве объекта для суда истории, а в качестве объекта для уголовного суда. Это мелкий мошенник на вершине государственной /188/ пирамиды, типичный «человек без экзистенции», воплощение той деградации личностного начала, которая обычно наблюдается в среде деклассированных элементов и преступников (отсюда – сквозная тема «знатного люмпена», объединяющая все характеристики Луи Бонапарта в «Восемнадцатом брюмера»).
«Бонапарт, становящийсяво главе люмпен-пролетариата, находящий только в нем массовое отражение своих личных интересов, видящий в этом отребье, в этих отбросах, в этой накипи всех классов единственный класс, на который он безусловно может опереться, – таков подлинный Бонапарт…».[9]
[Закрыть]
Субъективность героя декабрьского coup de tete не содержала в себе, иными словами, никакой загадки, достойной внимания историка. Но именно поэтому в высшей степени загадочными становились успехи этого героя.
Как могло случиться, что человек с редуцированной личностью оказался победителем в напряженнейшей политической борьбе, которая, казалось бы, должна была требовать максимального развития личных качеств? Почему «самый недалекий человек Франции получил самое разностороннее значение» (формулировка из «Neue Reinische Zeitung»)?
Успех Луи Бонапарта разоблачал всю политическую жизнь Второй республики, а вопрос о его личности стал, как отмечал Энгельс в уже цитированной мною статье, вопросом о национальном позоре.
Сами французы (идеологи, отважившиеся говорить от лица нации) склонны были изображать этот позор как «позор без вины» и чаще всего ссылались на реабилитирующий «фактор внезапности». В ответ на подобные доводы Маркс писал:
«Недостаточно сказать, по примеру французов, что их нация была застигнута врасплох. Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие. Подобные фразы не разрешают загадки, а только иначе ее формулируют. Ведь надо еще объяснить, каким образом три проходимца могут застигнуть врасплох и без сопротивления захватить в плен 36-миллионную нацию».[10]
[Закрыть]
Чтобы объяснить такое событие, как переворот 2 декабря, необходимо было проанализировать всю породившую /189/ его общественно-историческую ситуацию, причем взять ее не просто как немое сцепление обстоятельств но как живое, динамическое переплетение поступков, совершенных реальными субъектами исторического действия. Поэтому развернутая и окончательная формулировка проблемы, которую предлагает Маркс, оказывается следующей: «Каким образомклассовая борьбаво Франции создала условия и обстоятельства, давшие возможность дюжинной и смешной личности сыграть роль героя».[11]
[Закрыть]
В противовес субъективистски-морализаторским обличениям Луи-Наполеона и попыткам объяснения бонапартизма непосредственно «социальной статикой» (что сделал, например, Прудон в своей работе «Государственный переворот») Маркс обращается к рассмотрению самой исторической драмы, разыгравшейся во Франции в 1848–1851 годах. Он ставит в центр внимания не просто «естественную связь причин и следствий», а объективно обусловленную последовательность выборов, решений, ошибок, преступлений и безответственных действие совершенных классами, политическими партиями и отдельными личностями, составлявшими эти партии.
И если сам Луи Бонапарт оказывается, как я уже отметил, объектом юридического обличения, а классы, как разъяснится в дальнейшем, – объектом социологической и социально-психологической оценки, то в качестве объекта морального суда в собственном смысле слова выступают в «Восемнадцатом брюмера» парламентские партии, политико-идеологический корпус Второй республики – люди, взявшие на себя ответственную роль «национальных лидеров», но совершенно неспособные к руководству классовой борьбой, которая из-за неразвитости социально-экономических отношений в стране приобрела чрезвычайно сложный и даже парадоксальный характер.
***
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» – конкретная картина общественной жизни Франции в 1848–1851 годы: здесь систематически раскрываются все ее стороны, начиная с положения страны на мировом рынке, кончая теми многообразными значениями, которые имел для французского крестьянина налог на вино. /190/ Но на переднем плане этой картины, несомненно, стоит политическая борьба в Национальном собрании Второй республики, прослеженная от недели к неделе, ото дня ко дню. Трагикомические герои этой борьбы (например, глава республиканской оппозиции Одиллон Барро или лидер мелкобуржуазной демократии Ледрю-Роллен) обрисованы с такой аналитической полнотой и такой степенью индивидуализации, которой могли бы позавидовать мастера биографического анализа.
В начале 1852 года, когда было написано «Восемнадцатое брюмера», большинство из фигурирующих в этой работе политических деятелей бесславно сошло со сцены, а некоторые из них (в недавнем прошлом наиболее представительные) оказались жертвами репрессий, учиненных Бонапартом и его приспешниками. Либеральная и буржуазно-демократическая печать изображала их как невинных страдальцев, преследовавшихся за республиканские убеждения, как демократов, трагическим образом лишившихся даже самого элементарного из демократических прав – права на гласное судебное разбирательство.
«Восемнадцатое брюмера» как бы возвращает бывшим парламентариям это неотъемлемое гражданское право. Работа Маркса – это развернутый обвинительный процесс над жертвами бонапартистского произвола, суд, в ходе которого выясняется, что именно узники Мазаса, Аме и Венсена, вчерашние вожди буржуазных и мелкобуржуазных парламентских партий, несутличную ответственностьза падение республиканского режима, за политическое вознесение Луи-Наполеона и утверждение в стране такого юридического порядка, который сделал возможным их собственный арест и осуждение без суда.
Они виновны прежде всего перед революционным народом, и, чтобы убедиться в этом, достаточно просто перечислить их имена.
В числе жертв бонапартистского произвола оказались генерал Кавеньяк, палач июньского восстания 1848 года, генерал Шангарнье, под руководством которого была разогнана мирная демонстрация 10 июня 1849 года, Адольф Тьер, один из инициаторов введения особого положения в Лионе (впоследствии президент Третьей республики и палач Парижской коммуны), и другие.
Не удивительно, что в момент уничтожения парламента вместе с парламентариями народ безмолвствовал. Когда в декабре 1851 года английский буржуазный журнал «Экономист» обвинил трудящихся Франции в том, что /191/ они остались равнодушными к узурпаторской и антиреспубликанской политике Луи Бонапарта, к репрессиям и арестам, распространившимся на лучшую часть нации», Ф. Энгельс ответил на это обвинение следующими словами:
«…все, что можно было у него (французского рабочего класса – Э. С.) отнять… было отнято в течение трех с половиной лет парламентского правления буржуазии после великого поражения в июне 1848 года».[12]
[Закрыть]
Собственно говоря, свое действительное отношение к политическим деятелям Второй республики народные массы Франции выразили гораздо раньше, чем эти деятели стали жертвой бонапартистского произвола. Они выразили его во время выборов 10 декабря 1848 года, когда решался вопрос об избрании Луи Бонапарта на пост президента Франции. Анализируя ход этих выборов, К. Маркс писал «Они встретили большое сочувствие… среди пролетариев и мелких буржуа, приветствовавших его (Бонапарта Э. С.) как кару за Кавеньяка».[13]
[Закрыть] Народные массы города – прежде всего Парижа и Лиона – рассматривали возвышение Луи Бонапарта как «кассацию июньской победы». В деревне выборы 10 декабря представляли собой «реакцию крестьян, которым пришлось нести издержки февральской революции».[14]
[Закрыть]
Словом, если бы в 1851 году французских парламентариев судил не контрреволюционный, бонапартистский, а революционный трибунал, он приговорил бы их, вероятно, к наказанию куда более серьезному, чем то, которое они в действительности понесли.
Но может быть, эти парламентарии, виновные перед народом, были невинны перед законом и могли надеяться получить оправдание просто в качестве граждан?
В действительности ни один, даже самый искусный адвокат не сумел бы защитить их от произвола на основании той конституции, которую они сами учредили и подвергли многократным «улучшениям».
Конституция французской республики появилась в ответ на июньские события 1848 года. На каждой ее статье лежала печать страха перед массовым демократическим движением; каждое общее положение сопровождалось оговоркой, которая, по существу, сводила его на нет. Это была конституция, с самого начала санкционировавшая нарушение конституционных норм в случае, /192/ если возникнут «исключительные обстоятельства» и если это будет соответствовать соображениям «национальной безопасности».
«Сама Конституанта (Законодательное собрание Э. С.) постановила, что нарушение текста конституции является единственно верным толкованием ее смысла», писал по этому поводу Маркс в работе «Классовая борьба во Франции».[15]
[Закрыть]
Развернутая формула высшей по сравнению с демократией общественной целесообразности была найдена тогда же, когда формулировался сам «демократический закон»; она гласила: «Собственность, семья, религия и порядок». В заключении первого раздела «Восемнадцатого брюмера» Маркс показывает, как эта формула позволила устранить одного за другим всех учредителей конституции:
«…как только одна из многочисленных партий, сплотившихся под этим знаменем против июньских повстанцев, пытается в своих собственных классовых интересах удержаться на революционной арене, ей наносят поражение под лозунгом: «Собственность, семья, религия, порядок!»…Всякое требование самой простой буржуазной финансовой реформы, самого шаблонного либерализма, самого формального республиканизма, самого плоского демократизма одновременно наказывается как «покушение на общество» и клеймится как «социализм». Под конец самих верховных жрецов «религии и порядка» пинками сгоняют с их пифийских треножников, среди ночи стаскивают с постели, впихивают в арестантскую карету, бросают в тюрьму или отправляют в изгнание… – во имя религии, собственности, семьи и порядка».[16]
[Закрыть]
Нелепо искать защиту от беззакония в такой конституции, под прикрытием которой без суда было приговорено к ссылке пятнадцать тысяч июньских инсургентов, Лион и пять соседних департаментов подверглись летом 1849 года грубому деспотизму солдатчины, вводились карательные законы и вездесущий прокурорский надзор, велись беспрерывные процессы по делам печати.[17]
[Закрыть] Вдвойне нелепо, если к ней апеллируют люди, которые в пору своего полновластия называли конституцию «грязным клочком бумаги» (слова Тьера), кричали: «Законность нас убивает!» (слова Одиллона Барро), клеймили восстание в /193/ защиту конституции как «анархическое действие», отстаивали принцип подчинения государственного закона решениям большинства и выступали с публичными покаяниями в своих либерально-конституционных заблуждениях, разделявшихся еще в пору монархии.[18]
[Закрыть]
Законодательное собрание само уничтожило те силы которые республика и демократия могли бы в решающий момент противопоставить опасности авторитарного господства: оно распустило национальную гвардию и уступило президенту все инструменты исполнительной власти. Мало того, именно парламентарии научили Луи-Наполеона всем приемам и методам борьбы против парламентаризма. Будущему узурпатору не требовалось ни изобретательности, ни конструктивного воображения: он просто мог в готовом виде использовать тот богатый опыт предательства интересов республики, который накопили представители последовательно поверженных им «фракций» и «оппозиций».
В «Восемнадцатом брюмера» обнажены вопиющие противоречия, которыми был отмечен каждый политический акт, осуществленный этими людьми, – противоречия, которые в конце концов сделали их внутренне беззащитными перед произволом, лишили возможности юридического и нравственного оправдания. Тем самым Маркс в полной мере раскрывает тему малодушного предательства принципов, разработку которой экзистенциалисты считают своей исключительной заслугой: он выявляет внутреннюю неизбежность бесчестного поражения, которое рано или поздно постигает республиканца, боящегося республики, демократа, боящегося действительно демократического движения, и революционера, боящегося доводить революционную борьбу до конца.
Но Маркс предъявляет политическим деятелям Второй республики еще одно обвинение, которое сразу выводит за пределы экзистенциалистского понимания личной ответственности, – обвинение в том, что они не сумели эффективно выполнить роль руководителей классов, представляемых ими в политике и идеологии, – роль, к которой их безусловно обязывала сложившаяся в стране социально-политическая ситуация. По строгому счету, многие из этих деятелей могли бы квалифицироваться как предателидействительных интересовсоответствующих общественных групп. И самое удивительное состояло /194/ в том, что они совершили это предательство в результате того, что их мышление оставалось в рамках непосредственного мышления их классов, что их политическая воля никогда не приходила в противоречие со стихийно сложившимися надеждами и установками этих классов.
Чтобы разобраться в содержании этого парадоксального по своему характеру преступления, необходимо более подробно остановиться на вопросе о том, как Маркс понимал поведение класса и классовое сознание.
***
Если привести к единому знаменателю те возражения, которые буржуазная философская и социологическая мысль выдвигают против марксистского понимания классов и классовой борьбы, то мы скорее всего получим обвинение вбихевиоризме, в вульгарно-детерминистском истолковании субъекта исторического действия. Маркс критикуется за то, что под именем класса он будто бы вводит в общественный процесс некое надындивидуальное существо, еще не поднявшееся до уровня сознательной человеческой активности. Предполагается, что в качестве целостности класс действует как примитивно устроенный организм: экономическое положение порождает у него «одновалентный» интерес, который движет всеми индивидами, входящими в класс, подобно инстинкту. В итоге марксисты обвиняются в том, что они пытаются объяснить историю действиями таких субъектов, в поведении которых не обнаруживается именно «историчности».
Посмотрим теперь, как действительно выглядят данные проблемы в марксистском социально-политическом анализе, классическим примером которого как раз и является «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта».
Бросающаяся в глаза особенность этой работы состоит в том, что действия общественных классов рассматриваются в ней в качестве поведения, имеющего личностную структуру. Здесь меньше всего идет речь о неких «примитивных вожделениях» или инстинктах общественных групп. В историческую характеристику класса включаются такие специфически личностные характеристики, как самосознание, иллюзии, установки, эмоции. Действия классов расцениваются не только по их фактическим успехам (критерий, вполне достаточный для бихевиоризма), но также с точки зрения их нравственно-психологической полноценности. Судьбы классов анализируются поэтому /195/ в категориях трагедии и фарса, убежденности и цинизма чести и бесчестия и т. д.
Маркс рассматривает классы, врасплох застигнутые революционной ситуацией, не имеющие ясного представления о своем историческом призвании, о том, чегоследовало бы желатьдля обеспечения действительно успеха. Все они – за исключением пролетариата в феврале 1848 года – обнаружили стихийное стремление к уклонению от борьбы. Это политическое малодушие постепенно привело к сложным расстройствам классовой психологии, к болезненным несообразностям поведения. Не случайно динамические портреты классов в «Восемнадцатом брюмера», по сути дела, оказываются патографиями.







