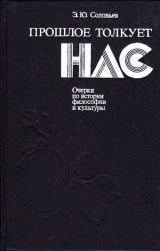
Текст книги "Прошлое толкует нас"
Автор книги: Эрих Соловьёв
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
Продажа индульгенций давно уже служила предметом возмущения и рассматривалась как последнее, ослепительное выражение кризиса церкви. Немецкая литература начала XVI века точно схватывала моральные и юридически-правовые несообразности, к которым вела торговля «священным товаром»: возможность искупать преступление без раскаяния, оплачивать преступление новым преступлением, грешить в долг и покупать право на будущий проступок и т. п.
Вместе с тем долютеровская и окололютеровская критика индульгенций видела общий корень этих несообразностей прежде всего вденежной формеоткупа. Деньги казались ее представителям сатанинской силой, рождающейся в миру, а затем подчиняющей себе «божий град». Предреформационные обличения индульгенций проникнуты поэтому тоской по ушедшим в прошлое церковным порядкам и желанием восстановить традиционные натуральные формы епитимий – в виде монашески строгой искупительной аскезы или чисто духовной жертвы, состоящей /76/ в сокрушении о содеянном.[34]
[Закрыть] Критики индульгенций еще не улавливают того, что продажа отпущений представляет собой особую (высшую и вместе с тем кризисную) разновидность феодальной эксплуатации мирянина, базирующейся на древнем обычае искупительных жертв.
Исключительная проницательность Лютера состояла в том, что он ощутил эту историческую подоплеку индульгенций. Феномен денег и рыночной купли-продажи послужил ему лишь поводом для постановки вопроса оцерковном посредничестве вообще, о всех формах обмена, откупа, сделки с богом, санкционированных церковной доктриной и обеспечивших само существование церкви как цинично-торгашеского феодального института.
Первоначальному христианству было чуждо уголовно-правовое представление о «божьей каре за грехи», а потому и идея искупительных жертв, замещающих небесные наказания. Однако в III–IV веках католические авторитеты развили учение о чистилище – небесной инстанции временных («срочных», как говорят юристы) исправительных наказаний, часть которых грешник может отстрадать уже здесь, на земле. В церковном словаре появилось понятиеепитимий– покаянных тягот (самобичеваний, многолетних постов и т. д.), замещающих небесные очистительные муки.
В XI веке папство постановило, что сами епитимьи можно прощать за совершенные грешником благочестивые дела. Постановление это было продиктовано не просто гуманными соображениями: в искупительном благочестивом поступке(сатисфакции)всегда предполагался момент церковной выгоды. Прегрешившему крестьянину рекомендовалось коммендировать себя церкви (то есть добровольно переходить в положение епископского или монастырского крепостного); прегрешившему дворянину – дарить или завещать ей свое поместье. Да и другие «добрые дела» (взносы на бедных, уход за больными и т. д.) налагались на мирянина в порядке своего рода церковной барщины.
В XIV–XV веках, когда в феодальном хозяйстве совершился переход от барщины к оброку, папство дозволило уже просто отпускать грехи в обмен на услуги и /77/ пожертвования. В предреформационный период был сделан последний, логически неизбежный шаг: мирянин освобождался от епитимий и сатисфакций, если покупалиндульгенцию, то есть отдавал деньги под своего рода церковный вексель.
«Разрешительная грамота» в качестве товара имела, таким образом, долгую предысторию. Она лишь увенчивала многоступенчатую практику церковных поборов. Основным же религиозным мотивом, который эксплуатировали продавцы индульгенций, по-прежнему оставался страх перед чистилищем, насаждавшийся папской церковью с момента ее первых посягательств на мирское господство.
Это-то существенное обстоятельство и разглядел Мартин Лютер. В своих «Тезисах» он не просто нападал на «торгашескую низость» римской курии – он ставил под вопрос само право церкви на назначение искупительных страданий и жертв.
Видя достоинство христианина вкрестном терпении, виттенбергский доктор богословия считал, что и заслуженные муки чистилища верующий должен принимать с бесстрашным смирением. «Тезисы» – документ нравственно-бескорыстного благочестия, которое усматривает величайшее несчастье не в наказании, а в виновности и ищет соответственно не смягчения кары, а полного раскаяния и прощения вины.
В 1517 году Лютер был еще далек от того, чтобы квалифицировать идею чистилища как «папистскую выдумку», изобретенную ради приобретения мирской власти. Однако он уже достаточно решительно отрицал право папы (а стало быть, и всей церкви) на распоряжение небесными исправительными карами и, что особенно существенно, объявлял пагубным сам страх перед ним.
Центральная мысль «Тезисов», в сущности говоря, очень проста и состоит в следующем: Христову Евангелию идея искупительных пожертвований глубоко чужда; бог Евангелия не требует от согрешившего человека ничего, кроме чистосердечного раскаяния в содеянном. Этот мотив звучит уже в первом тезисе: «Когда наш учитель и наставник Иисус Христос говорил: «покайтесь» и т. д. (Матф IV, 17), он хотел, чтобы вся жизнь верующего была покаянием». И этот же мотив достигает предельной силы в последних тезисах, где Лютер утверждает, что христианин спасается только через полное самоуничижение, символ которого – Голгофа, и что любые попытки отыскать /78/ более прочные тому гарантии фантастичны и кощунственны.[35]
[Закрыть]
Определяя раскаяние в качестве центральной и сквозной задачи христианской жизни, Лютер встает на путь отвержения всех церковно назначенных искуплений греха, какую бы конкретную форму они ни принимали. Зло, поразившее вселенскую церковь, коренится не в том, что аскетическая, натуральная и моральная жертвы сменились в ней сомнительными денежными выплатами, а в том, что церковь вообще поставила жертву в центр своих отношений между человеком и богом и не заметила момент выплаты и торга, содержащийся во всяком приношении, возлагаемом на ее алтарь.
Конечная тенденция этого отвержения всех видов сатисфакции может быть определена как секуляристская и антифеодальная. Основная идея «Тезисов»: богу – одно только раскаяние, наталкивала верующего простолюдина на мысль о том, что вся церковно-феодальная собственность представляет собой незаконное и насильственно приобретенное достояние. Он вплотную подводился к идее секуляризации церковных имуществ. Критика, непосредственно направлявшаяся против феноменов отчуждения, торга и обмена, наносила удар по внеэкономическому принуждению, на исторической почве которого эти феномены выросли и развились.
Не менее внушительные критические возможности содержало в себе и само возвышение раскаяния как страдательно-творческого действия, ведущего к нравственному возрождению индивида.
Согласно средневеково-католическому пониманию, человек есть существогреховное по природе. Согласно Лютеру, он есть существо, сознающее греховность своей природы. Вот тот тонкий, на первый взгляд еле заметный сдвиг, с которого начинаются кризис и радикальная перестройка теологического мировоззрения, сдвиг, берущий свое начало в позднесредневековой бюргерской апокалиптике.
Католическая догматика приписывала грех человеку в общем-то так же, как протяженность – телам, текучесть – жидкостям, смертность – растениям и животным. Неудивительно, что церковная весть о власти греха над людьми оказывала на мирян гнетущее и парализующее воздействие. Идея «поврежденности грехом» находила /79/ свое догматическое завершение в идее несознавания греха овеществления в грехе.
Лютер наносит удар по этому глубинному, метафизическому содержанию церковного учения. Греховность, по его мнению, ощутима и действительна только для тех, кто уже устремился вверх, к небу как символу праведности. Лютер призывает всегда двигаться в направлении растущего стыда за грех, приветствовать или, по крайней мере, с готовностью принимать обостряющееся сознание своего актуального несовершенства и ничтожества.
Нетрудно увидеть, что греховность приобретала при этом необычный, диалектически противоречивый онтологический статус. Лютер свидетельствовал о человеке как о грешном и обвиняемом, но апеллировал к человеку судящему, и этот последний был для него объектом надежды. Реформатор хотел бы, чтобы вся еще присутствующая в человеке энергия ненависти ко злу была изъята из мира и обращена вовнутрь – против того нравственного убожества, которое каждый находит в себе самом, Выдавить из себя подлеца, выдавить прежде, чем задашься целью деятельной любви, исправления и спасения мира, – такова, говоря коротко, предлагаемая Лютером исходная нравственная программа.
Лишь принимая во внимание это парадоксальное смысловое строение лютеровской проповеди, то есть содержащийся в ней пафоспровоцирующего пессимизма, можно понять, почему она не только не сделала лютеран мизантропами, но и воздействовала на них как религиозный манифест человеческого достоинства.
Мученический, страдательный, порой даже мизантропически мрачный персонализм ранней Реформации на первый взгляд кажется чем-то совершенно несовместимым с оптимистичным, активистским, а то и утопически-прекраснодушным индивидуализмом, который овладеет умами представителей «третьего сословия» полтора-два века спустя. На самом деле они образуют последовательные фазы в диалектическом развитии одних и тех же ориентаций массового сознания. От независимого раскаяния (самоосуждения) берут начало протестантское индепендентство и протестантский характер, носители которых займут самые видные места в армии энергичного раннебуржуазного индивидуализма. /80/
***
Первые теологические сочинения Лютера, написанные в 1515–1516 годах, а также публикации, в которых растолковывался смысл виттенбергских «Тезисов» («Разъяснение к диспуту…» и «Разговор об отпущениях и милости»), уже содержали в себе зародыш всей его будущей полемики с папством. Лютер, однако, не спешил идти в атаку, и это было благом для Реформации. Нападение начал Рим, реформатору же пришлось развивать свое учение в порядке самозащиты, а это значит – с особой основательностью, корректностью и энергией. С самого начала нависшая над Лютером опасность отлучения оберегла его от того, чтобы сбиться на путь еретической риторики, и заставляла неукоснительно развиватьпротивоположность ортодоксии и догмы.
У меня нет возможности проследить все перепитии инквизиционного процесса, развернутого Римом против Лютера в 1518–1521 годах (формально он продолжался до 1526 года). Отмечу лишь, что в ходе этого процесса защищающийся «виттенбергский еретик» развертывает все реформаторские потенции «Тезисов», дает развернутую критику католического канона и как бы помимо воли, через углубляющееся и преодолеваемое сомнение, приходит к бескомпромиссному осуждению папства и выдвижению проекта новой церковной организации.
В 1518 году после вызова для выслушивания в Аугсбург к кардиналу Каэтану Лютер возрождает средневековый оппозиционный принцип «собор выше папы»; в Альтенберге, защищаясь перед папским нунцием Мильтицем, объявляет Библию непременным критерием при решении вопроса о ереси; в 1519 году в Лейпциге, в ходе диспута с доминиканским теологическим доносчиком Экком, ставит Писание выше папы и выше собора, солидаризируется с рядом утверждений сожженного Яна Гуса и декларирует, что христианская церковь существует всюду, где проповедуется Евангелие. В 1520 году в ответ на папскую буллу об отлучении, Лютер утверждает примат крещения над ординацией и именем крещеного объявляет анафему тираническому церковному владыке.
Защищаясь от критики «романистов», Лютер подверг сомнению всю систему церковных авторитетов: ученые мнения схоластов, приговоры монашеских орденов, решения курии и, наконец, постановления пап. Он покончил с половинчатостью предреформационных движений, которые /81/ были весьма решительны в отвержении «римских злоупотреблений», но не отваживались покуситься на идею непогрешимости церковной организации и ее «сверхприродного», «божественного» происхождения. Непосредственно к богу Лютер возводил лишь Священное писание, первоначальный (еще доцерковный) документ христианства.
Мудрость, заключенную в Писании, реформатор считал несоразмерной человеческой мудрости, но делал из этого тезиса диалектически парадоксальный вывод. Перед» богооткровенным» содержанием библейского текста теряют значение все различия между экстраординарными и обычными способностями, между умом ученейшего схоласта и умом простолюдина. Поэтому единственное, что остается людям, – это толковать Библию, полагаясь лишь на общий им всем, неизбежно ограниченный разум.
Уже в 1519 году Лютер отказался от средневекового представления о тексте Писания как о таинственном шифре, который не может быть понят без знания установившегося церковного толкования. Библия открыта для каждого, и ни одна ее интерпретация не может быть признана еретической, если она «не опровергнута очевидными разумными доводами».[36]
[Закрыть]
Утверждение непререкаемого авторитета Писания оказывалось одновременно и утверждением независимого суждения каждого из христиан. «По какому праву, – спрашивал Лютер, – полагает нам папа законы? Кто дал ему власть поработить свободу, сообщенную нам крещением? Я говорю: ни папа, ни епископ, ни какой бы то ни было человек не имеет права установить хотя бы единую букву над христианином, если не будет на то его собственного согласия».[37]
[Закрыть]
В оболочке теологического рассуждения Лютер отвоевываетсвободу совестикак первый всеобщий принцип правосознания, ниже которого уже не сможет опуститься никто из заслуживающих внимания политических мыслителей XVI–XVII веков.
Трактуя работу совести в качестве процесса неотчуждаемо личного, Лютер (в отличие от представителей позднесредневековой мистики) отнюдь не считает ее действием /82/ отшельнически уединенным. Он неоднократно подчеркивает, что келейная замкнутость верующего, которую веками культивировали монастырь и скит, чревата галлюцинаторно-утешительными самообманами. Непременным условием их преодоления Лютер считает методическую проверку любых внутренних очевидностей (восторгов, экстазов, ощущений осененности и правоты) на оселке Писания; гласное обсуждение индивидуального толкования священного текста и дискуссию с единоверцами.
В августе – ноябре 1520 года выходят в свет публицистические шедевры Лютера, составившие своего рода «реформаторскую трилогию»: «К христианскому дворянству немецкой нации…», «О вавилонском пленении церкви» и «О свободе христианина». В них намечена программа коренного преобразования церковной организации и найдены формулы полного нравственно-религиозного размежевания с папством.
Лютер объявляет ложным фундаментальное положение католицизма о сословно-кастовом разделении людей на священников и мирян. Никакое особое духовное сословие неизвестно Евангелию, а стало быть, не является необходимым. Каждый христианин правомочен быть толкователем и проповедником божьего слова, отправлять обряды и таинства. Вслед за Уиклифом и Гусом Лютер отстаивает принцип «всеобщего священства». Пасторская деятельность трактуется им как служба, на которую уполномочивает община и которая в принципе не отличается, скажем, от выборной службы бургомистра. Должность пастора требует известной специальной подготовки в толковании Священного писания и в церковных церемониях. Но только эта квалификация и отличает церковнослужителя, а вовсе не сверхъестественная миссия посредничества (между грешным человеком и богом), сообщаемая через рукоположение.
Новый, бюргерски трезвый взгляд на пасторскую должность не исчерпывал, однако, смыслового богатства принципа «всеобщего священства». Принцип этот представлял собой идею равнодостоинства людей, выраженную на теологическом языке. Он был созвучен концепциям выборной власти и идеалам сословного равенства.
Существенно, далее, что автор «реформаторской трилогии» объявлял войну церковно-феодальному централизму. Он считал правомерным историческим явлением /83/ образование национальных государств и национальные церквей (в частности, автокефальной православной церкви в России в 1453 году). Решающую роль в церковной жизни Лютер отводил национальным соборам, созываемым монархами и проводимым при участии князей, дворян и представителей муниципальных советов.
Но еще радикальнее были требования, относившиеся к нижним ступеням церковной иерархии и к повседневной практике приходов. Общине должно быть предоставлено право выбора пасторов. Все праздничные дни, кроме воскресений, и все церковные юбилеи должны быть отменены. Паломничества допустимы лишь в тех случаях, когда они носят совершенно добровольный характер и не мешают прихожанину выполнять его деловые и семейные обязанности. Категорически осуждались нищенствующие монашеские ордена, находящиеся на иждивении у христианского общества. Членам других орденов должно быть предоставлено право выхода из монашеского состояния (для этого необходимо как можно скорее отменить «вечные обеты»).
Эта широкая программа упразднений дополнялась решительнойкритикой церковных таинств. Из семи священнодействий, санкционированных средневековым католицизмом, Лютер, ссылаясь на Евангелие, сохранял лишь два: крещение и причастие. Но самым существенным в его сочинениях было даже не это, а критика самого господствующего понимания таинств, которое реформатор определял какверу в магию. Магия, говорил он, – это противоположность «подлинной набожности» и относится к ней так же, как ложь к истине и безобразие к красоте.[38]
[Закрыть] Магия заботится не о том, как человека подчинить божьей воле, выраженной в Священном писании, а о том, как бы бога подчинить воле людей. Поскольку же последнее невозможно, все магические действия суть «мечтательная суетность» – род дурмана, с помощью которого христианин усыпляется и отвлекается от терпеливого несения «мирского креста». Лютеровское осуждение магии ставило под вопрос уже не только таинства в узком смысле слова, но и всю сакральную практику: мессы, освящения, прорицания и т. д. Вслед за привилегиями сословными священники лишались теперь и привилегии на свое древнее «тайное искусство». /84/
***
XV–XVI века – времякризиса схоластикии растущего недовольства ею со стороны гуманистов и пионеров нового естествознания. Серьезный вклад в преодоление схоластического засилия вносят и деятели немецкой бюргерской реформации, распознавшие в господствующем спекулятивном богопознании один из важных инструментов церковного авторитаризма.
«Я думаю, – писал Лютер в 1520 году, – что невозможно преобразовать церковь, если только с корнем не вырвать схоластическое богословие, философию, логику, каковы они теперь, и не установить новые».[39]
[Закрыть] Лютер нападал на схоластическое умозрение за то, что оно «губит веру», но многие из его доводов годились и для обличения схоластики как врага независимого научного исследования. Задержимся на этом аспекте лютеровской полемики с папством, чрезвычайно интересном для историко-философского анализа культуры XVI века.
Реформаторская критика схоластики велась с позиций парадоксальногонемистического фидеизма. Лютер отторгал веру от разума, но одновременно отрицал какие-либо экстраординарные, сверхчувственные или сверхразумные способности, обеспечивающие непосредственное усмотрение объекта веры, «слияние» или «сплавление» с божеством.[40]
[Закрыть] Познание бога, каков он «в-себе и для-себя», получало смысл абсолютно непосильной задачи, а применение разума для ее решения квалифицировалось как иррациональное («соблазнительное») действие. Соответственно с еще невиданной остротой вставал вопрос о переориентации рационального исследования на адекватные ему нетеологические предметы.
Фундаментальный принцип средневековой схоластики, отчеканенный Фомой Аквинским, – это принцип /85/ непротиворечия между истинами откровения и истинами разума. Рационально рассуждая о «запредельном и невидимом», человек, согласно Фоме, просто не может прийти к выводам, которые не соответствовали бы догматам веры. Если это происходит, то налицо «неправильное умозаключение». Разум – надежный слуга и страж веры Одни ее догматы (например, о существовании бога, о бессмертии души) он непротиворечивым образом доказывает другие (сотворенность мира, троичность бога, первородная греховность человека) хранит в их недоказуемости, убедительно опровергая попытки их рационального отрицания.
Последователи Фомы идут дальше: в доминиканской схоластике, которая в XIV–XV веках подчинила себе большинство западноевропейских университетов, провозглашается принципиальная доказуемость всех догматов веры. Они разделяются теперь на уже обоснованные и такие, которые непременно («рано или поздно») будут обоснованы. Поиск рациональных аргументов для истин откровения превращается в своего рода схоластическую манию. Вера (и именно в той мере, в какой она является установленной верой, существующей с санкции папы соборов) преобразуется в системуспекулятивного верознания. Привилегированная каста церковнослужителей, которые понимают и обихаживают богавместомирян, подпирается привилегированной кастой богословов, которые знают богазамирян. Однако прочность схоластической подпорки вызывает сомнения у всякого, кто хоть однажды дал себе труд исследовать материал, из которого она изготовлена. Внушительная с виду (впечатляющая объемом втиснутой в нее богословской эрудиции), система верознания на поверку оказывается шаткой: она держится на логических ухищрениях и натяжках.
Этот декадансный результат схоластического стремления к верознанию и ставит в центр внимания Мартин Лютер. Мы не найдем в его сочинениях детальной логической критики схоластики (критики, мастерами которой были Дунс Скотт, Уильям Оккам и Роджер Бэкон).[41]
[Закрыть] /86/ Реформатора интересует прежде всего известный тип «познавательного поведения», «применения ума».
Первоисток схоластического засилия Лютер видит в авторизации веры – в том, что священное значение Писания было уже много веков назад заслонено священством папы и церкви. Схоластика существует «по поводу догматов» и развивается потому, что санкционирующий их авторитет становится шатким. Церковь выдвигает на первый план весомость ученого мнения, поскольку ее собственное все менее почитается. Начав с диктата над совестью, с обуздания непосредственной первохристианской религиозности, она кончает тем, что ставит на место веры в бога веру в тех, кто достоверно знает бога. Она хватается, как за соломинку, за суеверное почтение профана к титулованной эрудиции, обладатель которой на самом деле живет в мире сомнений, предположений и логической путаницы.
Схоластика – лекарство против девальвации авторитарной веры, но лекарство, которое не лечит, а в лучшем случае утоляет боль и позволяет больному до времени ощущать себя здоровым. Схоластический разум – образцовый представитель беспринципной рациональности, которая готова обосновывать все, что ей велено обосновать, и умеет симулировать ощущение логической достоверности. Рациональность эта заслуживает имени «потаскухи», «продажной блудницы».[42]
[Закрыть]
Путь к оздоровлению религиозного сознания Лютер видит в усилии, противоположном авторитарному и схоластическому: надо освободить веру от уже расшатанного папского диктата и отказаться от анестезии богословских «рациональных доказательств». Надо позволить /87/ христианину дойти до предела личных сомнений, а затем прямо обратить его к тексту Писания. Только персональное вслушивание в слово откровения, не заслоненное ни церковными догматами, ни подпирающими их «схоластическими умствованиями», способно возродить христианскую религию в ее первоначальной непосредственной достоверности.
О своем отношении к схоластике Лютер впервые заявил летом 1517 года (тезисы на эту тему – увы, нигде не диспутировавшиеся – предшествовали знаменитым «Тезисам» об индульгенциях). В январе 1518 года он вновь затронул проблему схоластического богословия в программном сочинении, получившем название «Гейдельбергская диспутация». Уже эти документы достаточно определенно очерчивают общую позицию Лютера.
Бог в его самобытии определяется как «вещь непознаваемая», абсолютно трансцендентная по отношению к способности рационального осмысления мира. Любую попытку исследовать, чтóесть бог, или хотя бы доказывать, что онесть, реформатор считает тщетной и ложной. Бог лишь настолько известен человеку, насколько сам пожелал открыться ему через Писание. То, что в Писании понятно, надо понять; то, что непонятно, следует принять на веру, памятуя, что бог не лжив. Вера и понимание суть единственно посильные для человека способы отношения к творцу. Они ни в каком смысле не являются знанием, поскольку имеют в виду не субстанцию, сущность или акциденции божества, а только волю, выраженную в заповедях и деяниях богочеловека. Интерес к богу, если воспользоваться позднейшими, кантовскими терминами, должен быть морально-практическим, а не теоретическим. В «Гейдельбергской диспутации» Лютер выражает это так:
«Не тот по праву называется теологом, кто силится воспринять и познать непостижимую сущность Бога из его творения. – Это резко означено словами апостола (К Римл. I, 22): «называя себя умными, были безумны». – Непостижимая сущность Бога есть его сила, божественность, мудрость, справедливость, благость и т. д. Познание всех этих вещей никого не делает мудрым и достойным. Но по праву называется теологом тот, кто постигает то, что явлено из сущности Бога по его же воле, явлено применительно к миру, а именно – через страдание и крест. Применимое к миру, явленное из сущности Бога, прямо противостоит тому, что в нем непостижимо, это его человечность… Именно потому, что люди злоупотребляют /88/ познанием Бога на основе его творений. Бог со своей стороны сам пожелал, чтобы он постигался из страданий, пожелал опровергнуть мудрость непостижимого мудростью явленного…».[43]
[Закрыть]
Термин «схоластика» в тексте «Гейдельбергской диспутации» стремление к рациональному богопознанию, обосновывающему веру, объявляется суетным и соблазнительным – таким, которому сам бог противодействует в акте откровения.[44]
[Закрыть] Живые участники гейдельбергского диспута прекрасно поняли это. Молодой гуманист Мартин Бутцер – впоследствии один из руководителей верхнегерманской реформации – в письме к другу следующим образом аттестовал выступление Лютера: «Это воистину был тот, кто положил в Виттенберге конец господству схоластики…».[45]
[Закрыть]
Позиция Лютера восходит к учению о «двойственной истине», развитому аверроистами XIII века и радикализированному Оккамом. Большинство приверженцев этого учения пользовалось им для отстаивания относительной самостоятельности рационального (внутримирского) философствования; встречались и такие, которые с его помощью хотели очистить самое теологию. Но каковы бы ни были субъективные побуждения защитников «двойственной истины», само это учение вплоть до XVII века оставалось существенным фактором секуляризации. Оно работало против теологического мировоззрения тем эффективнее, чем решительнее (пусть даже по сугубо религиозным мотивам) отстаивалась дихотомия разума и веры. Последнее важно принять во внимание при оценке позиции Лютера. /89/
Мысль о несовместимости рационально-философских и экзегетически-богословских истин доводится этим радетелем веры до крайней остроты. Если аверроизм утверждал, что истинное в философии может быть ложным в богословии (или наоборот), то Лютер считает подобный эффект обязательным, непременным. Он настаивает не на взаимной терпимости разума и веры, а на категорической непримиримости веры кразуму, обосновывающему веру, и на категорической непримиримости разума квере, пытающейся ориентировать разум в его посюстороннем, мирском исследовании. Эпистемология реформатора – это «эпистемология границ», и многие лютероведы XIX и XX веков не без основания именовали его «Кантом XVI столетия».[46]
[Закрыть] В сочинениях и проповедях Лютера мы находим две коррелятивно связанных критики: критику разума, выходящего за пределы объективно познаваемого, и критику веры, стремящейся за пределы экзегетически понятного. Лютеровское обличение схоластики по преимуществу представляет собой критику разума, который утратил сознание своих законных границ.[47]
[Закрыть]
Областью, где разум компетентен, Лютер признает «мир» и «мирское» – то, что существующее общее сознание (а таковым для XVI века было сознание религиозное) означало как «посюстороннее» в отличие от «потустороннего» и как «сотворенное, временное, обусловленное» в отличие от «творящего, вечного, абсолютного». «Посюстороннее бытие» неисчерпаемо богато, многослойно и до скончания времен будет давать достаточно пищи для «благочестивой философии».[48]
[Закрыть] /90/
К сожалению, этой «благочестивой философии», или «хорошего философствования», как в другом месте выражается Лютер.[49]
[Закрыть], не сыщешь в существующих университетах. Прижившиеся здесь схоластические учения не ведают границ разума и практикуют его прежде всего в той сфере, где он некомпетентен. «Разум должен иметь дело с тем, что ниже нас, а не с тем, что над нами»[50]
[Закрыть], схоластик же видит славу свою в том, что рационально судит о потустороннем (например, ищет формулу для измерения силы божьей или для сравнения тела ангелов с человеческим телом). Он тщится с помощью спекуляции рационально освоить такие предметы, которые поначалу сам определил как сверхразумные[51]
[Закрыть]. Он не только не вносит ясности в неясное, но и делает ясное неясным.[52]
[Закрыть]
Показательно, что стремление схоластики к познанию запредельного и к рациональному обоснованию истин откровения Лютер ставит в один ряд с ее страстью «всеобъяснения». Школьная философия испытывает какой-то интеллектуальный зуд, когда сталкивается с непосредственной достоверностью восприятия, вкуса или нравственного чувства. Ей непременно надо растолковать, почему матери следует любить свое дитя; почему мы видим белое белым; почему стихи Овидия приятны для слуха и т. д. Можно сказать, что в критическом анализе Лютера схоластика предстает как одна из ранних разновидностей сциентизма.
Ядром схоластического философствования были, как известно, рациональные доказательства бытия бога. Три из них Лютер подвергает критике.
Онтологическое доказательство реформатор оспаривает как теолог-экзегетик. Он допускает, что человек уже от рождения (так сказать, априорно) наделен идеей о совершенном существе, которое не может не обладать атрибутом существования. Человек имеет даже зачаток его конкретного понимания, ибо мыслит бога «как такого рода вещь (ding), которая всем помогает».[53]
[Закрыть] Однако едва только эта идея и это понимание начинают развертываться в доказательство (рационально обосновываться), как /91/ образ бога становится ложным. Бог, бытие которого является одним из атрибутов его совершенства, – это безличный «неподвижный двигатель» Аристотеля, или демиург римлян, или мироправитель древних евреев, но никак не распятый бог христиан, именующий себя Спасителем.[54]
[Закрыть] Бренность Иисуса противоречит понятию совершенства, на котором держится все онтологическое доказательство. Последнее куда больше годится поэтому для идолопоклонства, чем для «истинной религии».[55]
[Закрыть] Если отбросить конфессиональную узость этого рассуждения, то интересная догадка Лютера состоит в следующем: ни одна из исторических религий не может довольствоваться той абстракцией бога, существование которой утверждается онтологическим доказательством: философы онтологизируют в нем бога философов, а не доказывают бытие тех богов, в которых на деле верили народы.







