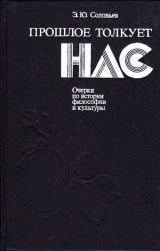
Текст книги "Прошлое толкует нас"
Автор книги: Эрих Соловьёв
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
В 1935 году Хемингуэй написал свой очерк «Кто убил ветеранов войны во Флориде?». Факты, приведенные в этом очерке, не оставляют сомнения в том, что двусмысленная благотворительность по отношению к ветеранам была на деле политикой гонений. В США эта политика имела своим результатом высылку ветеранов на Флоридские острова в период ураганов и гибель сотен людей. Участники войны были вытолкнуты из общества в природу, и их трупы выглядели совершенно так же, как выглядели трупы солдат на полях сражений.
Не менее страшным было то сентиментальное отвержение, которым встречала ветеранов обывательская и полуобывательская среда. Им сочувствовали, как сочувствуют умалишенным; к ним относились так, как относятся к людям, потрясенным случайной уличной катастрофой. В этой сентиментальной снисходительности и крылась, пожалуй, самая страшная ложь.
Люди, видевшие войну, присутствовали не при кровавом происшествии, не при эксцессе. То, что им открылось, было законом и нормой существующего общества.
Так кто же в таком случае был «аномален», не приспособлен к исторической реальности: те ли, кто прозрел в окопах, или те, кто сжился с деловым угаром стабилизации?
Этот вопрос стал основным в произведениях Хемингуэя, посвященных послевоенному периоду. То, что оптимизм, /250/ присущий данному периоду, был иллюзорен, писатель видел с самого начала. Но как возникли, как оказались возможными оптимистические иллюзии?
Может быть, миллионы людей просто не ведали о том, что такое война? Или, может быть, в них возобладало ни о чем не спрашивающее жизнелюбие, которое заставляет человека каждый раз начинать сызнова, не оглядываясь на утраты и предоставляя мертвецам хоронить своих мертвых?
Хемингуэй настаивает на том, что эти предположения неправильны.
Воздействие войны испытали все страны, и повсюду (даже в Америке) было известно, что она такое. Источник легковерного оптимизма писатель видит не в незнании войны, а в том неполном и поверхностном соприкосновении с ней, из которого рождаетсястрах, в отсутствии у массы народа исчерпывающего переживания кризиса и поражения, испытанного солдатской массой.
Это переживание, как мы уже видели, резюмировалось вовсе не в отчаянии. «Вы представления не имеете о разгроме, если думаете, что он порождает отчаяние», – справедливо заметит двадцатью годами позже Антуан де Сент-Экзюпери. Те, кто убедился, что война не просто кровавое происшествие, но закономерное кризисное обнаружение существующего общества, открытая возможность полного краха, – уже стояли по ту сторону панического испуга, на позициях стоического или революционного мужества. Но, помимо них, существовала масса людей, которые были просто травмированы и деморализованы войной. И это были как раз те, для кого бедствия войны остались историческим недоразумением, в масштабах общества разразившейся случайностью.
Существует хорошо известный психологический парадокс. Опасность, с которой человек только соприкоснулся, делает его трусом; опасность же, испытанная сполна, рождает решимость.
Эта тема не случайно привлечет внимание Хемингуэя в середине 30-х годов (в тот же период, когда появился уже цитированный нами фельетон «Старый газетчик», где Хемингуэй говорит о недостатке опыта военного разгрома в странах Европы).
Герой рассказа «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» дважды сталкивается с рискованной ситуацией: в первый раз он просто соприкасается с нею, и его охватывает страх, во второй раз он переживает ее сполна, как /251/ катарсис, и это рождает мужество. В рассказе речь идет об охоте, но вот что думает о Фрэнсисе его проводник Уилсон:
«Бедняга, наверно, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончено. Буйвола он не успел испугаться. К тому же был зол… Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезней событие, чем невинность потерять. Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине».[9]
[Закрыть]
Слова о войне – не случайность. Сама судьба Фрэнсиса Макомбера (он гибнет, едва успев родиться для мужества) – как бы напоминание о ней. Таков был удел многих людей, для которых война стала катарсисом перед безусловной решимостью. Уцелели другие: те, кто знал войну по рассказам, кого она коснулась страхом голода, страхом перед демобилизацией, страхом за тех, кто ушел воевать, в лучшем случае – страхом новичка, участвовавшего в одном-двух последних сражениях. Тот, кто уцелел, чаще всего оказывался человеком, пережившим войну как кошмарное наваждение, в котором ему открылся не крах существующего общества, а его собственная беззащитность, уязвимость, смертность. Война оказалась для него опытом собственной незначительности и униженности, и поэтому он старался вытеснить ее из сознания, как невротик пытается вытеснить всякое напоминание об однажды перенесенном жизненном падении. Хемингуэй не верил в то, что быстрое забвение войны в странах Запада было результатом здорового изживания прошлого несчастья. Скорее – это патологическая беспамятность (еще точнее – безответственность памяти): она вытекает из потребности забыться, грезить, избежать самоотчета.
Возродившиеся в 20-х годах оптимизм и деловитость также не следует путать с наивным жизнелюбием. Они вырастают на почве непреодоленного страха, опустошенности и отчаяния. Это самоаффектация общества, которое пытается не думать о своем унизительном прошлом и спрятаться от этого унижения в текущие дела и заботы. Все, что попадает под руку, это общество превращает в наркотик, усыпляющий историческое сознание, и если прежде был известен один вид духовного дурмана – утешительная ложь религии, то теперь для одурманивания годится все: экономическая пропаганда, реклама новых форм правления, алкоголь, игра, эротика и, конечно, экономические /252/ подачки. Они – лучшая пища для мирской невротической мечтательности.
В 1933 году Хемингуэй написал редко вспоминаемый, но достойный самого пристального внимания рассказ «Дайте рецепт, доктор». Герой рассказа – некий мистер Фрэзер, находящийся на излечении в мексиканском госпитале, – приходит к следующему заключению, которое после всего вышесказанного едва ли покажется удивительным:
«Религия – опиум для народа… А теперь экономика – опиум для народа; так же, как патриотизм опиум для народа в Италии и Германии. А как с половыми сношениями? Это тоже опиум для народа. Для части народа. Для некоторых из лучшей части народа. Но пьянство – высший опиум для народа, о, изумительный опиум! Хотя некоторые предпочитают радио… Наряду с этим идет игра в карты, тоже опиум для народа, и самый древний. Честолюбие тоже опиум для народа, наравне с верой в любую новую форму правления… Liberty! Свобода, в которую мы верили, стала теперь названием журнала Макфэддена. Мы верим в нее, хотя не нашли еще для нее нового имени. Но где же настоящий? В чем же настоящий подлинный опиум для народа? Он знал это очень хорошо. Это только пряталось в каком-то уголке мозга, который прояснялся по вечерам после двух-трех рюмок… Ну, конечно, хлеб – опиум для народа…».[10]
[Закрыть]
Эти размышления доктора Фрэзера достаточно ясно выражают взгляд Хемингуэя на послевоенный буржуазный мир. Общество, рекламирующее свой жизнеутверждающий реализм, трезвость, деловитость, политическое и религиозное одушевление, в действительности находится в сомнамбулическом состоянии. Зоркому наблюдателю оно преподносит самые неожиданные сюрпризы: делатели карьеры на поверку оказываются «несчастными идеалистами» (в рассказе «Дайте рецепт, доктор» это игрок Каэтано), а набожные люди – жертвами мирской мечтательности (сестра Цецилия).
Сознание типичного представителя послевоенного периода оказывается, иными словами, не только ложным, но и лживым, не только ограниченным, но и больным. И трагическое мироощущение очевидцев войны противостоит этому сознанию не только как горькая правда, но и как внутренняя правдивость, цельность, духовное здоровье.
Этот факт был ясен Хемингуэю задолго до написания /253/ фельетона «Старый газетчик» и рассказа «Дайте рецепт, доктор».
В 1926 году вышел в свет его первый роман «И восходит солнце» («Фиеста») – книга, поразительная по господствующему в ней мироощущению: в послевоенную западную культуру, мечущуюся между пошлой удовлетворенностью и нигилизмом, эйфорией и отчаянием, опьянением и похмельем, неожиданно вливается струя ясности, свежести, незамутненности. Кто же был носителем этого уже немыслимого, казалось бы, мироощущения? – ветеран, калека, типичный духовный представитель «потерянного поколения».
«Фиеста» – это как бы развернутый ответ на официальные и обывательские упреки по адресу людей, переживших войну, – упреки в опустошенности, черствости и отсутствии вкуса к жизни.
Хемингуэй показывает, что в тех случаях, когда очевидцам войны удалось избежать нищеты или унизительной полуголодной благотворительности, они оказывались теми единственными, кто сохранил подлинное жизнелюбие и сумел противостоять повсеместному соблазну наркоза.
Я не случайно делаю оговорку насчет нищеты и полуголодной благотворительности. Судьба ветерана войны рассматривается в «Фиесте» в сильном отвлечении от действительно массового и типичного случая. Герои романа – люди состоятельные, трудоспособные и не обремененные семьей. Им легче, чем другим, остаться верными однажды выстраданной истине, ощущать себя навсегда демобилизовавшимися из общества. Их не гонит обратно жестокая плеть нужды, отупляющая забота о хлебе насущном.
Неподверженность другим видам опиума – это уже дело их собственного выбора и сознательно принятой позиции.
Показательно, что ни один из героев «Фиесты» не испытывает делового и карьеристского одушевления, характерного для западного общества 20-х годов, не участвует в погоне за синей птицей успеха. Это способные и умелые люди, но они слишком хорошо понимают, чего на деле стоит лозунг «удача посредством труда».
Очень интересно отношение к работе, которое демонстрирует главный герой романа Джейк Барнс.
Джейк – сотрудник одной из американских газет в Париже. Он хороший репортер и любит свою профессию. Однако Джейк всегда занят делом между делом, он работает /254/ примерно так, как застилают постель или моют посуду. Трудятся голова и руки, но сознание остается где-то в стороне: оно не принадлежит тому миру, которому по содержанию принадлежит работа. На всякого рода идейное воодушевление в вопросах дела Джейк смотрит с иронией и подозрительностью. Самое большее, чего оно может потребовать от человека, – это честность в критической ситуации: решительный отказ, если тебя пытаются заставить лгать, выдумывать или притворяться.
Еще меньше одушевления вызывает у героев «Фиесты» освещаемая в газетах политика и так называемые «социальные проблемы». Для Джейка и его друга Билла – это тема шутливых пикировок за завтраком.
Герои Хемингуэя ясно ощущают эфемерность послевоенной стабилизации. Увлечься ее проблемами, посвятить свои силы и интересы мышиной возне, прикрываемой лозунгами политического действия, значило бы для них предать однажды выстраданную истину.
Герои «Фиесты» более всего напоминают солдат, находящихся в отпуску. Они никогда не причисляют себя к тем группам, в которые включены по своим служебным обязанностям в мирное время. Их совместность – это общая память о войне, а еще чаще – молчаливое присутствие войны во всяком разговоре и размышлении. И заняты они тем, чем обычно заняты солдаты в отпуску – времяпрепровождением.
Мистер Фрэзер из рассказа «Дайте рецепт, доктор» обнаружил, как мы уже упоминали, что и времяпрепровождение знает свои разновидности опиума. «Пьянство – высший опиум для народа, о, изумительный опиум», – говорил он. Не пристрастны ли герои «Фиесты» к этой разновидности опиума?
И Джейк, и Брет, и Билл, и Майкл пьют; случается, пьют так, что, по словам Брет, их «нельзя уже догнать». И все-таки выражение «пьянство» к ним неприменимо, потому что вино для них – не наркотик. Никто из этих людей не пьет для того, чтобы забыться, получить алиби невменяемости и делать то, что он не мог бы позволить себе, будучи трезвым.
В тех случаях, когда они, как говорит Барнс, «просто попивают винцо», дело вообще не в винце, а в застолье, и выпивка есть только обряд, означающий, что всем собравшимся приятно видеть друг друга и быть откровенными. «Попивая винцо», герои «Фиесты» острее ощущают свое родство в обособленности от остального мира и прошлое, /255/ которое связывает их и остается с ними как общий знак отличия.
В тех же случаях, когда эти люди «перебирают», с ними происходят удивительные вещи. Вместо того чтобы забыться, они опоминаются, и в их голову лезут самые важные и ясные мысли. (Вспомним, кстати, что сам мистер Фрэзер сказал в наиболее меткой и трезвой из своих реплик: «Он знал это очень хорошо. Это только пряталось в каком-то уголке мозга, который прояснялся по вечерам после двух-трех рюмок…»)
Джейк Барнс еще острее ощущает это состояние. Именно тогда, когда кровать ходуном ходит под ним, для Джейка наступает момент изречения неизреченных мыслей, возвращения к тем коренным вопросам, которые заслонялись суетой дня. Именно тогда Джейк находит формулы, которые впервые выражают его целиком. Вот одна из них: «Мне все равно, что такое мир. Все, что я хочу знать, это как в нем жить. Пожалуй, если додуматься, как в нем жить, тем самым поймешь, каков он».[11]
[Закрыть] Это уже известная нам идея безусловной первичности нравственной позиции. Непосредственное нравственное чувство обосновывает все другие отношения к действительности, само же в своей абсолютной простоте оно не нуждается ни в каких обоснованиях и опирается на прямые свидетельства совести: «Это и есть нравственность: если после противно…».[12]
[Закрыть] Опьянение оказывается для Джейка моментом экзистенциального отрезвления, напряженным бодрствованием сознания.
«А как с половыми сношениями? Это тоже опиум для народа. Для части народа. Для некоторых из лучшей части народа». Так говорил мистер Фрэзер.
Действительно, а как у героев «Фиесты» с половыми сношениями?
Прежде чем ответить на этот вопрос, мы постараемся разобраться в другом: почему Хемингуэй считает половые сношения разновидностью опиума, и такой разновидностью, которая предпочитается лучшими?
Хемингуэй – писатель, который дал, возможно, самое прекрасное и чистое в двадцатом столетии изображение любви. Любовь есть единство выбранного мира, духовное принуждение к физической близости. В пику ханжам можно было бы сказать, что любить и избегать близости /256/ не только трудно, но еще и безнравственно. Но также безнравственно сохранять близость, когда единый мир уже отсутствует или когда его уже перестали выбирать (рассказ «Что-то кончилось»). Еще хуже превратить саму близость в мир, то есть укрыться друг в друга от реальности. Здесь-то половые сношения и превращаются в опиум.
Это, несомненно, наиболее рафинированный из всех видов дурмана, потому что в качестве наркотика используется сам человек. Такой наркотик годится для удовлетворения всех видов мирской мечтательности: грезы о признании, грезы о достоинстве, об успехе, о физической полноценности. Это самое красивое из всех опьянений, но и похмелье после него бывает самым безобразным. Вот что бросает Элен Гордон в лицо своему мужу в минуту семейной ссоры (роман «Иметь и не иметь»):
«…Любовь – это пилюли эргоапиола, потому что ты боялся иметь ребенка. Любовь – это хинин, и хинин, и хинин до звона в ушах. Любовь – это гнусность абортов, на которые ты меня посылал. Любовь – это мои искромсанные внутренности. Это катетеры вперемежку со спринцеваниями. Я знаю, что такое любовь. Любовь всегда висит в ванной за дверью. Она пахнет лизолем. К черту любовь. Любовь – это когда ты, дав мне счастье, засыпаешь с открытым ртом, а я лежу всю ночь без сна и боюсь даже молиться, потому что я знаю, что больше не имею на это права. Любовь – это все гнусные фокусы, которым ты меня обучал и которые ты, наверное, вычитал из книг».[13]
[Закрыть]
А через пять минут после того как была произнесена эта тирада, Элен Гордон снова смотрит на мужа теми глазами, какими смотрит на бутылку алкоголик, только что проклявший вино.
«– Господи, – сказала она. – Как бы я хотела, чтоб этого не случилось… Если б еще я не наговорила столько всего или если б ты меня не ударил, может, и можно было еще все уладить.
– Нет, все было кончено еще до этого…
– Мне жаль, что я сказала, будто ты плохой любовник. Я в этом ничего не понимаю. Ты, наверно, замечательный.
– Думаешь, ты – совершенство? – ответил он.
Она опять заплакала».[14]
[Закрыть] /257/
Настоящая любовь – а сама любовь не есть опиум – появляется в романах Хемингуэя на вершине трагедии, когда уже нет надежды и в то же время ясно, что жизнь стоит того, чтобы быть прожитой. Не случайно высочайшее изображение любви мы находим в самой трагической из трагедий Хемингуэя – романе «По ком звонит колокол».
Всего семьдесят часов смогут любить друг друга Джордан и Мария. Их героическая борьба без надежды на успех продлится столько же. Но соединение одного с другим спрессовывает время, вызывает ощущение мгновения, превратившегося в вечность. «Если для меня, – говорит Джордан, – не существует того, что называется очень долго, или до конца дней, или отныне и навсегда, а есть только сейчас, что ж, значит, надо ценить то, что сейчас, и я этим счастлив».
Любовь ничего не замещает, она просто есть, она сама жизнь, которая приносится в жертву, и ее нельзя сравнить ни с чем другим, а только с целью, ради которой жертвуется жизнь: «Я люблю тебя, как люблю все то, за что мы боремся. Я люблю тебя так, как люблю свободу и человеческое достоинство и право каждого работать и не голодать. Я люблю тебя так, как люблю Мадрид, который мы защищали, и как я люблю всех моих товарищей, которые погибли в эту войну…».
В романах и рассказах, посвященных послевоенной стабилизации, которая требует от людей, чтобы они не жили, а копошились, полноценной любви вообще нет. Многие из этих рассказов справедливо объединяются И. Кашкиным в серию повествований о «крушении семейных и любовных идиллий».
Там, где любовь становится последней ставкой, последней надеждой, последним прибежищем человеческой цельности, искренности и гордости, она обречена и нередко превращается в ловушку.
Если бы Хемингуэй сделал любовь целиком доступной для героя «Фиесты», он, вероятно, потерял бы его в этом омуте. Представитель «потерянного поколения» мог пить и не стать пьяницей, но он не мог любить и не наркотизировать себя любовью, потому что в окружающем мире не было ни задач, ни символов, ни обязанностей, которые могли бы помешать ему забыться в другом человеке.
Итак, от опиума половых сношений, самого утонченного и благородного из всех опиумов, хемингуэевский /258/ герой не свободен. Этим, на наш взгляд, и объясняется удивительное решение вопроса в «Фиесте».
Джейк Барнс любит Брет и тем не менее сохраняет бодрственную ясность сознания; каждую минуту он лицом к лицу с реальностью. Бодрствование Джейка сторожит увечье.
Война сделала Барнса самым неуязвимым для иллюзий: она оскопила его. Печать этого оскопления лежит на всем романе: на его сюжете, на переданном в нем ощущении времени и вещей.
Увечье Джейка Барнса – это сама война. Мы уже говорили, что она никогда не была для Хемингуэя воплощением романтической жестокости, кровожадности, мести, достойных высокой трагедии. Война была кровавым фарсом, и жестокость шла в ней рука об руку с нелепостью, стихийной слепотой и невероятностью обстоятельств. Потерять руку или сделаться человеком с благородным шрамом на лице – это больше соответствовало эпохе Наполеона и Нельсона. А в 1918 году люди возвращались такими, словно их специально отделывали для маскарада уродов: и жутко, и смешно, и стыдно, и нелепо, и удивительно. Джейк Барнс коротко и ясно выражает все это, когда говорит: «Да, глупо было получить такое ранение, да еще во время бегства на таком липовом фронте, как итальянский».[15]
[Закрыть]
В какое же отношение к миру ставит Джейка его увечье? Казалось бы, он больше, чем кто бы то ни было, имеет основание оказаться человеком ущербным, анемичным, бесчувственным. Но в «Фиесте» мы видим нечто совершенно иное.
Мы видим, например, что из всех героев романа Джейк Барнс едва ли не единственный, способный любить до самозабвения. Брет ни на секунду не перестает существовать для него: она – вечно наличествующее мучение, недосягаемость, неосуществимость. Оскопление избавило Джейка не от любви, а от возможности жить любовью, не от чувства, а от тех надежд, которые обычно возлагаются на него. Действительное страдание Барнса в том, что он лишен возможности утвердиться в самой пленительной и полнокровной из мирских иллюзий. Он не может уповать на наслаждение близостью, на вечное одиночество вдвоем и тем более – на закрепление этого одиночества /259/ браком, уютом, детьми и завистью всех, кто будет со стороны смотреть на его счастье.
В любви Джейка Барнса нет сексуального и семейного «жизненного проекта», который сплошь и рядом остается последней нитью, связывающей честного человека с миром честолюбия, приобретательства и личной карьеры.
Завышенные ожидания в отношении любви и брака есть вариант потребительски-приобретательской идеологии «для части народа, для некоторых из лучшей части народа». Тех, кого нельзя наркотизировать мечтой об автомобиле, о тряпках, о новейшем стандарте мебели, наркотизируют мечтой о новейшем стандарте женщины, в который уже заранее включены и автомобиль, и тряпки, и мебель.
Неудивительно, что эротизация культуры вообще оказывается одной из важнейших особенностей потребительского общества. Эрос – это специфичный для него мирской спиритуализм. Двадцатые годы, когда начали формироваться потребительски-приобретательские установки, были временем бурной эротизации рекламы, прессы, массового искусства, временем широкого проникновения сексуальных толкований в теорию личности, психологию масс, в этнографию и даже политическую историю.
Вот как передает один из героев «Фиесты», Билл Гортон, популярные в 20-х годах изображения американской революции: «Авраам Линкольн был гомосексуалист. Он был влюблен в генерала Гранта. Так же как Джефферсон Дэвис. Линкольн освободил рабов просто на пари. Судебное дело о Дреде Скоте было подстроено Лигой Сухого Закона. Все это – половой вопрос».[16]
[Закрыть] Этот шарж (а Билл, конечно, шаржирует то, что он читал и слышал) – часть разговора, в котором неожиданно оказался затронутым физический дефект Джейка. Ирония Билла относится к эротическому безумию, в котором Барнс никогда не сможет участвовать. Она есть форма извинения, утешения и осторожного разъяснения тех преимуществ, которыми обладает Джейк.
Джейк Барнс не выхолощен, – он просто огражден от вездесущей сексуальной мечтательности, и огражден не бесчувственностью, которую можно было бы приписать скопцу, а трагической любовью без надежды на близость.
Мир перестал существовать для его либидо, но тем полноценнее он стал для глаза, для уха, для языка и руки. /260/
О Барнсе можно сказать то, что Хемингуэй сказал об одном из любимых своих художников – Гойе. Гойя верил «в то, что он видел, чувствовал, осязал, держал в руках, обонял, ел, пил, подчинял, терпел, выблевывал, брал, угадывал, подмечал».[17]
[Закрыть] В восприятии Джейка и в его описаниях (Барнс не только главный герой «Фиесты», но и рассказчик) отсутствует лирико-метафорическое отношение к вещам. Мир выступает для него с той же прямотой и свежестью, с какой он открывается ребенку. Это реальность в ее первозданности, в простом наличии красочного, вязкого, тягучего, студеного, терпкого.
Рассказ Барнса – это всегда прямые описания. Вот одно из них:
«Ее (плотину) соорудили, чтобы сделать реку пригодной для сплава леса. Творило было поднято, и я сел на одно из обтесанных бревен и смотрел, как спокойная перед запрудой река бурно устремляется в водоскат. Под плотиной, там, где вода пенилась, было глубокое место. Когда я стал наживлять, из белой пены на водоскат прыгнула форель, и ее унесло вниз. Я еще не успел наживить, как вторая форель, описав такую же красивую дугу, прыгнула на водоскат и скрылась в грохочущем потоке».[18]
[Закрыть]
Вот другое:
«Впереди, за красным барьером, желтел укатанный песок арены. В тени он казался немного отяжелевшим от дождя, но на солнце он был сухой, твердый и гладкий. Служители и личные слуги матадоров шли по проходу, неся на плечах ивовые корзины. В корзинах были плотно уложены… запачканные кровью плащи и мулеты. Слуги матадоров открыли тяжелые кожаные футляры, прислонив их к барьеру, так что видны были обернутые красным рукоятки шпаг. Они развертывали красные, в темных пятнах мулеты и вставляли в них палки, чтобы ткань натягивалась и чтобы матадору было за что держать ее».[19]
[Закрыть]
Обычно человек воспринимает и описывает окружающую реальность в свете определенной цели, которой он одушевлен: смотрит на нее идеологически, утилитарно, лирически, эротически – сообразно тому, что диктует ему его жизненная конъюнктура. И коль скоро эта конъюнктура существует, о «непредвзятости», «незаинтересованности» не может быть речи. /261/
Но у Джейка Барнса нет жизненной конъюнктуры: он ничем не воодушевлен и ни на что не рассчитывает. Значит ли это, что его дух выжжен, а глаз мертв?
Оказывается, нет. Оказывается, именно потому, что Джейк наиболее типичный представитель «потерянных людей», реальность выступает для него в простом богатстве существования, которое скрыто для других. В описаниях Барнса каждая вещь сразу и целиком раскрывает себя. Это непреложная наглядность мира и бескорыстная устремленность в мир: та непреложная наглядность, с которой трава, деревья, небо открываются смертельно раненному («вот все, больше ничего не будет»), и та бескорыстная устремленность, которая оживает в нем, возвращая к раннему детству, где все было одинаково интересным, важным, пленительным и таинственным.
Восприятие Джейка Барнса постоянно остается на уровне катарсиса, который обеспечивала война. Кажду вещь и каждое событие он умеет видеть так, как увидел бы ее солдат, находящийся на грани гибели. Джейк живет в сознании незаместимой ценности мгновения: в любую минуту мир существует для него «в первый и последний раз» – так, словно он поставил перед собой задачу удержать каждое переживание для вечности и умереть с ним.
Но Джейк Барнс – не только хранитель восприятия окопных героев, он еще и наследник их исторического сознания. Он прекрасно понимает, что это сознание, удостоверенное величайшим кризисом, через который прошла буржуазная цивилизация, имеет древние и подлинно народные истоки.
«И восходит солнце» – роман о путешествии в Испанию на фиесту. Случаен ли этот сюжет и случайно ли воодушевление, которое вызывает фиеста у Джейка Барнса?
3. И восходит солнце
В 20—30-х годах жизненный опыт ветерана и его взгляд на послевоенную жизнь нашел определенный отклик в западной культуре. Можно назвать ряд появившихся в этот период философских и социологических работ, авторы которых прямо говорили о ценности мировосприятия «тихого окопного героя», о том, что мир после Версаля это только передышка между двумя войнами, что реальным состоянием буржуазного общества является неизжитый, лишь временно закамуфлированный кризис, обнаруживший /262/ себя в войне, в сложном предреволюционном брожении человеческих масс.
Западноевропейская «философия кризиса» была далека от тех выводов, к которым приводил марксистский анализ капитализма. И в то же время она решительно порывала с рядом представлений, типичных для благодушного либерального историцизма, по-новому ставила вопрос о разрыве постепенности в историческом процессе, об ответственности личности в условиях неопределенности, о «предельных ситуациях в истории» и т. д.
У людей, размышлявших над всем этим, естественно, возникали и вопросы философско-исторического характера, которых, как можно судить по книге «Смерть после полудня», по фельетону «Старый газетчик» и ряду корреспонденций, был не чужд и Хемингуэй.
Не является ли вся человеческая история (по крайней мере прежде прожитая история) таким процессом, где периоды стабилизации были лишь паузами и передышками? Не совершалось ли основное историческое действие именно в моменты глубоких надломов, когда делался возможным любой исход и все зависело от человеческой стойкости и мужества? И не существовало ли уже в далеком прошлом представление о том, что состояние неопределенности, открытой борьбы, незащищенности от насильственной смерти является постоянно возвращающейся исторической реальностью?
Если бы Хемингуэй был историком, он имел бы возможность обнаружить следы такого понимания почти повсеместно. Прежде всего он встретил бы это понимание у самых истоков европейской цивилизации – в античности, где народной формой переживания истории были мистерии.
Мистерии представляли собой народное средство против забывчивости и успокоенности, против иллюзии абсолютной прочности и надежности политических учреждений. С помощью мистерий народ напоминал себе о существовании беспощадной реальности, «первой природы», которая может неожиданно вторгнуться в упорядоченный социальный мир и потребовать от человека решимости, экстатического одушевления, умения доверять самым Древним (в строгом смысле слова «досоциальным») нормам человеческого общежития.
Близким родственником мистерий является старый (еще в дохристианскую эпоху возникший) испанский народный праздник – фиеста. /263/
В книге «Смерть после полудня» (произведение, которое формально является трактатом о бое быков) Хемингуэй достаточно ясно излагает причины своего интереса и любви к этому празднику, который на время займет важное место в его творчестве.
«Войны кончились, – пишет Хемингуэй, – и единственное место, где можно было видеть жизнь и смерть… была арена боя быков, и мне очень хотелось побывать в Испании, чтобы увидеть это своими глазами».[20]
[Закрыть]
Еще раньше:
«Два условия требуются для того, чтобы страна увлекалась боем быков. Во-первых, быки должны быть выращены в этой стране, и, во-вторых, народ ее должен интересоваться смертью. Англичане и французы живут для жизни. У французов создан культ почитания усопших, но самое главное для них – повседневные житейские дела, семейный очаг, покой, прочное положение и деньги. Англичане тоже живут для мира сего и не склонны вспоминать о смерти, размышлять и говорить о ней, искать ее или подвергать себя смертельной опасности, иначе как на службе отечеству, либо ради спорта или за надлежащее вознаграждение. А в общем – это неприятная тема, которую лучше обходить, в крайнем случае можно сказать несколько душеспасительных слов, но уж никак не следует вникать в нее…».[21]
[Закрыть]







