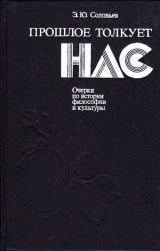
Текст книги "Прошлое толкует нас"
Автор книги: Эрих Соловьёв
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
В 60-х годах нашего века в ряде стран Европы получают широкое распространение анархо-авантюристические трактовки революции. Представители «новых левых» прокламируют ее как некое самоцельное общественное состояние, обеспечивающее экстатическую полноту жизни. Они уверены в новизне этой версии революционаризма и самодовольно противопоставляют ее предшествующим критически-оппозиционным доктринам. В действительности же бунтарски-экстатическая трактовка революции – явление далеко не новое. Читая книгу Н. Пирумовой, мы обнаруживаем, что Бакунин исповедовал ее еще в 1845–1848 годах. Даже парадоксальный пароль современных левых радикалов «будьте реалистами – требуйте невозможного» не показался бы ему новостью. Так, в статье, опубликованной в марте 1848 года, Бакунин заявлял:
«Революционное движение прекратится только тогда, когда Европа, вся Европа, не исключая и России, превратится в федеративную демократическую республику. Скажут: это невозможно. Но осторожнее! Это слово не сегодняшнее, а вчерашнее. В настоящее время невозможны /31/ только монархия, аристократия, неравенство, рабство» (с. 91).
Дело, однако, не только в этом. В размышлениях и действиях Бакунина четко прорисовывается неприглядная оборотная сторона бунтарской революционности: идеалистическое высокомерие по отношению к массам, доктринерство и неразборчивость в средствах. Особенно интересен в этом отношении период, наступивший после побега Бакунина из сибирской ссылки. Уже в беседе с Герценом, которая состоялась в 1862 году, сразу по возвращении в Европу, Бакунин демонстрирует какое-то странное единство «святого» и беспринципно-предпринимательского взгляда на революционное действие.
«…А [20]
[Закрыть] в Италии? – Тихо. А в Австрии? – Тихо. А в Турции? – Везде тихо, и ничего даже не предвидится. Что же тогда делать? – сказал в недоумении Бакунин. – Неужели же ехать куда-нибудь в Персию или в Индию и там подымать дело?! Эдак с ума сойдешь, я без дела сидеть не могу» (с. 175).
Эта политически и нравственно сомнительная готовность «подымать революционное дело» независимо от объективной потребности в нем где угодно и с кем угодно вскоре принесла свои горькие плоды. Н. Пирумова показывает, как в 60-е годы шаг за шагом углубляется авантюризм бакунинской революционной программы. Бакунин мечется по всей Западной Европе, обращается к самым разношерстным аудиториям, начиная с «отставных гарибальдийских волонтеров», кончая масонами, славословит русский разбойный мир и думает о вербовке в революцию люмпен-пролетарских, а то и просто уголовных элементов.
Глубоко заслуженным и даже роковым выглядит появление на жизненном горизонте Бакунина фигуры «революционного иезуита и макиавеллиста» С. Г. Нечаева. Н. Пирумова выдвигает серьезные доводы против прямой причастности Бакунина к составлению пресловутого «Катехизиса революционера». И вместе с тем ее книга позволяет увидеть, что «нечаевщина» была не тем явлением, от которого Бакунин мог просто отмахнуться, откреститься. Нечаев довел до карикатурной последовательности ряд собственных тенденций и возможностей бакунизма. И когда личность Нечаева вполне выяснилась для Бакунина, тот увидел, что стоит перед задачей серьезного расчета со своей революционной совестью (см. с. 331).
«Нечаевщина» давно гнездилась не только в доктрине но и в самой противоречивой личности М. А. Бакунина. /32/ Разве не нечаевские черты прозревал в нем В. Г. Белинский, когда еще в 1838 году бросал ему в лицо: «Для тебя идея выше человека». Белинского уже тогда пугало в характере Бакунина какое-то нигилистическое воспарение в зияющую пустоту утопии («ненависть к настоящему моменту», «порывание к общему от частных явлений»), имевшее своей пошлой житейской подоплекой «чудовищное самолюбие, мелкость в отношении к друзьям… высокое мнение о себе насчет других, желание покорять, властвовать, охота говорить другим правду и отвращение слушать ее от других» (с. 25–26).
Разве не «нечаевщина» витала перед умственным взором Т. Н. Грановского, говорившего о Бакунине: «Для него нет субъектов, а все объекты» (с. 39), перед взором П. В. Анненкова, рано распознавшего в нем склонность к манипуляторству, резонерству, логическим мистификациям («врожденную изворотливость мысли, ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и победам», с. 28). Но эти психологические зарисовки кажутся лишь наметками той целостной морально-политической характеристики Бакунина, которую Маркс и Энгельс дадут в 1872–1874 годах. Их статьи содержат не только многоплановый критический анализ анархистской концепции; они (и это недостаточно учитывается в нашей литературе) чрезвычайно важны для интерпретации самой индивидуальности Бакунина.
Личность обычно кристаллизуется вокруг известного основного целеустремления, идеала, который чем дальше, тем больше определяет предпочитаемый ею тип поведения. Для позднего Бакунина, как показали Маркс и Энгельс, таким идеалом стало сектантское объединение «привилегированных представителейреволюционной идеи»[21]
[Закрыть], а еще точнее, «тайное общество, построенное «иерархически», с порядками не только авторитарными, но и в полном смысле слова диктаторскими».[22]
[Закрыть]
Разъясняя современные им морально-политические феномены, Маркс и Энгельс нередко прибегали к емким культурно-историческим образам. В случае с Бакуниным они то и дело вспоминают мрачно-выразительные фигуры и институты Контрреформации: для бакунистов, читаем мы,
«единство мысли и действия означает не что иное, как догматизм и слепое повиновение. Perinde ас cadaver (будь /33/ подобен трупу, дисциплинарный принцип, сформулированный Игнатием Лойолой. – Э. С.). Перед нами настоящий иезуитский орден».[23]
[Закрыть]
Иезуитизм – таков тип моральной ориентации, который Бакунин вынужден был предпочесть и культивировать в себе по логике развития бунтарско-анархистской концепции, в соответствии с однажды выработанным идеалом революционной организации. И действительно, в повседневных действиях Бакунина, одного из вождей пресловутого Альянса, Маркс и Энгельс обнаруживают пародийное воспроизведение таких важнейших установок иезуитизма, как инквизиторство, идея папской непогрешимость эскобарство (правило «цель оправдывает средство»).[24]
[Закрыть]
На почве этого морального иезуитства и происходит политически роковое сближение Бакунина с Нечаевым. В интерпретации Маркса и Энгельса их личностное родство менее всего выглядит как явление психологическое, сводящееся к общности склонностей, темпераментов, воспитания. Мы убеждаемся, что оно коренится прежде всего в единстве идеологически мотивированных целеустремлений. При этом Нечаев выступает как пошло-прозаическое осуществление того типа индивидуальности, в который Бакунин втискивал себя рыцарски, принудительно по требованию доктрины.
Само дело Нечаева, как это ни удивительно на первый взгляд, оказалось существеннейшим событием бакунинской биографии. После этого события в Бакунине идет работа запоздалого, творчески непродуктивного раскаяния, завершающаяся глубоким духовным упадком. Радикал по части революционных надежд оказывается экстремистом в политических разочарованиях. В октябре 1870 года, за пять месяцев до героической борьбы парижских коммунаров, он неожиданно заявляет:
«… Я окончательно потерял веру в революцию во Франции. Эта страна совершенно перестала быть революционной. Сам народ сделался здесь доктринером, резонером, буржуа на манер буржуазии… Прощай все наши мечты о близком освобождении» (с. 339).
В 1873 году его общее ощущение истории становится еще более мрачным. Бакунин пишет о «глубоком отвращении к общественной жизни», об отсутствии веры, необходимой для того, чтобы «катить Сизифов камень против /34/ повсюду торжествующей реакции» (с. 376–377). И наконец, в феврале 1875 года в письме к Э. Реклю он формулирует следующее пессимистическое кредо:
«Я, к моему великому отчаянию, констатировал и каждый день снова констатирую, что в массах решительно нет революционной мысли, надежды и страсти, а когда их нет, то можно хлопотать сколько угодно, а толку никакого не будет… Я окончательно отказался от борьбы и проведу остаток дней моих в созерцании – не праздном, а, напротив, умственно очень действенном… Раз вынужденный признать, что Зло восторжествовало и что я не в силах помешать этому, я принялся изучать его эволюцию и развитие с почти научною, совершенно объективною страстью» (с. 386).
Трезвость и теоретическая любознательность, которых так не хватало Бакунину в прошлом, наконец-то по достоинству оцениваются им, но, увы, в контексте полной капитуляции перед безотрадным самотеком истории. Настольными книгами вчерашнего «апостола восстаний» становятся… сочинения А. Шопенгауэра. Даже внешний облик Бакунина в эти годы отвечает совершившейся в нем внутренней перемене, состоянию запоздалого пессимистического похмелья. Беспощадный в своих литературных зарисовках П. В. Анненков писал И. С. Тургеневу:
«Громадная масса жира с головой пьяного Юпитера, растрепанной, точно она ночь в русском кабаке провела, – вот что предстало мне в Берне под именем Бакунина. Это грандиозно, и это жалко, как вид колоссального здания после пожара» (с. 377–378).
Биография Бакунина воплощает, если угодно, классический «жизненный цикл» левого радикализма: от романтической одержимости революцией как «праздником истории» к стоической верности «духу святого бунта»; далее – к бунтарскому имморализму; к растерянности перед закономерными порождениями этого имморализма, иезуитами и макиавеллистами революции; наконец, к полному разочарованию в революционном действии и ординарному историческому пессимизму.
К чести Бакунина, в его духовной эволюции отсутствует последняя возможная (и даже вроде бы сюжетно необходимая) фаза: софистический прыжок из разочарования в реакцию, которым завершалось внутреннее развитие многих позднейших леворадикальных идеологов. Раз зло восторжествовало и имеет за собой авторитет истории, рассуждали они, значит, оно больше не зло; значит, не исключено, что вчерашняя реакция стала в новых /35/ условиях носительницей прогресса и что именно ей по праву принадлежит теперь вся энергия личного подвижничества.
Несмотря на долгое пребывание в гегелевской спекулятивной школе, Бакунин не опустился до этих казуистичесских сальто-мортале. При всех мировоззренческих колебаниях и шатаниях он не подтасовывал основные нравственные понятия. Торжествующее зло Бакунин, как мы видел не обманываясь, называл злом и не испытывал по отношению к нему никакого иного пафоса, кроме пафоса исследователя и «анатома». Более того, расставаясь с революционными надеждами, он как бы отряхнулся от прежней бунтарской беспринципности, от «бесовства утопии». И это, пожалуй, последнее, что вообще еще посильно для левого радикала, запоздавшего с социальным и политическим отрезвлением. Вот почему нельзя не согласиться с Н. Пирумовой в том, что Бакунин сумел покинуть политическое поприще с парадоксальным внутренним достоинством, как бы приостанавливая личностно-разрушительную работу им же самим запущенной идеи.
Жизнь Бакунина не просто поучительна, она исторически симптоматична: в ней как бы уже проиграна общественная судьба анархистского, бунтарски-революционного мировоззрения. И марксистски грамотная биография Бакунина, попади она в руки молодого приверженца современного левого радикализма, может сделать для его нравственно-политического воспитания не меньше, чем систематическая критика левацких идей и доктрин.
***
Одна из сложнейших проблем истории мышления – как соотносятся и взаимодействуют друг с другом различные формы духовной деятельности (философия, наука, искусство, мораль, религия). Глобально-исторический подход к этой проблеме нередко оборачивается модернизациями и схематическими упрощениями. Из поля зрения исследователя выпадает то обстоятельство, что применительно к конкретной эпохе речь должна идти, например, не о соотношении науки и религии как готовых, сложивших формах общественного сознания, а о взаимодействии кpизисной религиозности и становящейся науки; об искусстве, которое в силу особых национальных условий духовного развития может принять на себя функцию социальной философии; о нравственности, для которой еще исторически /36/ непосильно достигнуть автономии по отношению к религии, и т. д.
Важным средством проникновения в эти своеобразные (подчас глубоко парадоксальные) зависимости является биографический анализ. Выразительное тому свидетельствo – талантливая и умная книга Б. Тарасова «Паскаль» (М., 1979), посвященная проблеме личностного единства различных форм духовной деятельности в творчестве одного из самых сложных и противоречивых мыслителей XVII столетия. Автору удается показать, что Паскаль-естествоиспытатель и Паскаль-моралист (а точнее, религиозно-нравственный реформатор) – это два внутренне связанных образа Паскаля-исследователя, этически ответственного представителя зарождающейся новоевропейской науки.
Паскаль – один из активных строителей галилеевско-ньютоновской картины Вселенной; он работал над ней с той же беззаветностью, с тем же восхищением перед логико-математическими и экспериментальными достоверностями, которые были свойственны Торричелли и Гюйгенсу, Дезаргу и Ферма, Мерсенну и Декарту. Но Паскалю чужд благодушный оптимизм провозвестников нового естествознания, выразившийся, с одной стороны, в надеждах на то, что объяснительные модели механики прольют свет на природу человека, а с другой – в уверенности, что естественнонаучные знания сделают человека богоподобным господином мира.
«По мнению Паскаля, – пишет Б. Тарасов, – провозглашенное возрожденцами величие независимого человека есть в некотором роде преувеличение, опасный крен в сторону его самообожествления. Возрожденческое миропонимание полагает, что в неистощимой плодовитости самой природы, которая мыслится здоровой и не нуждающейся в изменении и восстановлении, подобный человек сможет найти объяснение всем фактам своего бытия… а в конечном итоге полностью завоевать и подчинить эту природу. Паскаль счел необходимым обсудить (можно было бы сказать еще резче: критически испытать – Э. С.) подобные положения…» (с. 278–279).
Паскаль провидит, что математическое естествознание, которому он глубоко привержен, не может служить базисом аналитически строгой этики и антропологии. Действительно плодотворные поиски обновленного образа человека идут не в кабинетах, где строятся, например, геометрические конструкции этики, а в самом реформирующемся массовом сознании, которое в XVI–XVII веках еще не могло /37/ не быть сознанием религиозным. Настоятельная задача человека науки состоит поэтому в том, чтобы, не замыкаясь в кругу своих профессионально-цеховых интересов, откликнуться на нравственно-религиозные искания эпохи и отдать им критико-аналитические навыки и способности, отработанные в борьбе за научные достоверности. Именно этим путем идет Паскаль в своей знаменитой полемике с иезуитами.
В «Мыслях», главном философском произведении Паскаля, обнажается парадоксальное соответствие между послегалилеевским пониманием Вселенной и трагическим образом человека, формировавшимся в еретической литературе начиная с XIV века. Можно сказать, что на страницах «Мыслей» Паскаль предстает перед нами в качестве типичного для его эпохи религиозного правдоискателя, который вводит в свой смысложизненный кругозор то, что стало известно Паскалю-ученому. Представление о Вселенной, не имеющей ни центра, ни границ, несоразмерной человеку, безразличной к его благополучию и счастью становится важнейшим компонентом этико-антропологического рассуждения. То, что лишь смутно тревожило Галилея, осознается в обескураживающей мировоззренческой новизне.
Современный исследователь творчества Паскаля Е. Кляус справедливо замечал:
«Бесконечность словно бы приворожила его, растревожила, до болезненности разожгла его любопытство… Она принимает у него форму то математической бесконечности, то философской “бездны”».[25]
[Закрыть]
«Я вижу, – цитирует Паскаля Б. Тарасов, – эти ужасающие пространства Вселенной, которые заключают меня в себе, я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я помещен именно в этом, а не в другом месте, почему то короткое время, которое дано мне жить, назначено мне именно в этой, а не в другой точке целой вечности, предшествовавшей мне и следующей за мной. Я вижу со всех сторон только бесконечности» (с. 283).
Таков один из возможных (логически оправданных) выводов из галилеевской картины мироздания – выводтрагического рационализма.
Представление о затерянности во Вселенной как фундаментальной ситуации человеческого существования /38/ выступает в качестве своеобразной аксиомы Паскалевой антропологии. С ясностью, отличающей геометрические доказательства (но без всякой имитации их дедуктивной формы), он выводит из этой первоконстатации идею «серединного», неустранимо межеумочного, онтологического статуса человека (человек «ничто в сравнении с бесконечным, все в сравнении с ничем – середина между ничем и всем») (с. 284).
Этому соответствует и центральный смыслообраз антропологии Паскаля – метафора «мыслящего тростника».
Нередко она трактуется совершенно превратно. Паскаль будто бы хотел представить человека в качестве существа хрупкого и уязвимого, но одновременно наделенного неограниченной мощью мышления, способностью сперва умственного, а затем и практического овладения любыми загадками природы. Как показывает Б. Тарасов, подобная трактовка грубо противоречит тексту «Мыслей». Паскаль неоднократно подчеркивает, что в своих объективных познавательных возможностях мышление людей так же несовершенно и ограниченно, как сама их телесная конституция. И все-таки именно мышление сообщает человеку достоинство и даже величие. Это происходит просто потому, что оно содержит способность адекватной самооценки, что свое несовершенство люди видят так же ясно, как видит его бог.
Сознание своего ничтожества («хрупкости», «тростниковости»), переживаемое в качестве простого знания о факте, может приводить к отчаянию и апатии. Это, полагает Паскаль, даже с неизбежностью должно было бы произойти, если бы Писание не открыло перед человеком возможности вменять себе в вину свое природное несовершенство, трактуя его как результат наследуемого во всех поколениях первородного Адамова греха. Паскаль ясно видит, что идея наследования греха противоразумна. Будучи рационалистом, он решительно отвергает все псевдообъяснения, которые дают ей теологи. В то же время Паскаль считает, что не существует другого способа сладить с парализующим переживанием человеческой мизерности, кроме признания наследственного греха в его неизъяснимой таинственности.
«Без этой тайны, самой непонятной из всех, – писал Паскаль, – мы непонятны самим себе. Узел нашего существования завязывается в своих изгибах на дне этой пропасти, и (таково рациональное соотношение иррациональностей – Э. С.) человек еще более непостижим без этой тайны, нежели она непостижима человеку» (с. 297–298). /39/
Тайне наследственного греха отвечает таинственная способность совести. Она, подчеркивает Паскаль, судит наши действия совершенно не так, как это склонно делать обычное благоразумие. Совесть, например, вменяет нам даже такие дурные поступки, которые явились следствием наших врожденных предрасположений и за которые мы с точки зрения здравого смысла не можем нести ответственность. Но ведь именно поэтому человек обладает способностью отличать себя от всего унаследованного и преднайденного – способностью самопревосхождени. Б. Тарасов находит следующую выразительную формулировку для Паскалева истолкования совести: это
«дар понимания человеком сообщаемой ему вести о его греховности, вине, духовном несовершенстве». Это «своеобразный орган духовной жизни человека, позволяющий ему различать добро и зло, сдерживать страсти и своекорыстные расчеты, видеть незаслуженность своих заслуг. Совесть… мучает (это ее основное свойство) человека, мешает ему быть самодовольным и подвигает его на бесконечное совершенство» (с. 254).
Трактовка совести как первичной инстанции индивидуального сознания и как свидетельства того, что каждый человек непосредственно (по типу со-ведения) связан с богом, говорит о глубоком родстве философии Паскаля с еретическим и реформаторским мышлением XIV–XVI веков. Показательно, далее, что Паскаль на новом уровне мыслительной культуры воспроизводит парадоксальныйтрагический оптимизмранней Реформации, от которого уже почти ничего не осталось в догматизированном протестантском богословии его времени.
В западной литературе нравственно-религиозные искания Паскаля обычно трактуются как результат его разочарования в науке, развивавшегося под воздействием житейских потрясений и невзгод. Б. Тарасов отстаивает совершенно иную версию. Он не задается наивным (для условий XVII века совершенно искусственным) вопросом, как великий естествоиспытатель мог быть одновременно и глубоко верующим человеком. В центре внимания оказывается куда более существенная проблема: почему в XVII столетии вера великого естествоиспытателя, всерьёз посвятившего себя религиозной философии, не могла не стать верой, обращающейся против догмы, против церковно-католического образа божества – утешительного и антропоморфного, казуистического и индульгентного.
Интересный замысел Б. Тарасова был бы, мне кажется, /40/ реализован более полно и убедительно, если бы автор уделил специальное внимание обновительным религиозным движениям XVI–XVII веков. В книге детально прослежена родословная почти каждого из научных (математических и физических) открытий Паскаля. Этого не скажешь, однако, о его философии человека. Специфический контекст, в котором она родилась, сужен автором до полемики между янсенистами и иезуитами. Между тем антропология Паскаля имеет глубокие и мощные культурно-исторические истоки: она черпает силу из недр Реформации.
В популярной литературе Реформация чаще всего трактуется как эпоха рождения протестантских вероисповеданий, как их бурная и смутная предыстория. Между тем ее действительные культурно-исторические результаты куда более внушительны.
Реформация не резюмируется в протестантизме. Это несомненно даже с узкоконфессиональной точки зрения. После догматического и организационного оформления трех протестантских церквей (лютеранской, кальвинистской и анабаптистской) реформационное движение обретает «второе дыхание». На историческую арену выходят течения, смешивающие все конфессиональные классификации: социниане, пиетисты, гернгутеры, квакеры, унитарии. Реформация перемахивает через стены, воздвигнутые контрреформацией, и порождает внутри самой католической религии течения, подобные янсенизму (к числу янсенистов принадлежал и Паскаль).
Но дело не только в этом. Реформация как в своем исходном пункте, так и в своих итогах вообще выводит за пределы религиозно-теологических задач. Из трудностей, которые породила декларированная реформаторами свобода веры, вырастает принцип интеллектуальной и нравственной автономии; из противоречий нового церковного идеала – идеал правового государства. В оболочке ожесточенных споров о таинствах, догматах и символах веры совершается переворот в нравственно-антропологической и социальной ориентации мышления, пожалуй, самый решительный за всю полуторатысячелетнюю историю христианско-католической Европы. В горниле Реформации выковываются исходные установки раннебуржуазного правосознания, идея отделения церкви от государства, новый взгляд на мирское призвание индивида и новая деловая этика, созвучная раннебуржуазному частному предпринимательству. /41/
Решающую роль в развертывании этой многоплановой секуляризации средневекового теологического мировоззрения сыгралипарадоксы раннереформационной идеологии. Для анализа религиозной философии Блеза Паскаля особенно важны, мне кажется, два из них.
Существенно, во-первых, то, что в ранних набросках реформаторского учения Лютера, Цвингли и Кальвина тема греховности и мизерности людей не имеет пессимистического звучания. Герой их сочинений – человек, до ущербности несоразмерный творцу, но в то же время наделенный божественно возвышенным сознанием этой несоразмерности. В самом переживании им своей немощи и ограниченности (в свободном раскаянии, на котором делают акцент все ранние реформаторы и которое уже предвосхищает картезианское сомнение, ведущее к осознанию последних неоспоримых очевидностей) присутствует моментнебесного достоинства.
Знаменательно, во-вторых, что ничтожество человека трактуется в ранней реформационной литературе как качество, соотносительноебожественному совершенству, итолько ему одному. Абсолютно неправомерно, чтобы одни люди (сословие, каста, инстанция) взирали на других с божественной высоты. Идея родового ничтожества людей соединяется с идеей всесвященства и выступает в качестве первой раннебуржуазной версииравноправия.
«Только перед богом», «только богу» – этот локализующий пароль в конкретных условиях позднего средневековья звучал и воздействовал как формула эмансипации.
Только богу смирение сердца, верноподданничество и рабское повиновение! Это означало, что на долю общества выпадало легальное подчинение, сообразующееся с требованиями юридической справедливости.[26]
[Закрыть]
Только богу – привилегия на непознаваемость, таинственность и чудодействия! Это подразумевало, что посюсторонний (природный) мир следует трактовать как свободный от таинств, чудес, демоничности, что он представляет собой бесконечную совокупность рационально постижимых вещей и отношений.[27]
[Закрыть] /42/
В реформаторских учениях присутствовала подспудная, но мощная тенденция к десакрализации наблюдаемой Вселенной. Поначалу она обращалась против так называемых «католических суеверий» (против поклонения реликвиям и мощам, веры в имена и символическую причастность, в спасительную силу заклинаний и талисманов). Ближайшим наследником этих суеверий оказалась, однако, возрожденческая натуральная магия. Выйдя из-под эгиды церковного авторитета, познающее мышление еще далеко не сразу избавляется от парадигм оккультного миротолкования. Более того, именно в эпоху Возрождения (в контексте пантеизма и гилозоизма) оккультные дисциплины, ютившиеся на задворках схоластически упорядоченной средневековой системы наук, как бы впервые вырываются на волю. Возрожденческое естествознание – это по преимуществу теория примет, предзнаменований, скрытых природ, душ и демонов.
«Любопытен тот факт, подмечает Б. Тарасов, – что демонологический мистицизм появляется на изломе “темного” средневековья, в эпоху зарождения гуманизма и неуклонно развивается, набирая еще большую силу в XVI и XVII веках… Самодостаточный натурализм… не может не нуждаться в своей особой вере. И на первых порах его идолами становятся звезды, движение которых определяет судьбу человека, философский камень и драгоценные металлы» (с. 17).
Освобождаясь от умозрительных фантазий средневековой космологии, натуралисты самое природу превратили в гигантскую фантасмагорию. Занятия математикой, механикой и физикой причудливо сочетались с магией, астрологией и алхимией. Возрожденческая натуральная магия – ближайший и непосредственный противник, в полемике с которым развивалось новое математическое естествознание. Но она же – объект постоянных атак религиозных реформаторов, подводящих магов, астрологов, алхимиков, прорицателей под обвинительное понятие «ведовства». Разумеется, это далеко не то же самое, что научная критика натуральной магии. В своем неприятии последней Лютер или Кальвин (а в еще большей степени сложившаяся протестантская церковь) подозрительны, нетерпимы и фанатичны; отрицаемые суеверия господствуют над их собственным сознанием в форме репрессивного страха. И все-таки Реформация – единственное массовое движение раннебуржуазной эпохи, в котором присутствуют установки, созвучные зарождавшемуся экспериментально-математическому естествознанию. Раздвоив иерархически /43/ упорядоченный космос средневековья на непознаваемое трансцендентное божественное бытие и сплошь профанический «видимый мир», мыслители Реформации содействовали формированию такой общей презумпции природы, которой отвечало не выведывание тайн, не расшифровка «скрытых сил», а изучение отношений, функций, законосообразностей.
Реформация образует мощный общекультурный коррелят научной революции XVI–XVII столетий. Проповедников-евангелистов и пионеров нового естествознания роднят такие установки, как отрицание авторитета, недоверие к преданию и эрудиции, пафос индивидуально постигаемых, для всех равно доступных очевидностей, высокая оценка сомнения и других рефлексивных актов. Их сближает, наконец, неприятие схоластического умозрения и отстаивание в противовес ему методически осуществляемого опыта (в одном случае – опыта с вещами или их идеальными замещениями, в другом – опыта экзистенциального, понимаемого сперва как неотъемлемо личный «крестный путь веры», а затем как испытание своего индивидуального «мирского призвания»). Коррелятивность Реформации и научной революции – совершенно объективная смысловая зависимость, отличающая раннебуржуазную культуру. Ее нельзя смешивать с теми субъективными позициями, которые теологи-реформаторы и основоположники нового естествознания занимали по отношению друг к другу, а тем более с позицией консолидировавшейся протестантской церкви, руководители которой, как отмечал Ф. Энгельс, «перещеголяли католиков в преследовании свободного изучения природы».[28]
[Закрыть] Нельзя здесь идти и на поводу субъективных толкований, которые религиозные реформаторы давали понятиям «разум», «воля», «интуиция», еще принадлежавшим средневеково-схоластической системе мышления.
Величие и уникальность Паскаля состоят в том, что в его творчестве объективная соотнесенность нового естествознания и реформаторских нравственно-религиозных исканий впервые получает адекватное личностное выражение. Традиция Галилея, Кеплера, Торричелли, Гюйгенса и традиция Лоренцо Валлы, раннего Лютера, Кастеллиона, Янсения сходятся и признают друг друга в едином жизненном опыте. И, что самое знаменательное, Паскаль принимает обе традиции без их корпоративно-цеховых /44/ иллюзий: он наследует ученым, не будучи сциентистом, он наследует религиозным реформаторам, не будучи протестантом.
***
Мы рассмотрели ряд жизнеописаний выдающихся мыслителей прошлого. Их отбор не был случаен: каждая из вышеупомянутых книг представляет собой, как мне кажется, известный тип биографического анализа и отличается своеобразнойисследовательской задачей.







