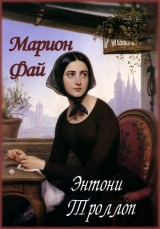
Текст книги "Марион Фай"
Автор книги: Энтони Троллоп
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
XXVIII. Свадьба лэди Амальдины
Наступило время свадьбы лэди Амальдины. В последнюю минуту было решено, что она отпразднуется в Лондоне, прежде, чем кто-нибудь из лиц аристократического происхождения, которые должны были присутствовать при этом обряде, умчится в погоню за осенними удовольствиями. Сам лорд Льюддьютль принимал во всем этом, очень слабое участие, заявив только, что ничто в мире не заставит его настолько поспешить со свадьбой, чтоб не исполнить до конца всех своих обязанностей, как члена парламента. Последнее заседание парламента должно было происходить в среду, 12-го августа, свадьба была назначена 13-го. Лэди Амальдина очень просила, нельзя ли ее отпраздновать неделей раньше. Читатели, конечно, не подумают, что причиной ее просьбы было нетерпение влюбленной. Неделя не могла иметь особого значения там, где свадьбу так долго откладывали. Но подруги могли разлететься. Как было удержать в городе двадцать девиц, в августе месяце, когда вся молодежь мчится в Шотландию? Другие не были рабами своих обязанностей, как лорд Льюддьютль.
– Мне кажется, что на этот раз, для такого случая, вы могли бы это устроить, – сказала она ему, стараясь, чтобы сквозь сарказм, который при таком кризисе являлся сам собой, звучала и ласка. Он коротко и просто напомнил ей обещание, которое дал ей весною. Он находил лучшим не изменять прежних решений. Когда она заговорила с ним об одной очень ненадежной особе, из числа двадцати избранниц – ненадежной не в смысле репутации, но в смысле планов ее семьи – он начал уверять, что никто не заметит никакой разницы, если только девятнадцать девушек будут тесниться вокруг шлейфа невесты.
– Но разве вы не знаете, что они должны стоять попарно.
– А девяти пар недостаточно? – спросил он.
– Неужели же мне нажить в одной из них вечного врага, сказав ей, что я не нуждаюсь в ее услугах?
Но все было бесполезно.
– Обойдитесь без них совсем, – сказал он, глядя ей прямо в лицо. – Все двадцать с вами не поссорятся. Моя цель жениться на вас, а до дружек мне совершенно все равно. – Это было так похоже на комплимент, что она вынуждена была с этим примириться. Кроме того, она уже начинала замечать, что лорд Льюддьютль – человек, которого не легко заставить изменить намерение. Это ее не пугало. Женщина, думала она, может избавиться от многих хлопот и забот, если у нее есть муж, которому она обязана повиноваться. Но она не могла примириться с тем, что ей не дозволяют поступать по своему в этом вопросе о брачной церемонии, в этом последнем деле, в котором она могла надеяться действовать как свободная личность. Жених, однако, был непреклонен. Если четверг 13 для нее неудобен, он будет к ее услугам в четверг, 20.
– Да ни одной из них уже в Лондоне не будет, – сказала леди Амальдина. – Куда ж вы им до тех пор прикажете деваться?
Но все двадцать подруг остались ей верны. Всего более затруднений было с леди Амелией Бодессер. Мать ее настаивала на поездке на какое-то баварское озеро, где у нее была вилла; но леди Амелия, в последнюю минуту, пожертвовала виллой, скорей, чем нарушить симметрию, и согласилась пожить у какой-то старой воркуньи-тетушки в Эссексе, пока не представится случай поехать к матери. Из этого можно заключить, что считалось делом очень важным быть из числа двадцати. Девушке, конечно, приятно, когда во всех газетах заявят, что она, по общему приговору, одна из двадцати самых красивых девиц Великобритании. Леди Франсес, конечно, была в числе двадцати красавиц. Но был член семьи – скорей дальний родственник – которого никакое красноречие не могло убедить показаться ни в церкви, ни на завтраке. Это был лорд Гэмпстед. Сестра приехала к нему и уверяла, что присутствие его необходимо.
– Горе, – говорила она, – о котором свет знает, считается достаточным извинением, но человек не должен пренебрегать своими обязанностями из-за тайной скорби.
– Я из этого не делаю никакой тайны. Я не толкую о своих личных делах. Я не посылаю герольда возвещать прохожим, что я в горе. Но мне совершенно все равно, знают ли люди или нет, что я не способен участвовать в таких празднествах. Мое присутствие не нужно для того, чтоб их обвенчали.
– Это покажется странным.
– Пусть так. Но я во всяком случае не буду. – Но он не забыл этого дня и доказал это тем, что прислал невесте самую великолепную из всех драгоценностей, красовавшихся на выставке ее подарков, если не считать богатейшего бриллиантового убора, присланного герцогом Мерионетом.
Выставка подарков считалась самой роскошной, какая когда-либо бывала в Лондоне. Мы, конечно, выразимся не сильно, сказав, что общая стоимость драгоценных игрушек, если б их продать по действительной цене, составила бы значительное состояние для молодой четы. Обе семьи были знатны и богаты, а потому богатство свадебных подарков было естественно. Пожалуй было бы приличнее, если б все это не было подробно оценено в одной из газет. Навсегда осталось неизвестным, на кого должна была лечь ответственность за эту оценку, но она как бы указывала на то, что ценности подарков придают больше значения, чем расположению тех, кто их делал. В высших сферах и клубах ценность коллекции усердно обсуждалась. Брильянты были известны все до последнего камня, о рубинах Гэмпстеда рассуждали почти также открыто, как если б они были выставлены для публики. Лорд Льюддьютль, узнав об этом, пробормотал своей незамужней сестре желание, чтоб какой-нибудь гном прилетел ночью и все это унес. Он чувствовал себя униженным, потому что драгоценности его будущей жены стали как бы достоянием публики. Но гном не явился, а молодым приказчикам от гг. Бижу и Баркане было разрешено расставить столы и устроить полки для выставки.
Завтрак должен был происходить в доме министерства иностранных дел. Сначала лорд Персифлаж не желал этого, находя, что свадьбу дочери можно отпраздновать и в его собственном, более скромном доме. Но мнение лиц, более компетентных, одержало верх. Кому первому пришла эта мысль, лорд Порсифлаж так и не узнал. Легко может быть, что одной из двадцати избранниц, которая поняла, что обыкновенной гостиной едва ли будет достаточно для такой роскошной выставки туалетов. Может быть, мысль эта впервые зародилась в головах гг. Бижу и Баркане, которые провидели, как приятно будет расставить все эти сокровища в великолепном салоне, предназначенном для приема послов. Откуда бы ни взялась эта мысль, но лэди Амальдина сообщила ее матери, а лэди Персифлаж мужу.
– Конечно, все послы будут налицо, – сказала графиня, – а потому это будет как бы официальное торжество.
– Как бы хорошо было, если б мы могли обвенчаться в Ланфигангель, – сказал лорд Льюддьютль невесте. Церковь в Ланфигангель была очень маленькая, с соломенной кровлей и гнездилась в горах Северного Валлиса; лэди Амальдина осматривала ее, когда ездила к герцогине, своей будущей свекрови. Но Льюддьютлю нельзя было позволить всегда ставить на своем, приготовления в доме министерства иностранных дел продолжались.
Приглашения с рельефными гербами были разосланы обширному кругу друзей и знакомых. Все послы и посланники, с женами и дочерьми, были, конечно, приглашены. Так как завтрак должен был состояться в большой банкетной зале министерства иностранных дел, то необходимо было, чтоб гостей было много. Лорд Персифлаж сказал жене, что свадьба дочери разорит его. В ответ на это она напомнила ему, что Льюддьютль не требовал никакого состояния. Лорд Льюддьютль был из числа людей, которым приятнее давать, чем брать. Ему казалось, что муж должен доставлять все необходимое, а что жена должна быть обязана всем тому, за кого выходит. Чувство это, в настоящее время, встречается редко, но у лорда Льюддьютля были старомодные понятия, да он и имел средства действовать согласно с своими предрассудками. Как бы свадьба богата ни была, она не будет стоить приданого, которого дочь графа могла бы ожидать. Таковы были доводы лэди Персифлаж и, по-видимому, они подействовали.
По мере того, как день свадьбы приближался, все замечали, что жених становится еще мрачнее и молчаливее обыкновенного. Он не выходил из палаты общин, в те дни, когда мог находить там убежище. Свои воскресенья, субботы и среды он наполнял такой разнообразной и непрерывной работой, что совершенно не оставалось времени для тех милых вниманий, которых девушка накануне свадьбы вправе требовать. Он, может быть, через день заходил к невесте, но никогда не оставался там долее двух минут.
– Боюсь, что он не счастлив, – говорила графиня дочери.
– О, мама, вы ошибаетесь.
– Так почему же он так суетится?
– Ах, мама, вы его не знаете.
– А ты знаешь?
– Мне кажется, да. По-моему, в целом Лондоне нет человека, который так бы желал жениться, как Льюддьютль.
– Это меня очень радует.
– Он потерял столько времени, что знает, что должен с этим кончить, без дальнейшего промедления. Если б он только мог заснуть и проснуться человеком женатым уже три месяца, он был бы совершенно счастлив. Самая процедура, толки, зеваки, вот что ему ненавистно.
– Так почему было все это не устроить поскромнее, моя милая.
– Потому, что есть фантазии, мама, которым женщина никогда уступать не должна. Если б я собиралась выходить за красивого молодого человека, мне совершенно не было бы дела до подруг и подарков. Он заменил бы мне все. Льюддьютль не молод и не красив.
– Но он истый аристократ.
– Совершенно справедливо. Он золото. Он всегда будет иметь значение в глазах людей, потому что у него великая душа и он достоин всякого доверия. Но я также хочу иметь какое-нибудь значение в глазах людей, мама. Я не дурна собой, но ведь – ничего особенного. Я – дочь моего отца, это что-нибудь да значит, но этого еще мало. Я намерена начать с того, чтобы ослепить всех своей роскошью. Он все это понимает; не думаю, чтоб он стал мешать мне, раз, что эта выставка кончится. Я все обдумала, и мне кажется, я знаю, что делаю.
Картинка в одном из иллюстрированных журналов, которая имела претензию изображать алтарь в церкви Святого Георгия, с епископом, в сослужении с деканом и двумя королевскими капелланами, с невестой и женихом, во всем их блеске, с принцем и принцессой королевского дома в числе присутствовавших, со всеми звездами и подвязками английского и чужих дворов и особенно с стаей двадцати красавиц, в десять отдельных пар, причем каждое лицо – портрет, очевидно было плодом воображения артиста. Я был там, и говоря по правде, была порядочная давка. Пространство не допускало торжественной группировки, а так как у трех из главных гостей была подагра, то палки этих хромых джентльменов, на мой взгляд, очень бросались в глаза. Стае красавиц не было отведено достаточно места, дамы, кажется, страдали от страшной жары. Что-то рассердило епископа. Говорят, будто лэди Амальдина решилась не торопиться, тогда как епископа ожидали на какой-то митинг, в три часа. Артист, создавая это свое произведение, смело воспарил в сферу идеала. В изображении и описании выставки подарков и свадебного пира, он, может быть, обнаружил более точности. Я там не был. То, что говорилось в статье насчет моложавого вида жениха, в ту минуту, когда он поднялся, чтобы сказать свой спич, может быть, следует приписать поэтической вольности, не только дозволительной, в подобном случае, но похвальной и обязательной. Выставка подарков, конечно, вся была налицо, хотя позволяется сомневаться, чтоб приношения дарственных особ так выдавались в действительности, как на картинке. Два-три иностранных посланника говорили речи, отец невесты также сказал речь. Но самое сильное впечатление произвел спич жениха. «Надеюсь, что мы будем так счастливы, как вы, по доброте, нам этого желаете», – сказал он – и сел. После говорили, что это были единственные слова, которые, во все время торжества, сошли у него с языка. Тем, кто поздравлял его, он только подавал руку и кланялся, а между тем, не смотрел ни взволнованным, ни смущенным. Все мы знаем, как мужественный человек способен сесть и дать себе выдернуть зуб, без всяких признаков страдания на лице, в надежде на облегчение, которое неминуемо последует. То же было и с лордом Льюддьютлем.
– Ну, милая, кончено наконец, – сказала лэди Персифлаж дочери, когда молодую повели переодеваться.
– Да, мама, теперь кончено.
– И ты счастлива?
– Конечно, счастлива… Я получила то, чего желала.
– Но можешь ли ты любить его?
– О, да, мама, – сказала лэди Амальдина. Как часто случается, что ученики превосходят своих учителей! Так было и в данном случае. Мать, когда она увидела, что отдала дочь молчаливому, некрасивому человеку средних лет, дала волю своим опасениям; нельзя было того же сказать о самой дочери. Она обсудила вопрос всесторонне и решила, что может исполнить свой долг, при некоторых условиях, в которых, как ей казалось, отказа не будет. – Он гораздо умнее, чем вы думаете; только он не хочет дать себе труда рассыпаться в уверениях. Если он и не очень сильно влюблен, он любит меня более, чем кого бы то ни было, а это имеет-таки свою цену.
Мать благословила ее и проводила до комнаты, где ожидал ее муж, чтобы сейчас же идти садиться в экипаж.
Молодая удивилась, очутившись на минуту совершенно наедине с мужем.
– Ну, жена моя, – сказал он, – теперь поцелуй меня.
Она бросилась в его объятия.
– Я думала, что вы об этом забудете, – сказала она, когда рука его на минуту обвилась вокруг ее тальи.
– Я и не смел, – сказал он, – прикоснуться во всем этим роскошным, кружевным драпировкам. Тогда вы были разодеты на выставку. Теперь вы такая, какой должна быть моя жена.
– Туалет был неизбежен, Льюддьютль.
– Я и не жалуюсь, моя дорогая. Я говорю только, что вы мне больше нравитесь такою, как вы теперь, особой, которую можно поцеловать, обнять, с которой можно разговаривать, сердце которой можно завоевывать. – Тут она мило ему присела, вторично его поцеловала; а затем они, под руку, направились в карете.
Много карет стояло внутри квадрата, часть которого составляет министерство иностранных дел, но карета, которая должна была увезти молодых, стояла у особых дверей. Пытались было не пускать публику в заповедный квадрат; но, так как деятельность остальных четырех министров не могла быть приостановлена, то этого можно было добиться только до некоторой степени. Толпа, конечно, была гуще в Доунинг-Стрите, но очень много было зрителей и внутри четыреугольника. В числе их был один очень нарядный, во фраке и желтых перчатках, почти в таком же костюме, как если б собрался на собственную свадьбу. Когда лорд Льюддьютль вывел лэди Амальдину из дома и посадил ее в карету, когда муж с женой уселись, разодетый индивидуум приподнял шляпу с головы и приветствовал их.
– Многия лета и полное счастие лэди Амальдине! – крикнул он во все горло. Лэди Амальдина не могла его не видеть и, узнав его, поклонилась.
Это был Крокер – неукротимый Крокер. Он также был в церкви. Теперь-то он мог сказать, нисколько не нарушая истины, что был на свадьбе и получил прощальный поклон от молодой, которую знал с раннего детства. Он, вероятно, думал, что он вправе считать будущую герцогиню Мерионет в числе своих близких друзей.
XXIX. История Крокера
Всего более ценится то, что трудно достается. Две, три лишних бриллиантовых копей, открытых где-нибудь среди неинтересных во всех других отношениях, равнин Южной Африки, страшно понизили бы ценность бриллиантов. Едва ли красота, остроумие или таланты Клары Демиджон были причиной громкого ликования мистера Триббльдэля, когда ему удалось отбить невесту, которая некогда дала слово Крокеру. Если б не то, что она чуть было не выскользнула у него из рук, он наверное никогда не счел бы ее достойной таких восхвалений. При настоящем же положении вещей он походил на второго Париса, который вырвал новую Елену у ее Менелая; только, в данном случае, Парис был честный, Елена не была запретным плодом, а Менелай пока еще не имел на нее никаких особых прав. Но сюжет этот был достоин новой Илиады, за которой могла последовать вторая Энеида. Силой своего оружия он вырвал ее из объятий похитителя. Другой, будучи отвергнут, как был он, лишился бы чувств и отказался от борьбы. Но он продолжал бороться, даже когда лежал распростертый в пыли арены. Он прибил свой флаг к мачте, когда все его снасти были отрезаны, и наконец одержал победу. Конечно, его Клара была ему вдвое дороже, так как он завоевал ее после таких препятствий.
– Я не из тех, которые легко сдаются в сердечных делах, – сказал он мистеру Литльберду, младшему представителю фирмы, сообщая этому джентльмену о своей помолвке.
– Видно, что так, мистер Триббльдэль.
– Когда человек полюбит девушку, – т. е. серьезно полюбит, – он должен держаться ее или умереть. – Мистер Литльберд, который был счастливым отцом трех или четырех дочерей, замужних и невест, от удивления широко раскрыл глаза. Молодые люди, которые ухаживали за его дочками, отличались порядочной настойчивостью, но они не умерли. – Или умереть! – повторил Триббльдэль. – По крайней мере я бы так поступил. Если б она сделалась мистрисс Крокер, меня никогда бы более здесь не увидели, разве принесли бы сюда мой труп, для удостоверения моей личности.
Его восторг сослужил ему отличную службу. Хотя мистер Литльберд и смеялся, рассказывая эту историю мистеру Погсону, тем не менее они согласились увеличить его жалованье до 160 фунтов со дня его свадьбы.
– Да, мистер Фай, – говорил он бедному старику, который за последнее время так был убит, что уже не по-прежнему командовал Триббльдэлем, – я совершенно уверен, что теперь остепенюсь. Если что-нибудь может помочь молодому человеку остепениться, это – счастливая любовь.
– Надеюсь, что ты будешь счастлив, мистер Триббльдэль.
– Теперь-то буду. Душа моя будет больше лежать к делу, т. е. конечно та часть ее, которая не будет с тем милым созданием, в нашем домике, в Айлингтоне. А счастье, что он нанял эту квартиру, так как Клара в ней уже привыкла. Есть несколько вещей, как-то часы, фисгармоника, которых перевозить не надо. Если б с вами что-нибудь случилось, мистер Фай, Погсон и Литльберд найдут во мне человека, совершенно знакомого с делом.
– Конечно, когда-нибудь что-нибудь да случится, – сказал квакер.
Когда мисс Демиджон узнала, что жалованье клерка Погсона и Литльберда увеличено до 160 фунтов в год, она поняла, что ничем нельзя будет оправдать нового отказа. До этой минуты ей казалось, что Триббльдэль восторжествовал, благодаря обману, обнаружить бесполезность которого еще могло быть ее обязанностью. Он положительно заявил, что эти роковые слова: «Отрешить. Б. Б.», были несомненно внесены в книгу. Но до нее дошло, что слова эти пока внесены не были. Все хитрости дозволительны в любви и на войне. Она нисколько не сердилась на Триббльдэля за его маленькую хитрость. Ложь, при таких обстоятельствах, становилась заслугой. Но это еще не было причиной, чтоб она отвлекла ее от соблюдения собственных выгод. Несмотря на легкую ссору, которая произошла между нею и Крокером, Крокер, по-прежнему находившийся на службе ее величества, должен быть лучше Триббльделя. Но когда она узнала, что заявление Триббльдэля относительно 160 фунтов верно, да как подумала, что Крокер, рано или поздно, вероятно, будет отрешен, тогда она решилась быть твердой. Относительно же 160 фунтов, старушка мистрисс Демиджон сама отправилась в контору и узнала всю правду от Захарии Фай.
– По-моему, он хороший молодой человек, – сказал квакер, – и прекрасно пойдет, если перестанет так много о себе думать. – На это мистрисс Демиджон заметила, что с полдюжины ребят, вероятно, излечат его от этого недостатка.
Итак дело было слажено. Случилось, что Даниэль Триббльдэль и Клара Демиджон обвенчались в Галловэе в тот самый четверг, в который завершился так давно обсуждаемый союз между аристократическими домами Поуэль и де-Готвиль. По этому поводу было написано два письма, которые мы здесь приведем, в виде доказательства готовности забыть и простить, какой отличались характеры обоих действующих лиц. Дня за два до свадьбы было послано следующее приглашение:
«Дорогой Сэм!
Надеюсь, что вы совершенно забудете прошлое, по крайней мере то, что в нем было неприятного – и приедете в четверг, к нам на свадьбу. После венца здесь будет устроен маленький завтрак, и я уверена, что Дан будет очень счастлив пожать вам руку. Я его спрашивала и он сказал, что так как женихом будет он, он был бы очень рад иметь вас своим шафером.
Ваш старый и искренний друг
Клара Демиджон, – пока».
Ответ был следующий:
«Дорогая Клара!
Я человек не злой. Со времени нашей маленькой стычки я рассудил, что, в сущности говоря, не создан для семейной жизни. Легко может быть, что собирать мед со многих цветов – моя роль на свете. Я бы очень охотно был шафером Дана Триббльдэля, если б не было другого торжества, на котором я должен быть. Наша лэди Амальдина выходит замуж и мне необходимо присутствовать на ее свадьбе. Семьи наши, как вы знаете, уже очень много лет находятся в близких отношениях, и я никогда бы не простил себе, если б не видел ее под венцом. Никакие другие соображения не помешали бы мне принять ваше крайне любезное приглашение.
Преданный вам, старый, друг
Сэм Крокер».
Сожаление на минуту закралось в сердце Клары, когда она прочла то место письма, где говорилось об отношениях обеих семей. Конечно, Крокер лгал. Конечно, это было пустое хвастовство. Но было что-то аристократическое в самой возможности солгать на этот счет. Если б она вышла за Крокера, она также могла бы, кстати и некстати, вводить замок Готбой в свои ежедневные беседы с мистрисс Дуффер.
Во время этих свадеб, в августе месяце, Эол все еще не пришел к положительному решению относительно участи Крокера. Крокер был временно отрешен от должности, а потому временно удален из департамента, так, что все его время принадлежало ему вполне. Будет ли он, в эту переходную эпоху, получать жалованье, никто наверное не знал. Предполагалось, что человек, временно отрешенный от службы, должен быть отрешен окончательно, если ему не удастся вполне, или хотя бы отчасти, оправдаться в преступлении, которое ему приписывали. Сам Эол мог отрешать временно, но для высшей меры наказания требовалось распоряжение со стороны лиц, выше его поставленных, так же как и для лишения грешника какой бы то ни было части его содержания. Оправданий никаких ожидать было нельзя. Все единогласно признавали, что Крокер уничтожил бумаги. С целью не быть уличенным в непростительной медленности и лености, он изорвал в мелкие клочки целую кипу официальных документов. Репутация его была так хорошо известна, что никто не сомневался в том, что он будет уволен. Мистер Джирнингэм говорил об этом как о совершившемся факте. Боббина и Гератэ поздравляли с повышением. Роковые слова: «Отрешить. – Б. Б.», были занесены, если не в книгу, то, во всяком случае, в умы служащих. Но сам Б. Б. пока еще ничего не решил. Когда Крокер присутствовал на свадьбе лэди Амальдины, во фраке и желтых перчатках, он еще был под наказанием, но надеялся, что после такой долгой отсрочки его не казнят.
Сэр Бореас Бодкин отодвинул бумаги в сторону и с тех пор об этом деле более не было речи. Прошло несколько недель, никакого решения объявлено не было. Сэр Бореас был такой человек, что ближайшие подчиненные неохотно напоминали ему о подобных обязанностях. Когда дело было «отодвинуто в сторону», все знали, что это что-нибудь неприятное. А между тем, как шепнул мистер Джирнингэм Джорджу Родену, с этим делом необходимо было покончить. – Вернуться он не может, – сказал он.
– А я полагаю, что вернется, – сказал Роден.
– Невозможно! Я считаю это невозможным! – Мистер Джирнингэм сказал это очень серьёзно.
– Видите ли, иные люди, – возразил его собеседник, – лают больше, чем кусаются.
– Знаю, мистер Роден, сэр Бореас, может быть, из числа их; но бывают случаи, когда простить проступок кажется совершенно невозможным. Этот из числа их. Если бумаги будут безнаказанно уничтожаться, что станется с департаментом? Я сам бы не знал, как мне справляться с моими обязанностями. Разорвать бумаги! Боже милосердый! Как подумаю об этом, я не знаю право, на голове ли я стою, или на ногах.
Это было очень сильно сказано для мистера Джириингама, который не имел привычки критически относиться к действиям своего начальства. В течении всех этих недель он ходил по департаменту с печальным лицом и с видом человека, который сознает, что какая-нибудь большая беда у дверей. Сэр Бореас заметил это и очень хорошо знал, отчего лицо это так вытянуто. Тем не менее, когда взгляд его падал на эту связку бумаг, – составлявших «дело Крокера», – он только отодвигал ее немного далее прежнего.
Кто не знает, как ненавистно может сделаться письмо, если его откладывать в сторону со дня на день? Ответьте на него тотчас, вам ничего не стоит это сделать. Отложите его на один день, и оно сейчас начнет принимать неприятные размеры. Если же вы имели слабость оставить его на столе, или, что еще хуже, в боковом кармане, неделю или десять дней, оно сделается таким сильным врагом, что вы не посмеете сразиться с ним. Оно омрачает все ваши радости. Оно заставляет вас сердиться на жену, быть строгим к кухарке, критически относиться к собственному погребу. Оно превращается в заботу, которая сидит у вас за спиной, когда вы выезжаете на прогулку верхом. Вы уже подумываете уничтожить его, отречься от него, сделать тоже, что сделал Крокер с бумагами. А между тем, вы все время должны держать себя так, как если б у вас на сердце не лежало никакого бремени. То же испытывал наш Эол из-за дела Крокера. Бумаг, по этому делу, накопилась уже целая кипа. От несчастного потребовали объяснений, он написал длинное и бестолковое письмо за большом листе, письмо, которого сэр Бореас не читал и не намерен был читать. Большие обрывки разорванных бумаг были найдены и «присоединены к делу». Мистер Джирнингэм составил красноречивый и длинный доклад, который, конечно, никогда прочитан не будет. Были тут и прежние документы, в которых отрицалось самое существование бумаг. Вообще кипа была большая и крайне несимпатичная, те, кто хорошо знал нашего Эола, были уверены, что он никогда даже не развяжет тесемку, которой она связана. Но что-нибудь надо было сделать!
– Нельзя ли что-нибудь решить, насчет мистера Крокера? – спросил мистер Джирнингэм, в конце августа. Сэр Бореас уже отправил семью в небольшое именье, которое у него было в Ирландии, и откладывал собственные каникулы из-за этого ужасного дела. Мистер Джирнингэм никогда не мог уехать, пока Эол не уедет. Сэр Бореас все это знал и ему было очень совестно.
– Напомните мне об этом завтра, и мы все покончим, – сказал он самым любезным тоном. Мистер Джирнингэм вышел из комнаты нахмуренный. – Чорт бы его побрал, – сказал сэр Бореас, как только дверь затворилась, и еще отодвинул бумаги, причем сбросил их с большого стола на пол. Кого он посылал в чорту, мистера Джирнингэма или Крокера, он едва ли сам знал. Тут он вынужден был унизиться и поднять кипу.
К этот день Эол воспрянул. Около трех часов он послал, не за мистером Джирнингэмом, а за Роденом. Когда Роден вошел в комнату, перед громовержцем лежала неразвязанная кипа бумаг.
– Не можете ли вы послать за этим господином и выписать его сюда сегодня? – спросил он. Роден обещал постараться.
– Не могу я решиться просить о его увольнении, – сказал Эол. Роден только улыбнулся. – Бедняк собирается жениться. – Роден опять улыбнулся. Живя в Парадиз-Роу, он знал, что дама, о которой шла речь, урожденная Клара Демиджон, была уже счастливой женой мистера Триббльдэля. Но он знал также, что после такого долгого антракта Крокера уволить неудобно, и не был достаточно зол, чтобы лишить своего принципала такого благовидного предлога. А потому он вышел из комнаты, заявив, что тотчас пошлет за Крокером.
За ним послали, он явился. Крокер вошел в кабинет с тем полухвастливым, полутрусливым выражением лица, которое обыкновенно является, когда человек напуганный старается показать, что он ничего не боится. Сэр Бореас засунул пальцы в волоса, сильно нахмурился и мигом превратился в грозного Эола.
– Мистер Крокер, – сказал громовержец, положив руку на кипу бумаг.
– Сэр Бореас, никто не может больше сожалеть о несчастном случае, чем сожалею я теперь.
– Случай!
– Боюсь, сэр Бореас, что мне не удастся объяснять этого вам.
– Полагаю, что нет.
– Первую бумагу я, действительно, разорвал случайно, думая, что это что-нибудь ненужное.
– А затем подумали, что и остальные можно за нею отправить.
– Бумаги две были разорваны случайно. Затем…
– Ну!
– Надеюсь, что, на этот раз, вы оставите без внимания, сэр Бореас.
– Я только и делаю, что оставляю без внимания, по вашему выражению, с минуты вашего поступления в департамент. Вы – позор департамента. Вы ни на что негодны. Вы больше причиняете беспокойства, чем все остальные клерки, вместе взятые. Мне надоело слышать ваше имя.
– Если вы меня опять примете, я исправлюсь, сэр Бореас.
– Ни минуты не верю этому. Я слышал, что вы собираетесь жениться. – Крокер молчал. – Ради молодой особы, мне не хочется выгнать вас на улицу в такое время. Сожалею только, что у нее нет более твердой основы для счастия.
– Ей будет хорошо житься, – сказал Крокер.
– Но прошу вас верить одному, – сказал Эол, еще более уподобляясь громовержцу, – что ни жена, ни ребенок, ни радость, ни горе, не спасут вас, если б вы снова заслужили отрешение от должности.
Крокер, с самой милой улыбкой, поблагодарил сэра Бореаса и удалился. Впоследствии говорили, будто сэр Бореас заметил и понял улыбку на лице Родена, сопоставил равные обстоятельства и пришел к твердому убеждению, что свадьбы никакой не будет. Но если б он лишился этого предлога, где бы нашел он другой?








