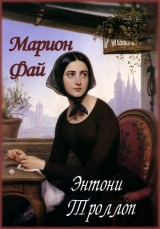
Текст книги "Марион Фай"
Автор книги: Энтони Троллоп
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
XXIV. Лорд Гэмпстед опять у Марион
Квакер был совершенно в руках дочери. Чего бы она ни пожелала, он согласился бы на все. Когда она сказала ему, что желала бы съездить в Лондон на несколько дней, он, конечно, ей не противоречил. Когда она объяснила, что хочет это сделать для того, чтобы повидаться с лордом Гэмпстедом, он только печально покачал головой и молчал.
«Конечно я приеду, так как вы этого желаете, – писала Марион своему другу. – Каких бы ваших желаний я не исполнила, кроме тех, которых у вас и быть бы не должно. Мистрисс Роден говорит, что я должна ехать в город, чтоб выслушать нотацию. Не будьте ко мне очень строги. Не думаю, чтоб вам следовало просить меня делать то, чего, как вы знаете, я сделать не могу. О, мой милый, как бы я желала, чтоб все было кончено, чтоб ты был свободен».
В ответ на это письмо, да и на другие в том же роде, он писал ей длинные послания, в которых старался сдерживать уверения в своей любви, с целью тем вернее убедить ее посредством логичности своих доводов. Он говорил ей о воле Божией, о грехе, который она возьмет на душу, решившись предвещать действия Провидения. Он много говорил об узах, которые соединили их, когда они объяснились друг другу в любви. Он пытался объяснить ей, что она не вправе решать такой вопрос самовольно, не справляясь с мнением тех, кто должен знать свет лучше, чем она его знает. Если бы был совершен коротенький обряд, она была бы обязана повиноваться ему, как мужу. Неужели она и теперь не обязана была признать его право, разве не ее явный долг был слушаться отца, если уж не его? В конце четырех, тщательно написанных, полных страниц, вдруг прорывалось два, три выражения, говорящие о страстной любви. Едва ли нужно говорить, что, насколько переполненные рассуждениями страницы не имели для Марион никакого значения и ни в чем ровно ее не убеждали, настолько же эти несколько слов были для нее хлебом насущным.
Она понимала его, давала ему настоящую цену. Он был так искренен, что даже самые преувеличенные его выражения не могли быть не искренними. Что же до его рассуждений, она знала, что источник их – страсть. Она не сумела бы логически доказать ему это, но он безусловно ошибается. Она не была обязана прислушиваться ни в какому другому голосу, кроме голоса собственной совести. Она обязана была не подвергать его огорчениям, которые достались бы ему на долю, если б он сделался ее мужем. Она не знала насколько он окажется слабым или сильным, когда придется нести бремя горя, которое несомненно обрушится на него, когда она умрет. Она слыхала, а отчасти и видала, что время всегда уменьшает тягость этого бремени. Может быть, лучше было бы, чтоб она умерла поскорей. Она начинала думать, что он будет не в состоянии приискивать себе жену, пока она жива. Она постепенно, но вполне убедилась в его сердечном постоянстве. Ей говорили, что большинство мужчин не таково. Когда она только что полюбила его, она не думала, что он окажется таким.
«Конечно, – писала она, – я буду дома во вторник, в два часа. Разве я не всякий день и не во все часы – дома? Мистрисс Роден не будет, – так как вы этого не желаете, хотя мистрисс Роден всегда была вам другом. Конечно, я буду одна. Папа всегда в Сити. Быть милой с вами! Конечно, я буду с вами мила. Как могу я неласково обращаться с единственным существом, которое люблю больше всего на свете? Я постоянно думаю о вас; но действительно бы желала, чтоб вы так много не думали обо мне. Мужчина не должен так много думать о девушке, а лишь так, в свободные минуты. Не думала я, что так будет, когда разрешила вам любить меня».
Все утро знаменитого вторника, перед отъездом из дома, он не только думал о ней, но пытался привести в порядок доводы, которые могли ему понадобиться – с целью, в конце концов, убедить ее. Он совершенно не понимал, как бессильны были его доводы, по отношению к ней. Когда мистрисс Роден говорила ему о нравственной силе Марион, он поверил ей только отчасти. Во всех маловажных вопросах, Марион была перед ним слаба, как истая женщина. Когда он говорил ей, что то или другое прилично и хорошо, она принимала это как евангельскую истину, потому что говорил это – он. Даже когда она заглядывала ему в лицо, в ней сказывалась часть прежнего благоговейного страха. Потому что он был аристократ, а она дочь простого квакера; в их отношениях, несмотря на идеальную любовь, все еще проглядывало неравенство положений. Казалось естественным, что он должен приказывать, а она должна повиноваться. Как же после этого могло быть, чтоб она не послушалась его в этом важном вопросе, который был для него таким существенным? А между тем, до сих пор, ему никогда не удавалось хоть сколько-нибудь убедить ее.
При всей своей кротости и робости, она уже все порешила, даже до приветствия, которым встретит его. Его первый, горячий поцелуй озадачил ее. С тех пор она об этом думала и сказала себе, что такие доказательства любви не могут причинить ей никакого вреда.
Когда он вошел в комнату, он тотчас обнял ее.
– Марион, – сказал он, – Марион! и вы говорите, что вы больны? Вы свежи как роза.
– Лепестки розы скоро опадают. Но мы не будем говорить об этом. Зачем этого касаться?
– Ничего не сделаешь. – Он продолжал держать ее за талью и теперь снова поцеловал. В ее немой покорности было нечто, что заставило его в первую минуту подумать, что она наконец решилась окончательно уступить ему. – Марион, – продолжал он, не выпуская ее из объятий, – вы позволите мне убедить вас? Вы теперь будете моей?
Постепенно – очень кротко – ей удалось освободиться.
– Сядьте, милый, – сказала она. – Вы волнуете меня всем этим. Мне вредно волноваться.
– Я буду смирен, неподвижен, если вы только скажете мне одно слово. Скажите мне, что нас не разлучат и я больше ни о чем не буду просить.
– Разлучить!.. Нет, не думаю, чтоб нас разлучили.
– Скажите, что настанет день, когда мы, действительно, соединимся, когда…
– Нет, милый, нет. Этого я сказать не могу. Я не могу изменять ничего из сказанного прежде. Вот мы тут с вами, вдвоем, любим друга друга всем сердцем, а между тем этому не бывать. Иногда я себя спрашиваю: «Моя ли тут была вина»?
Теперь она сидела, а он стоял над ней, но все еще держал ее за руку.
– Ничьей вины тут не было.
– Когда случается такое большое несчастие, тут обыкновенно не без вины. Но не думаю, чтоб у нас так было. Поймите меня. Несчастие не со мной. Не думаю, чтоб Господь мог ниспослать мне большее блаженство, чем быть любимой вами, если б ваше горе, ваши жалобы не отнимали у меня моей радости.
– Так не отнимайте же и у меня моей, – сказал он.
– Из двух зол вы должны выбирать меньшее.
Он выпустил ее руку и то стоял далеко от нее, то ходил по комнате, пока она старалась объяснить ему свои мысли, по мере того, как они приходили ей в голову.
– Не знаю, как могла бы я поступить иначе, – говорила она, – когда вы так стремились меня уверить, что любите меня. Теперь мне кажется, что я могла бы уехать, не ответив вам ни словом.
– Это вздор, чистый вздор, – сказал он.
– Я не могла бы солгать вам. Раз я попыталась, но слов не находила. Если бы я промолчала, вы прочли бы истину в глазах моих. Что ж могла я сделать? А между тем, не было минуты, чтоб я не знала, что будет то, что есть.
– Этого не должно быть.
– Но раз, что оно так есть, почему бы нам не взять с судьбы что можно? Неужели вы не можете находить радости в мысли, что придали невыразимую прелесть жизни вашей бедной Марион? Если б я могла думать, что вы в силах не склонять головы и принять скромный дар моей любви, не преувеличивая его значения, тогда, мне кажется, я могла бы быть счастлива до конца.
– Чего ж вы от меня требуете? Разве может человек любить и не любить?
– Мне почти кажется, что может. Я почти думаю, что мужчины так и делают. Я не желала бы, чтоб вы меня не любили. Я не хотела бы совершенно лишиться того, что для меня свет и слава. Но мне хотелось бы, чтоб любовь ваша была такого рода, чтоб не совсем порабощала вас, чтоб вы не забывали вашего имени, вашей семьи.
– Мне нет никакого дела до моего имени. Что до меня касается, не я продолжу мой род!
– О, милорд! Благодаря вам…
– Это недостойно мужчины, лорд Гэмпстед. Из-за того, что такая бедная, слабая девушка, как я, не может исполнит всех ваших желаний, вы отрекаетесь от вашей силы, от вашей молодости, от всех надежд, которые вы должны были бы питать? Одобрили ли бы вы другого, если б услыхали, что он от всего отказался, пренебрег своими обязанностями из любви к какой-нибудь Двушке, которая, по мнению света, несравненно ниже его?
– Тут нет речи о выше и ниже. Здесь, по крайней мере мы равны.
– Мужчина и девушка никогда не могут быть равны. У вас блестящая будущность, и вы уверяете, что все ничто, потому что я не могу быть вашей женой.
– Что ж мне делать, если сердце мое разбито? Вы одни можете мне помочь.
– Нет, лорд Гэмпстед, в этом-то вы и ошибаетесь. Тут позвольте мне сказать, что я яснее вас понимаю дело. С усилием с вашей стороны, все еще может уладиться.
– Усилие?.. Какое усилие?.. Разве я могу заставить себя забыть, что когда-нибудь видел вас?
– Нет, забыть вы не можете. Но вы можете решить, что, не забывая меня, вы должны меня помнить лишь настолько, насколько я этого стою. Вы не должны покупать ваших воспоминаний слишком дорогою ценой.
– Чего ж вы от меня требуете?
– Я желала бы, чтоб вы выбрали другую жену.
– Марион!!
– Я желала бы, чтоб вы выбрали другую жену. Если не сейчас, я бы желала, чтоб вы сейчас решились на это.
– Вам не больно было бы сознавать, что я люблю другую?
– Мне кажется, что нет. Я себя испытывала и теперь мне кажется, что мне это не было бы больно. Было время, когда я себе признавалась, что это было бы очень горько, тогда я сказала себе, что надеюсь… что вы подождете. Но теперь я признаю суетность и эгоизм подобного желания. Если я действительно люблю вас, разве я не обязана желать того, что для вас лучше?
– Вы считаете это возможным? – сказал он. – Неужели вы думаете, что могли бы так поступить, если б это было удобно с внешней стороны?
– Нет, нет, нет.
– Почему ж вы считаете меня более жестокосердым, чем вы сами?
– Я желала бы видеть в вас мужчину.
– Я вас выслушал, Марион, теперь выслушайте меня. Все ваши утонченные различия между мужчинами и женщинами – все вздор. Есть и мужчины, и женщины, которые любить могут и любят, есть и другие, которые не любят и не могут любить. К добру ли это или к худу, но мы с вами можем любить и любим. Вам невозможно было бы и подумать отдаться другому?
– Это, конечно, правда.
– Тоже и со мной, и всегда так будет. Останетесь ли вы в живых или нет, у меня не будет другой жены, как Марион Фай. Относительно этого, я вправе ожидать, что вы мне поверите. Будет ли у меня жена или нет – вам решать.
– О, милый, не убивай меня.
– Это неизменно. Если ты умеешь быть твердой и я умею. Что же касается до моего имени и моей семьи, все это ничего не значит. Если б я мог смотреть вперед и думать, что ты сядешь у моего очага, с моим ребенком на руках, тогда я был бы в силах помышлять о деятельности. Если этому не бывать, до остального мне нет дела. Другие позаботятся о судьбе Траффордов. Мне было бы приятно слегка свернуть с избитой дорожки, отрадно показать свету, какую прелестную графиню я ввожу в его салоны. Мне это удалось. Я нашел девушку, которая действительно делала бы честь моему имени. Если этому не бывать – что ж, пусть имя и семья идут по-прежнему старой, избитой дорогой. Вторично я пытаться не буду. Выбор мой сделан – и вот последствия.
– Подожди, милый, подожди. Не думала я, что до этого дойдет, но подожди.
– Кто может сказать, что Бог мне еще приуготовил. Я дал тебе высказаться, Марион; теперь надеюсь, что ты поймешь меня. Твоего решения я не принимаю, но мое ты примешь. Обдумай все это, и когда мы снова увидимся, через день или два, скажи мне, не решишься ли ты соединить свою судьбу с моею и зажить, как велит Бог.
С этим он снова поцеловал ее и вышел, не прибавив более ни слова.
XXV. Горе Крокера
В половине лета самые разнообразные интересы занимали Парадиз-Роу. Не было в этой улице ни одного человека, который, хоть отчасти, не был бы знаком с печальной историей Марион Фай и ее любви. Невозможно было и ожидать, чтоб такой человек, как лорд Гэмпстед, часто посещал эту улицу, не возбуждая внимания.
Когда Марион возвратилась домой из Пегвель-Бея, даже мальчик из таверны знал, зачем она приехала. Кроме того, был важный вопрос о «герцоге». Образовались целые партии «за» и «против». Партия Демиджонов, находясь под влиянием Крокера, была такого мнения, что раз, что Джордж Роден – герцог, ему не отделаться от своей герцогской природы, и энергически выражали мысль, что совершено прилично называть герцога герцогом, все равно желает ли он этого, или нет. Но хозяйка таверны, мистрисс Гримлей, горячо держалась противной стороны. Джордж Роден, по ее понятиям, будучи почтамтским клерком, несомненно англичанин, а в качестве англичанина, т. е. свободного человека, вправе называться как ему угодно. Большинство находило, что она выражает но этому вопросу совершенно приличную конституционную теорию, и так как она имела большое влияние в околодке, то герцога, по большей части, называли по старому; но дело не обходилось без распрей, а раз даже дошло до рукопашной. Все это очень оживляло Парадиз-Роу.
Но возник еще новый источник живейшего интереса. Самуил Крокер был объявленным женихом мисс Демиджон. Много было затруднений, пока все это уладилось. Крокер, конечно, желал, чтоб часть громадного богатства, которое молва приписывала мистрисс Демиджов, перешла к невесте в день ее свадьбы. Но споры, которые возникли между ним и старушкой по этому вопросу, были бурны и бесплодны.
– Право, эти вещи совершенно непонятны, – сказал Крокер мистрисс Гримлей, давая ей понять, что он не намерен расстаться со свободой без достаточного вознаграждения.
Мистрисс Гримлей успокоила молодого человека, напомнив ему, что старушка – большая охотница до горячей водки пополам с водой и что она не может «захватить с собой свои деньги туда, куда отправится». Крокер наконец удовлетворился уверением, что будет завтрак и приданое в сто фунтов. Благодаря этому обещанию и надежде на благодетельное содействие водки с водой, он уступил, и дело было сделано.
Если б все этим ограничилось, это не вызвало бы в Парадиз-Роу особого волнения. Парадиз-Роу был так занят графами, маркизами и герцогами, что любовь Крокера прошла бы почти незаметно, если б не один случай, трогательный по существу и интересный по развитию.
Даниэль Триббльдэль, младший клерк в конторе Погсона и Литльбёрда, мужественно боролся с своей страстью в Кларе Демиджон; но, несмотря на энергический характер борьбы, любовь победила. Он наконец нашел невозможным отказаться от избранницы своего сердца и выразил намерение «размозжить голову Крокеру», если когда-нибудь встретит его в соседстве Парадиз-Роу. С целью это исполнить, он постоянно посещал эту улицу, от десяти часов вечера до двух утра, и тратил в таверне гораздо больше денег, чем бы следовало. Иногда он стучался в дверь № 10 и смело спрашивал мисс Клару. Раза два он ее видел и пролил целые потоки слез. Он бросался в ее ногам, она уверяла его, что это тщетно. У Погсона и Литльбёрда он спустился до 120 фунтов в год и не было никакой надежды на прибавку. Кроме того, Крокер уже был женихом. Клара просила Даниэля не появляться в окрестностях Галловэя. Ничто, клялся он, не разлучит его с Парадиз-Роу. Если б этот завтрак был когда-нибудь дан, если б эта ненавистная свадьба когда-нибудь состоялась, о нем услышат. Тщетно Клара угрожала умереть на пороге церкви, если он совершит какой-нибудь необдуманный поступок. Он решился, и Клара, конечно, была тронута его постоянством. Достойно замечания, что Крокер и Триббльдэль никогда не встречались в Парадиз-Роу.
Понедельник, 13 июля, был день, назначенный для свадьбы. Квартира для счастливой четы была нанята в Айлингтоне. Надеялись было, что для них найдется место в № 10; но старушка, опасаясь докучливости нового жильца, предпочла ужасы одиночества обществу племянницы и ее мужа. Она, однако, подарила часы и небольшую фисгармонику, чтобы скрасить гостиную меблированных комнат; так что можно было сказать, что отношения поставлены на твердую и приятную ногу. Мало-помалу, однако, и старушка, и молодая особа стали находить, что Крокер слишком горячится из-за важного вопроса о герцоге. Когда он объявил, что ничто в мире не заставит его назвать своего друга каким бы то ни было именем кроме аристократического титула, принадлежащего ему по праву, ему предложили вопрос другой – относительно его образа действий в департаменте. До Парадиз-Роу дошел слух, что Крокер своим упрямством надоел всем в департаменте.
– Говоря о нем, я всегда называю его «герцог», – сказал Крокер, – также и при встрече. Конечно, это может на короткое время вызвать легкую холодность, но признает же он, наконец, справедливость побуждения, которое руководит мной. Он – герцог.
– Если вы будете продолжать делать то, чего вам не велят, – сказала старуха, – вас удалят.
Крокер на это только улыбнулся. Сам Эол не удалит его за приверженность в обычаям европейских дворов.
Крокер, действительно, превратился в бич почтамта. Сэр Бореас имел свой взгляд на титул Родена и желал помочь лорду Персифлаж заставить клерка признать свое аристократическое происхождение. Но когда он убедился, что решимость Родена тверда, он уступил. На этот счет не было сделано никакого распоряжения. Едва ли в подобных вопросах допускаются распоряжения. Но само собой понималось, что, так как мистер Роден желает остаться мистером Роденом, он и должен им быть. Было решено, что приличие требует, чтоб его называли так, как он сам этого желает. А потому, когда Крокер упорствовал, все признали, что Крокер до крайности несносен. Когда Крокер объявил Родену лично, что совесть ему не позволяет при встрече с человеком, которого он считает аристократом, не назвать его его титулом, весь департамент нашел, что Крокер – осел. Слышно было, что Эол выразил сильную досаду и объявил, что этого господина, рано или поздно, придется уволить. Это передали Крокеру.
– Сэр Бореас не может меня уволить за то, что я называю аристократа его настоящим именем, – с негодованием ответил Крокер.
Клерки, в своих интимных разговорах, признавали, что оно, пожалуй, справедливо, но замечали, что есть разные способы доканать человека. Если Эол желал повесить Крокера, Крокер, конечно, вскоре доставит ему веревку. У Боббина с Гератэ состоялось небольшое пари, что ранее конца года Крокер перестанет появляться в департаменте.
Увы! как раз перед днем, назначенным для свадьбы бедняка, в течение первой недели июля, нашему Эолу не только представился случай уволить бедного Крокера, но этот случай был таков, что, по общему приговору, было решено, что невозможно было им не воспользоваться. Кроме того, известие о содеянном грехе дошло до сэра Бореаса в минуту сильного раздражения, вызванного другой причиной.
– Сэр Бореас, – сказал Крокер, входя в кабинет великого человека, – надеюсь, что вы сделаете мне честь присутствовать на моем свадебном завтраке. – Уже это приглашение было непростительной дерзостью… – Я не приглашаю никого больше из департамента, кроме герцога, – прибавил Крокер.
Как Крокера мгновенно выпроводили из комнаты, мы здесь описывать не станем, но читатель может быть совершенно уверен, что ни Эол, ни «герцог» приглашения не приняли. В этот самый день мистер Джирнингэм, с помощью одного из курьеров, открыл, что Крокер изорвал целую кипу официальных бумаг!
В числе многих грехов Крокера была привычка «затягивать бумаги». Надо было написать несколько писем, или, вернее, снять с них копии, а Крокер откладывал работу со дня на день. Бумаги куда-то запирались, точно само собой, иногда и найти их было трудно. Были люди в департаменте, которые говорили, что на заявления Крокера не всегда можно положиться, а за последнее время был случай, когда несчастного заподозрили в том, будто он спрятал кипу бумаг, про которую он утверждал, что она никогда и не бывала у него на хранении. Туг поднялась целая буря в кругу тех, у кого должны были бы быть бумаги, если у Крокера их нет; сделаны были усиленные поиски. При этом и открылось, что Крокер положительно уничтожил документы! Предметом их были жалобы беспокойного старика, который, уже много лет, взводил на департамент всевозможные обвинения. Судя по словам этого раздражительного господина, сатанинские ухищрения были пущены в ход с целью помешать ему получить хотя бы одно письмо в течение многих лет.
Претензии старика были лишены всяких оснований; но теперь было почти невозможно не дать ему знать, что все его письма с жалобами уничтожены. Конечно, Крокера следует совсем отрешить от должности. Временно его отрешили сейчас же и потребовали от него письменных объяснений.
– А свадьба моя назначена на будущей неделе, – со слезами сказал он мистеру Джирнингэму. Эол не пожелал его видеть, а мистер Джирнингэм, при этом воззвании, только покачал головой.
Никто никогда не узнал, кто первый сообщил страшную весть в Парадиз-Роу. Одни говорили, что Триббльдэль знаком с приятелем Боббина и что он-то все и сообщил Кларе, в анонимном письме. Другие упоминали о дружбе между мальчиком из таверны и сыном одного из курьеров. Как бы то ни было, истина дошла до № 10. Крокер был вызван на свидание со старухой, и ему тут же объявили, что свадьба состояться не может.
– Чем вы намерены, сэр, содержать эту молодую особу? – спросила мистрисс Демиджон, со всей строгостью, на какую только была способна. Крокер был так убит, что не нашел ни слова в свою защиту. Он не посмел сказать, что, может быть, его и не уволят. Он не отвергал, что уничтожил бумаги.
– Я совершенно к нему охладела, когда увидела, что старуха так его загоняла, – впоследствии говорила Клара.
– Что ж мне делать с квартирой? – спросил Крокер, плача.
– Разорвите ее, – сказала мистрисс Демиджон, – разорвите. Только возвратите часы и фисгармонику.
Крокер в отчаянии искал помощи повсюду. Может быть, Эол и окажется мягкосердечнее Клары Демиджон. Он написал лорду Персифлаж, давая ему самый подробный отчет о положении дела. «Герцога» он боялся, иначе он обратился бы к нему. Но ему вспомнился лорд Гэмпстед, с которым он познакомился на охоте и так приятно провел время, и он отправился в Гендон. Лорд Гэмпстед в это время жил там в полном уединении. Марион Фай увезли назад в Пегвель-Бей, а жених ее засел в своем старом доме и не видался почти ни с кем. На сердце у него было очень тяжело. Он начинал верить, что Марион, действительно, никогда не будет его женой. Он находился в этом состоянии, когда Крокера привели к нему в сад, где он бродил.
– Мистер Крокер, – сказал он, остановившись на дорожке и смотря прямо в лицо посетителя.
– Да, милорд, это я. Я, Крокер. Вы помните меня, милорд, в Кумберлэнде?
– Я вас помню, – в замке Готбой.
– И на охоте, милорд?
– Что могу я теперь для вас сделать?
– Я всегда находил, милорд, что ничто лучше спорта не скрепляет привязанностей.
– Если вы желаете что-нибудь сообщить…
– Между вами еще другая связь, милорд. Мы оба искали себе подруг в Парадиз-Роу.
– Если у вас есть что сказать, говорите.
– Что же касается до вашего приятеля, милорд… Вы знаете, на кого я намекаю. Если я чем и оскорбил его, то только потому, что думал, что если титул несомненно принадлежит ему по праву, то молодой особе, которую я называть не стану, следовало бы им пользоваться. Я делал это только из преданности семейству.
– Зачем вы сюда явились, мистер Крокер? Я в настоящую минуту не расположен беседовать, могу сказать, ни на какую тему. Если я чем-нибудь…
– О, милорд, меня хотят уволить! Ради Парадиз-Роу, милорд, вступитесь, вступитесь, вступитесь за меня. – Тут он рассказал всю историю бумаг, объяснив только, что разорвал их случайно. – Сэр Бореас сердится на меня за то, что я счел приличным называть, вы знаете кого, его титулом, а теперь меня хотят отрешить от должности, как раз в то время, когда я готов был вести эту прекрасную и образованную девушку к алтарю. Подумайте только, если б вас с мисс Фай так разлучили.
Лорд Гэмпстед пытался растолковать своему гостю, что он ничем даже не может оправдать своей просьбы.
– Но письмо! Вы могли бы написать письмо. Письмо ваше, милорд, сделало бы так много. – Лорд Гэмпстед покачал головой. – Если б вы только сказали, что были со мной коротко знакомы в Кумберлэнде! Конечно, я не беру на себя смелость утверждать, чтоб это была правда, – но чтоб спасти бедняка накануне его свадьбы!
– Письмо я напишу, – сказал лорд Гэмпстед. – Я не могу сказать, что мы были короткими приятелями, потому что это была бы неправда.
– Нет, нет, конечно нет.
– Но я напишу сэру Бореасу. Не могу себе представить, чтоб это могло оказать какое-нибудь действие.
– Окажет, милорд.
– Я напишу и скажу, что ваш отец имеет отношения к моему дяде и что ваше положение, – я говорю о близости свадьбы, – могло бы быть принято за основание для помилования. Прощайте.
Не очень скоро, но с усиленными выражениями благодарности и не без слез бедный Крокер распростился. Вскоре после его отъезда было отправлено следующее письмо:
«Сэр!
Хотя я не имею чести быть вам известным, я беру смелость написать вам о положении одного из ваших клерков. Вполне сознаю, что если б вы за это сделали мне замечание, я заслужил бы его моим неизвинительным вмешательством. Мистер Крокер уверяет меня, что ему грозит отрешение от должности, из-за проступка, которого вы, как начальник его, крайне не одобряете. Он просит меня ходатайствовать за него перед вами. Отец его – управляющий имениями моего дяди, лорда Персифлаж, и мы встречались в доме дяди. Не смею выставлять это как причину для помилования. Но мистер Крокер намерен жениться в очень скором времени, а потому я позволяю себе думать, что вы согласитесь со мною, что к эпохе в жизни человека, которая должна бы быть эпохой радости и полного удовлетворения, можно отнестись с чувством снисходительности, которое, в другое время, было бы предосудительно.
Ваш покорный слуга Гэмпстед».








