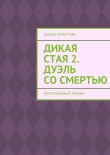Текст книги "Дикая стая"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Глава 7. ИСПЫТАНИЯ
После отъезда Степки в доме стало пусто и мрачно. Едва вернулись из аэропорта, Анна села за стол потерянно. Кусок стал поперек горла. Все летело из рук. Гошка понимал, Степка впервые уехал из дома, поэтому бабе было непривычно и тяжело. Куда ни ткнись, везде напоминание о сыне. И поселенец не выдержал:
– Ань, давай я тебя за грибами отвезу. Хоть отвлечешься и заодно полезное для дома сделаешь. Ну, чего сидишь как клушка на яйцах? Сын учиться поехал, радоваться надо. Ты ж себя потеряла. Соберись в кулак, не распускайся! – Георгий повез бабу на марь.
Там грибов было видимо-невидимо. Женщина, увидев, руками всплеснула от радости:
– Гошка, что ж раньше не привез сюда? – торопливо срезала грибы.
Поселенец и перекурить не успел, как баба набрала два ведра отборных подосиновиков.
– Послушай, Аннушка, я тебе оставлю собаку, а сам смотаюсь пока наверх, гляну, не озоруют ли там поселковые. Ты грибы сложи в кучку. Я скоро вернусь за тобой, – пообещал Корнеев Анне.
Оставив ей сумку с едой, сел в лодку и, помахав рукой, умчался вверх по Широкой.
Анна собирала грибы, не оглядываясь по сторонам. Да и кого ей было бояться здесь, на мари? Здесь не только люди, всяк гриб на виду. Женщина едва успевает их срезать, а тут на большую поляну маслят наткнулась. Обрадовалась, что насолит их на всю зиму. И если б ни тревога за Гошу и Степку, баба смотрела б на жизнь веселее.
Инспектор тем временем уже проскочил лесников и торопился вверх по реке. Он слышал от Егора и Якова, что браконьеры всякий день везут с верховья Широкой рыбу и икру в поселок. Места там глухие, малодоступные, вот и обосновались.
Поселенец уже миновал последний поворот, как вдруг над его головой прогремел внезапный выстрел. Гошка оглянулся и увидел в кустах человека. Тот стоял в полный рост, вовсе не думал прятаться или убегать.
– Ты что, старая плесень, совсем мозги просрал? Иль только у тебя оружие имеется? Да я тебя как клопа самого размажу и не промахнусь! – остановился перед старым костистым мужиком.
– С чего взял, что я промазал? Размечтался! Если б я порешить тебя хотел, ты нынче не кобенился бы здесь, а валялся б в лодке тряпкой! Понял иль нет? Не забывай, с кем имеешь дело – с гвардией! Я не в тебя стрелял, чокнутого! Позвал, чтоб курева попросить, свое кончилось!
– Скажи, чего тебя здесь черти носят? – огляделся Гоша вокруг.
– Слепой ты что ли? Не видишь ульи? Я уж давно с пчелами вожусь. Вывожу все ульи на целое лето. Вместе с пчелами сам отдыхаю, качаю мед, бабка его продает в поселке. А как иначе? На голую пенсию ни за что не прожили б. Мед хорошую прибавку дает. Не то на харчи, но и на одежу с обувкой хватает, что-то в избу купить можем. Нас эти пчелы заново в свет вывели, – взял сигарету у Гошки и, сев на бревно, закурил.
– Я подумал, что ты браконьеров обо мне предупредил загодя! – признался Гоша.
– Э-э, браток, не мое это дело в ваши разборки соваться. Сами разбирайтесь! – отмахнулся мужик и продолжил, – никто вкруг не брехнет, что я, дед Иосиф, грязными делами себе на хлеб промышляю. Меж тобой и поселковыми не встану. Я – не судья! Нынче их и без меня хватает! В одной милиции, глянь, сколько дармоедов! Тоже судьи! А тряхни, всяк в говне по уши. Сам знаешь! Человеку жрать надо и, коль он на той рыбе вырос, на што ее отымаете у него? Ить рыбу в реки не ты, не государство, а Господь дает. Для всех на пропитание. А вы с зубов выдираете! Это по-людски? – кряхтел старик.
– А кто рыборазводные заводы построил, из икры мальков растит и отпускает в море, чтоб выросли и пришли на нерест к своим берегам?
– Не было ваших заводов, когда мы тут поселились. Рыбы было в тыщи раз больше, чем теперь. Такие косяки шли, что реку вброд пройти не можно было. С ног сшибала кета. Так-то вот! Сегодня близко не похоже на то время, хоть и народу жило много, и солдаты здесь стояли, и зверье водилось. А рыбы прорва имелась. Как стали ее отымать у людей, лосося будто кто обрезал. Косяки жидкие, сама рыба дрянная. Такую ни то есть, смотреть на нее гадко. С незрелой икрой приходит. Разве это дело? В наше время такую в переработку не взяли б! А теперь все метут. За жадность вас Бог карает. Вы и того не видите!
– Конечно, мы виноваты! Поселковые икру выдавят, рыбу выкинут, а потом удивляемся, почему в магазине рыбы нет? А она по всем берегам гниет. На реке от ее вони не продохнуть. И опять мы виноваты! – возмущался Гоша.
– Человек не оставил бы рыбу, но спробуй ее повесить коптить или вялить, вы ж мигом появитесь
и вытряхните тех мужиков из их же шкур. Иль скажешь, не было такого? Сколько за лето под суд отдал поселковых? От того нынче каждого куста боишься. Знаешь, охотятся на тебя! Не стану их защищать. Ты – человек подневольный. Не сам напросился, тебя заставили, мол, иначе обратно в зову воротим. Кто ее не познал, тот едино тебя не поймет. Она с любого кровь вместе с жизнью изопьет. Мне ли то не знать, – опустил человек голову и замолчал.
– Дед Иосиф, а ты тоже отбывал срок? – удивился Гошка.
– Пошли со мной, попьем чайку с медом. Угощу тебя, там поболтаем. На реке о том не хочу вспоминать! – встал старик и привел в землянку.
Тут было прохладно и тихо. Пахло медом и цветами, какими-то травами, висевшими в пучках по всем стенам.
– Присядь. Не топчись у двери. В ногах едино нет правды, – налил чай, набрал меда в чашку, поставил перед поселенцем. – Ешь, Гоша, Божье. Это у нас не отымется ни людьми, ни правительством, – улыбнулся вымученно и, скрипнув спиной, сел напротив. – Я ить тож не на Камчатке народился. В Смоленске жил аж до самой войны. Знал бы ты, какой пригожий тот город! Каждая улочка со своим лицом и форсом. Сирень под окнами облаками цвела. На улицах яблони. Их добрые люди посадили для всех. Какие там березы и каштаны, какие тополя! Глаз не оторвать. И если б не война, не покинул бы свой дом. Мне тогда восемнадцать стукнуло. Со всеми мужиками ушел на фронт после школы. Считай с выпускного бала, первого и последнего в моей жизни! И увезли нас ночью, чтоб по темноте не приметил немец нашу колонну и не разбомбил ее, – закурил Иосиф.
– А за что на зону попал? Иль дезертировал, иль в плен взяли? – торопил Гоша.
– Э-э, нет! Я в слабаках не обретался ни в жисть! Снайпером стал в разведроте. Меня на особые задания посыл ал, когда нужен был язык! Сколько немецких офицеров подстрелил – со счету сбился. За это награждали всякий раз. «За отвагу» и орден «Боевого Красного знамени», три «Солдатских славы» получил. Потом «Красной звезды» дали. Дело шло к ордену Ленина. И вот тут-то осечка приключилась. Мы уже были в шаге от победы, в самом что ни на есть Берлине. Седьмое мая! Уже немец сидел в жопе. Бои закончились, ждали, когда фриц капитулирует. Ему едино уже деваться стало некуда, но как бы там ни было, с чердаков, крыш, из окон и даже из развалин по нашим ребятам стреляли ихние снайперы. Я, понятное дело, залег и стал наблюдать, откуда напасть? Троих снял, загасил насмерть. Тихо стало. Мне руки пожимают, благодарят, мол, молодец, навел порядок! А тут еще двое ребят-снайперов подошли. Свои же, с ними всю войну прошли, но их подначивать стали, мол, отсиделись где-то, пока Иосиф не разделался и не очистил этот сектор для нас. Может, и не задело бы их самолюбие, но высмеял их сам комбат. Они подумали, что я выделывался, и отошли ненадолго. Потом вернулись и предложили мне, давай, говорят, посмотрим, кто из нас троих лучший снайпер? Я посмеялся, мол, война наше доказала, все одинаковы! Но они настояли, а я как полудурок согласился. Стреляли мы при всех. Мишени были разные. Когда до меня дошла очередь, один из тех двоих подбросил монету, я попал в нее, второй подкинул звездочку, и ее раздолбал вдребезги. Только хотел глянуть на свою работу – меня двое заградотрядовцев скрутили и посоветовали не дергаться, мол, себе же хуже сделаю. Увели от своих и в тот же день сорвали с меня все награды. А на третий день военный трибунал приговорил к пятнадцати годам Колымы, – выдохнул человек со стоном.
– Но за что? – не понял Гошка.
– А за то, что стрелял в герб своей страны. Монета была нашей. Уж как они ее сберегли или нашли, того не знаю. Герб – это всего лишь символ, но я, даже пройдя войну, не понял, как мог бы осквернить иль осмеять то, что заслонял жизнью. Прибавили и звезду с пилотки. Она – символ Армии. Меня долго не держали, назвали диверсантом и шпионом иностранной разведки, внедрившимся в боевой отряд. Долго, не меньше суток выколачивали признание, сколько получил за свои услуги от англичан? А я их в глаза не видел, но не поверили. Пытали так, что на Колыму поехал без зубов и со сломанной ногой. Мужики в зоне говорили, что я еще легко отделался. Могли меня живьем в грязь втоптать.
– Твою мать! – не выдержал Гошка и обхватил руками голову.
– А через месяц привезли в Магадан, сразу сунули на прокладку колымской трассы. Ее строили тысячи таких, как я! Их тоже увезли в полушаге от победы. Видно, посчитали, что героев слишком много наплодила война. А ну, позаботься о каждом, признав заслуги. И поставили все вверх дном. Тех, кто на пытках проклинал всех подряд, поставили к стенке и отблагодарили одной автоматной очередью. Таких как лопухов заставили пахать дарма, а трасса– это похлеще войны. Там был враг, и мы знали, что с ним делать и за что воюем. На Колыме совсем другое: упал, потерял силы – охрана либо собак спустит, либо прикладами измесит. Что им сломанная нога или беззубый рот? «Хавай говно из параши, коль хлеб жевать нечем!» И отнимали пайку, вырывали из рук. О баланде неделями мечтал, покуда с нормой не справлялся. Ее попросту не давали мне. Я уже и сам перестал верить, что дотяну до воли. Но тут меня Бог увидел, случайно познакомился с фартовым. Он узнал обо мне и стал подкармливать. У него на войне отец погиб, а вся семья, кроме него, с голоду повымирала. Он всех фронтовиков жалел.
Его никто не осуждал. Не стань он вором, умер бы от голода. А так и сам выжил, и нас от смерти сберег. Даже в больничку воткнул, где ногу мою подлечили. Вот там, на зоне многое я понял. Просквозило мозги, иначе соображать стал и осознал, что человек оп– режь всего о себе должен думать и помнить. Коль дана Богом жизнь – береги, не разбрасывайся и не рискуй ею попусту. Кому нужны награды в изголовье гроба? А ведь я на Колыме хуже, чем на войне выстрадал и промучился. Потом, конечно, реабилитировали при Хрущеве, извинялись за ошибку, вернули награды. Ну и что мне с них? Какая память осталась? Я их показать стыжусь. Лежат они где-то в чулане, забытые, а все оттого, что заплевали, затоптали всю душу мне тогда в военном трибунале и на Колыме. Пусть ни один я, тем более обидно понимать, что наши жизни никому не нужны. Нас выжали и выплюнули. Да и теперь, ну не насмешка ли? Разрешили нам, фронтовикам, заготовить на зиму по триста кило рыбы, но только мне, а жене, детям и внукам уже не разрешается! Они там наверху что, все контуженные на голову? Или это продолжение Колымы? Ну как это я буду жрать рыбу, а детям и внукам не дам, потому что не воевали? А кто нынче пойдет воевать, насмотревшись на нас и послушав? Нет, Гоша! Мои дети давно уже в Израиле! Там другие мерки. Уж коль воюет человек, его семья под заботой государства! Там считаются с человеком и берегут всякую жизнь.
– Так вы один теперь живете?
– Зачем? Со старушкой. Она меня дождалась, родимая. В одном классе учились в Смоленске.
– А почему туда не вернулись?
– Никак не могу заработать на переезд.
– На Израиль нашли?
– То дети! Они родились на Камчатке, никогда Смоленска не видели и по-своему рассудили: что на Камчатке, что в Смоленске – правительство одно. Уж если менять место, то заодно все изменить. Мы – евреи, Израиль – наша родина. Дети довольны выбором. Письма от них получаю, радуюсь, что по их судьбе не пройдется холодом Колымская трасса, и мои дети не будут голодать. Им никто не даст кулаком в лицо и не назовет предателем и шпионом, а дав награды, назавтра не вырвут их из рук вместе; с лайкой хлеба. Двое внуков моих родились в Израиле. А я не могу. Не хочу быть обузой никому, хотя так тоскливо нынче. И чем дальше, тем сильнее хочется в Смоленск. Я там родился, хоть бы раз посмотреть мне на мой город, хоть напоследок. Так болит сердце! Ведь все живое вертается к своему изначалью: и птицы, и рыбы. Может, и нам с бабкой: повезет? Дети обещают нам помочь деньгами, чтобы смогли вернуться домой.
– А пасеку куда денете?
– В добрые руки отдам, хотя бы леснику Егору. 3 У него не пропадет, – улыбался Иосиф.
– Дед, вы себе рыбу наловили?
– Нет, Гоша. Сеть не купил, дорогая она нынче. Не по моим доходам такие покупки делать. Да и к чему? Обойдемся без милостыни. Дай Бог, чтоб наше не отняли, последнее. Ведь у нас и сегодня могут устроить Колыму в любой судьбе. Не всяк это пере дышит, – улыбнулся грустно.
– Вы это о чем? – не сразу понял поселенец.
– Гоша, сколько поселковых мужиков из-за тебя в зонах мучаются? А за что? Иль они разорили государство? Иль украли у кого-то со стола? Иль тебе от их горя легче жить стало? Не верю! Ты собачишься за кусок хлеба, а ведь он густо полит чужими слезами. Иль ты не чувствуешь? Выполняешь свой долг? Я тоже выполнял. Не зря тебе рассказал
о себе, хоть изредка вспоминай и не зверствуй. Коль самого судьба теплом обошла, помилосердствуй к другим. Повернись к людям сердцем. Тебе средь них жить…
Гоша уходил от Иосифа задумавшись. Нет, он не поехал в верховья Широкой, развернул лодку в обратный путь и, только выехав на середину реки, увидел в лодке банку меда. «Когда успел?» – удивился инспектор и вскоре подъехал к берегу, где его ждала Анна.
Она насобирала столько грибов, что собаке не только лечь, сесть было негде. Они кое-как поместились в лодке.
На этот раз на обратном пути Корнеев не вглядывался в берега. Вел лодку спокойно, не спеша.
Гоша решил для себя, что ему нужно зайти к Рогачеву. Слишком много вопросов накопилось к Стасу, и кроме него решить их не мог никто.
Лососевая путина подходила к концу. Оставались считанные дни до завершения, и поселенец терялся в догадках, куда направят его работать на всю долгую зиму? Понятно, что без дела не оставят, но каким будет оно? Куда его сунут? Снова в водовозы пошлют? Вот уж отыграются на нем поселковые за все свои муки и переживания в путину. Георгий представил кривые усмешки людей, мол, как ни прыгал все лето в инспекторах, а пришла зима, и приземлился на той же кляче. «Теперь уж ты иначе запоешь, гад ползучий!» – вспомнил, как уводили из домов и квартир мужиков, пойманных на браконьерстве. По его заявлениям и актам судили их, отправляли в зону. Вон как орал Олег Жуков, когда оперативники взяли в наручники! Трое детей в семье с женой остались: старшему семь лет, младшей два года.
«А кто виноват? Не хрен было за мной с дубиной гоняться по берегу! Весь поселок хохотал, как я удирал от него. А ведь мог башку раскроить, смять в лепеху, изуродовать. Докажи потом, что когда-то нормальным мужиком дышал? Они только себя за людей держат. Вот и получил фраер!» – вспоминает Гошка. Сколько кругов он нарезал, прежде чем сумел проскочить к лодке и, сиганув в нее, оторваться от Олега, матерившего его так, что каждый бурундук в тайге еще долго потешался над инспектором, а поселковый народ, забыв его имя, окликал поселенца только матом.
Нет, Олег не пришел к Гошке с извинением, не захотел примириться, посчитав для себя за унижение просить прощение у поселенца. Он даже на суде обложил инспектора матом и, уходя после приговора, пригрозил разделаться с Гошкой после зоны, свернуть ему шею на задницу.
Жукову дали пять лет общего режима. Не столько за рыбу, сколько за инспектора наказали, за покушение на его жизнь и здоровье.
Георгий уходил из зала суда довольный, за него вступились и суд, и милиция, но поселковые, столпившиеся возле здания суда, смотрели на инспектора ненавидяще.
– Будь ты проклят! – крикнула ему вслед жена Жукова.
Гошка оглянулся, увидел камни в руках некоторых и сказал, прищурившись:
– Ну, бросайте в меня! Кому не терпится на нары следом за Олегом, покуда суд и милиция на месте! Давай! Не медли! – повернул обратно к зданию. Поселковые тут же разошлись по домам, но старший сын Жукова и теперь, завидев поселенца, хватался за камни.
Не легче было и с Оленевым. Его Гошка приловил с двумя друзьями вскоре после Жукова. Едва подошел к палатке, мужики вывалились из нее с кулаками. Наставили ему синяков и шишек, треснули головой об корягу и швырнули в реку. Как очутился в лодке, сам не помнил, в себя пришел уже в поселке.
И снова суд. Всем троим по пять лет. Судья признал, что с появлением Гошки ожила работа. До него ни одного заявления не поступало.
А жители поселка стали обходить Корнеева, а на берегах реки на инспектора началась настоящая охота.
Вот так же вышел из лодки к костру уже в сумерках, вздумал глянуть, кто и зачем оказался здесь в такое время, и получил дубинкой по голове прицельно, без промаха и очень сильно. Из-за дерева мужик появился внезапно. Кто именно, инспектор не разглядел, не успел рассмотреть. Его вырубили сразу и накрепко привязали к березе.
Когда Гоша очнулся, рядом не было никого. Развязал его лесник Егор. Он пошел в обход участка, увидел Корнеева. Того комары искусали до неузнаваемости. Почти сутки их кормил, будучи совсем беспомощным. Его не просто связали, но и заткнули кляпом рот, сделав его из грязных носков. По ним нашли хозяина. И этого осудили.
Лесник тогда долго ругал поселковых. Он и сам от них немало перенес и тоже гонял со своего участка. Оно и было за что.
– Шестнадцать берлог в моих угодьях, всякого хозяина в лицо знаю. Сколько годов уживались мы в соседстве мирно. Так вот грянули в зиму поселковые, давай в берлогу палить из ружей. А там двое медвежат недавно народились. Я их по голосам узнал. Сухого сена им подбросил, чтоб теплее зимовали. А эти поселковые возникли без спросу, трое мудаков, вздумали мясом разжиться к Новому году! И давай палить! Я как услыхал, мигом на лыжи и сюда вместе со своими волками. Они ж у меня взаперти сидели, чтоб людям беду не причинить. Тут же разбойники, всамделишние бандиты объявились. Я и отпустил моих. Они вперед меня прискакали. Когда я подоспел к берлоге, двое уже хорошо были отделаны, а третий хотел убежать, да они его догнали. Разве от моей стаи смоешься? Такие еще не народились в свет! Так вот медведицу они ранили. Довелось мне обоих пискунов всю зиму выхаживать. Кинула их
матуха, ушла с берлоги искать обидчиков. А малышня без ней пропала б насмерть. Обоих за пазухой принес в дом. Баба моя заменила им мамку. Так-то и выходились в моей избе. Но одно дело подрастить, а дальше как? Кто научит их промышлять жратву, рыть берлогу, защищаться и семьи свои сколачивать? Оне ж, взросшие в человечьей избе, к тайге вовсе несвычные. Так я их в приемыши приспособил к старой бездетной медведице. Аленой я ее прозвал, она уж три года не плодила. А тут весна. Ей до конца спячки не боле недели оставалось. Я и подсунул ей своих выкормышей. Алена почуяла, как они по ей ползают да сиську ищут. Она ж и сама запамятовала, где они у ей растут? Тут же целых два дитенка! Откуда они и как появились, долго не могла сообразить. Все фыркала, обнюхивала их, а малышня ее за сиськи дергала. Они злились, жрать просили. Пришлось вставать, вылезать из берлоги. Я тем временем жратву приволок им, рыбы целую кучу, уже протухшую, что от браконьеров в зиму осталась. Потом она их в черемшу увела, к болотам. Сам видел, как она купала моих выкормышей, признала, заменила матуху. Так-то редко везет…
– А что стало с ихней медведицей? – прервал Гошка Егора.
– Она шатуном сделалась. Ить подранок в свою берлогу не вертается. И в спячку уже не ложится. А тут еще запахи тех разбойников запомнила и пошла в поселок. Одного приловила возле сарая, он за дровами туда возник. Заломала враз. Шкуру от головы до задницы сорвала. Еще одного пополам переломила. Короче, двоих угробила, а третьего не успела: саму завалили пограничники. Другого выхода не сыскали. Матуха до конца веку людям за свое мстила б. И убивала б всех подряд. Ей плевать, виноватый иль нет. Люди, человеки обидели, прострелили лапу ни за что. Я когда узнал, что не стало ее, места себе не мог найти, – сознался Егор. – Вот поселковые жалятся властям, что не пускаю их на участок. А как иначе? Они все до единого – разбойники и воры. Даже в дуплах белок орехи выгребают! Нешто стыда нет? Иль самим набрать не можно? Белке своих дитят всю зиму харчить нужно, а чем? – возмущался лесник и не ругал Гошку за осуждение и сроки, полученные поселковыми. – И за меня, и за мой участок наказал! Ладно б, признали шкоду молча, так не-ет, с кулаками полезли, на убийство решились козлы!
Корнеев шел в милицию с тяжелыми мыслями. Ничего хорошего не ждал для себя от этого визита. Ведь вот Рогачев, встречаясь с ним в поселке, отворачивался, чтобы не здороваться. А уж если доводилось говорить, то разговаривал с поселенцем холодно, сквозь зубы. Чем было это вызвано?
«Играет на поселковых! Отмазывается от меня, чтобы не связали одной веревкой! Не хочет рисковать именем, что со мной кентовалея, дурак! Мусоров всегда презирали, не глядя, с кем корешат! Да и я его в кентах не держу. Вынужден базарить, потому как поселенец», – вошел в милицию.
Стас далеко не сразу разрешил инспектору войти в кабинет. Перед ним лежали кучи бумаг, с которыми работал с самого утра. Рогачев выглядел уставшим. Он предложил Гоше присесть напротив и сразу предупредил, что времени у него совсем мало.
– Я не часто отрываю и не по мелочам. Не было бы нужды, и сегодня не появился бы здесь, – буркнул поселенец глухо и спросил, – куда в эту зиму пошлете работать?
– А чем тебе твоя работа не подходит? – удивился Стас.
– Она закончилась. Нерест прошел, – развел руками Гоша.
– А отчет кто составит? Обо всем написать надо. Я за тебя не буду делать, своих забот хватает.
– Ну, хорошо! В неделю уложусь, а дальше?
– Звони в Октябрьский своем у начальству. Кому подчиняешься – те и командуют! Я тебе – не указ. Что еще тебя грызет?
– Хочу спросить, где Сазоновы нынче?
– В Тиличикской зоне вместе с другими поселковыми сроки отбывают. Тебе это известно. Почему спрашиваешь?
– Я слышал, что они в Кихчике. Весь Усть-Большерецк о том говорит, – ответил Гоша не сморгнув.
– Говорят, в Москве кур доят, а пошли и сисек не нашли! – ответил раздраженно начальник милиции и добавил, – в Тиличиках всем работы хватит, а Ких– чик вовсе опустел. Что им там делать? Лишь пограничники служат, и никто без их разрешения не может там появиться, тем более судимые. Тебя специально кто-то заводит и настраивает против нас, провоцируют ссору, скандал. Теперь это многим на руку. Авось, потеряем терпение, избавимся друг от друга. Глядишь, следующий год без инспектора оставят дышать. Вот раздолье настанет! Им плевать, какие средства, важен результат. Тебя хотят выдавить из поселка.
– Так путина кончается. Я уже неделю не мотаюсь ночами по Широкой!
– А следующий год? Или на этом дне вся жизнь закончилась? Они на будущее хотят избавиться от тебя, навсегда, без возврата! Ты понял? – спросил Рогачев Гошу.
– Стас, я устал от них! Ну, ладно, я – такой козел, а Егора, Яшку тоже достают! Все им мало. Дал Свиридовой несколько рыбин, ведь председателем исполкома столько лет баба отработала, на другой день средь улицы чуть в клочья ни порвали поселковые бабки, мол, чем она лучше нас? Иль в полюбовниках приклеился у нее?
Рогачев, словно проснувшись, расхохотался:
– Ну, старые клячи! Уже лебеда на всех местах опала, а они еще бесятся, кикиморы! Куда им до Свиридовой? Эта женщина – умница! Таких, как она,
хоть с фонарем среди дня ищи, вторую не найдешь! При ней в поселке жизнь была иной. Снабжение и дороги – на высоте, о безработице не знали. А что теперь? Эх-х, Гоша, да я из своих запасов с нею поделюсь, только бы жила она подольше! – вздохнул тяжко. – А что устал, куда деваться? Все мы вымотались за лето. Трудным оно было. Хорошо, что живы, не уложили никого из нас, хотя попыток было очень много!
– Чудом дожили, но это на пределе. Поверишь, в зоне так не доставалось, как здесь! – согласился Гоша.
– Ты на зону лыжи навострил? – удивился Стас.
– Нет! Теперь уж нет!
– Ну, то-то! А то уж я подумал, что у кого-то из нас «крыша едет», – теплел Рогачев.
– Стас, у меня еще один вопрос, – покраснел Георгий.
Рогачев, приметив, разулыбался:
– Выкладывай! Какая заноза у тебя завелась?
– Понимаешь, семья у меня состоялась, – начал сбивчиво поселенец.
– Уж не с Анной ли? – спросил Рогачев участливо.
– С нею. Уже живем одним домом.
– И как тебе удалось уговорить ее? К этой женщине многие приходили с предложением. Всем она отказала. Не согласилась. А тут на поселенца решилась! Ну, и дела! – качал головой удивленно. – А как с пацаном у тебя? Склеилось?
– Он раньше бабы признал меня. Теперь поехал в Питер. Обещал писать нам, просил не бросать мать.
– Деловой мужик, – заметил Стас.
– Он мне летом помогал, ездил частенько со мною…
– Сам смотри. Одно скажу: нет доли горше, чем участь отчима. Тебя всегда станут сравнивать с тем, первым. И каким бы ни был при жизни, мертвый будет лучше. Я уже знаю такие примеры, потому не советую с этим спешить. Осмотрись, приглядись, пусть хоть год пройдет. Куда с росписью спешить? Пусть все притрется. Когда поймешь, что она твоя, тогда и распишешься. Не пори горячку раньше времени. Здесь не опоздаешь. Но то лишь мой совет, а поступай, как сам захочешь. Кстати, ты видел, как отремонтировали твой дом?
– Нет. Я там давно не был, – признался Гоша.
– А зря! Стоит навестить. Его уже кирпичом обложили со всех сторон. Крышу заменили, покрыли шифером. Внутри не узнать ничего. Объединили Бондаревскую и твою квартиры. Получилось здорово! Одна большая комната, а еще столовая и кухня. В третью вход изнутри. Там рабочий кабинет с телефоном, с розетками. Даже сортир появился. Воду провели в дом, но отопление печное. Единственное неудобство осталось. Зато бараком никто не назовет, язык не повернется. Я сам все видел. Полы перестелены, потолок заменили. Стены и те оббили вагонкой, окна новые и двери. Теперь, чтобы из комнаты в комнату докричаться, хорошую глотку надо иметь.
– Нужно глянуть, – согласился поселенец.
– Нам еще инспектора посылают на постоянную работу. Тому, как понимаю, всю нашу Белую отдадут. Там работы – прорва, а кабинет – один на двоих, – поделился Стас.
– Кто этот второй?
– Понятия не имею.
– Когда его пришлют?
– Не раньше весны.
– Нужно самому съездить в Октябрьский, – задумчиво сказал Гоша.
– Ты сначала сделай отчеты за лето, а уж когда их повезешь, там все узнаешь.
– До того времени река замерзнет. Как я туда доберусь на лодке?
– На машине подвезем. Мы туда каждую неделю мотаемся. Проблем не будет, – успокоил Стас Корнеева.
Гоша вышел из милиции, улыбаясь. Он выяснил все, что хотел.
Прямиком пошел к бараку, решив глянуть, что сообразили из его хижины строители?
То, что он увидел, не просто удивило, а обескуражило. На месте раскоряченного барака стоял щеголеватый подтянутый дом со двором, огороженным невысоким штакетом, над крыльцом – навес. Ступени, перила и площадка крыльца аккуратно покрашены.
Гошка с трепетом открывает замок, входит в коридор и, оглядевшись, оробел, спешно разулся. Еще бы! Полы сверкают как зеркало, глядя в них, можно бриться.
«Видать, уважают меня, коль так старались!» – подумал про себя поселенец не без гордости и пошел по комнатам, немея от восторга. Оно и было, от чего оробеть. Все стены комнат оббиты вагонкой. Отшлифованная, отлакированная, она сверкала и, казалось, грела своим теплом даже на расстоянии. Пол под ногами не скрипел как раньше, ничего не сыпалось с потолка.
Человек подошел к окну, выглянул в него. Возле колодца две старые бабки о чем-то спорили. Гоша не услышал ни одного слова. Он даже не поверил самому себе и лишь когда открыл форточку, до него долетело:
– Во и я брешу, что мы тута все жизни прозаложили государству, а мне печку не могут в третью зиму отремонтировать. В дыму вся изба прокоптилась как холера, а ентому тюремщику хоромы сообразили. Все новехонькое, словно с иголочки! А спроси, за что?
– Начальству жопу лизал исправно. Он же – инспектор! Нам не дозволял ловить рыбу, а им сколько хочешь бери! Не воспрещал. Я тоже седьмой год про свою крышу прошу, никто не хочет слышать. А чем мы хуже поселенца? Всю жизнь робили не покладая рук. А теперь не допросимся.
– Надо самому губернатору написать жалобу, пусть он за нас вступится!
– Писали. Ой, сколько уж написали! Еще летом, а ответу до сих пор нетути. Видать, на всех больших постах нынче единые поселенцы окопались и пригрелись. Не хотят нас слышать, не достучаться нам до них!
Гошка резко захлопнул форточку.
«Какое счастье, что не буду канать зимой в водовозах и возить воду вот этим парашам», – подумал Корнеев в сердцах. Он уже собрался уходить, как вдруг зазвонил телефон, вернул поселенца в кабинет.
– Гоша, где ты пропадаешь? Три дня звоню, а ты трубку не берешь! Случилось что-нибудь иль приболел? – узнал голос Назарова.
– Александр Иванович, я здесь редко бываю. Сами знаете, путина шла, нерест! Измотался вконец! Зашел сюда глянуть, как ремонт в бараке сделали? А то б и не появился еще с месяц, – ответил инспектор простодушно.
– Где же ты живешь, если у себя не бываешь?
– Семьей обзавелся. Женатый нынче! – ответил поселенец с гордостью.
– Вот как? Поздравляю! Выходит, насовсем у нас прописался? Из временного в постояльцы перекочевал? Молодец, Георгий! – потеплел голос человека, и он спросил через паузу, – отчет когда привезешь?
– Резину тянуть не буду, но дня три или четыре понадобятся.
– Я тебе даю неделю, но не больше. Как только справишься. Привози! – попросил Назаров и сказал, словно вспомнив, – кстати, мы к вам в поселок посылаем второго инспектора. Ты ее знаешь. Это Ольга Воронцова! Там ей все знакомо: и реки, и люди! Кадр проверенный, надежный, ей ни объяснять, ни показывать ничего не надо. У вас с нею добрые отношения и полное понимание, насколько я помню. Вас не надо знакомить, сработаетесь легко, – говорил Александр Иванович.
– А зачем ее с Октябрьского отправляете? Ведь у вас веселее, а у нас – тоска! Она ж прокиснет в Усть-Большерецке!
– Нельзя ей больше здесь оставаться. Жизнь – не карнавал! Свои условия подбрасывает, с ними считаться приходится всем. А потому ей надо пожить в тишине. Так она решила.
– Когда Ольга приедет? – спросил Гоша. – Сдашь отчет и ее заберешь. Она уже ждет тебя. Чем скорее это произойдет, тем лучше.