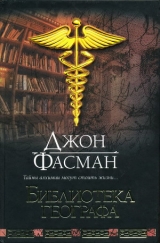
Текст книги "Библиотека географа"
Автор книги: Джон Фасман
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
Потом он посмотрел на часы.
– Ну, что у тебя сегодня на повестке дня? Кто-нибудь звонил по поводу умершего профессора? И сам ты собираешься кому-нибудь звонить, куда-нибудь ехать? Должен, должен быть где-то человек, который знал его лучше других. Согласен?
Я кивнул.
– Почему бы мне не съездить в Уикенден и не зайти на исторический факультет университета? Вдруг там что-нибудь о нем знают?
– Дельное предложение. Ничего не имею против. Есть еще планы?
– Я готов ехать хоть сейчас. Между прочим, этот профессор представляется мне весьма любопытным типом. Что же касается всего остального, то сегодня я должен написать о магазине Веррила, что в городском саду. Он переезжает в новое помещение и собирается открыть секцию фруктов и натурального меда. Но с этим материалом, как мне кажется, можно и повременить.
– Что значит «повременить»? – спросил Арт, притворно хмурясь. – Это тебе не о елочках писать. Эта новость – гвоздь нынешнего сезона. Надо же нам чем-нибудь заполнять страницы?
– Полагаю, надо. Я напишу вам о Верриле, обещаю. Кроме того, с прошлой недели остался материал по районированию, а также список товаров, которые должны поступить в местные магазины к рождественским праздникам. Не забудьте и про фотографии, оставшиеся с прошлого Рождества. Если поместить их рядом со списком товаров, получится очень мило и живенько. В любом случае я вернусь во второй половине дня.
Арт хлопнул ладонью по столу.
– Ну и отлично! Отправляйся в путь, сын мой, и да будет твоя дорога гладкой как шелк.
Поездка из Линкольна до Уикендена обычно занимает чуть меньше двух часов, если, конечно, позволяет движение. Когда я получил работу в Линкольне, мне приходилось довольно часто ездить этой дорогой, чтобы провести уик-энд с Мией. Мия Парк была на два года младше, но неизмеримо превосходила меня остротой ума, отвагой, умением владеть собой и вести споры. У нас с ней был, что называется, трудный роман, державший обоих в постоянном напряжении. Мы сошлись, когда я перешел на последний курс, и встречались в свободное от занятий время, которого у нас оставалось не так-то много. Должно быть, в силу всех этих причин наш разрыв был предсказуем и оказался сравнительно безболезненным. Более того, после этого мы даже какое-то время встречались. Но когда Мия окончила университет, я подумал, что она окончательно исчезла с моего горизонта. Хотя на периферии сознания теплилась мысль, что вскоре я обязательно прочитаю о ней в газетах. Признаться, я был бы не прочь увидеть ее, узнать, как она поживает, но по некотором размышлении отказался от этой мысли. Как ни крути, а к вечеру я должен вернуться в Линкольн. Возможно, я бы оценил перспективу личной встречи по-другому, будь у меня хотя бы небольшой шанс на ностальгический трах с ней, но человеку, работающему с девяти до шести, о сексе посреди трудового дня нужно забыть. (К своему большому разочарованию, я скоро понял, что о сексе вообще можно забыть, когда переезжаешь в крохотный городок Новой Англии, где дочки местных горожан в своем подавляющем большинстве гораздо старше тебя и обременены семьями и пуританской моралью.)
Я катил в восточном направлении мимо индустриальных городков Коннектикута, которые когда-то процветали, но нынче пришли в полное запустение, а выехав на федеральное шоссе, вдруг подумал, что смог бы доехать до Уикендена с завязанными глазами. Я ездил по этой дороге туда и в Нью-Йорк раз, наверное, восемьдесят и знал здесь каждую кочку ничуть не хуже, чем убранство собственной квартиры. Знал, к примеру, что на Род-Айленде покрытие шоссе становится чуть более шероховатым, что чахлый лес на обочине кажется чужеродным элементом, не вписывающимся в индустриальный пейзаж, а попадающиеся по пути безликие бетонные здания построены в 1970 году и в них располагаются офисы и гаражи. Наконец промелькнули коробки автобусных станций Стаунтона и Иствика и показался дорожный указатель, свидетельствовавший, что до поворота на Уикенден осталось каких-нибудь пятьдесят ярдов. Когда въезжаешь в Уикенден, первым делом видишь стоящие с обеих сторон дороги обшитые вагонкой пастельных тонов трехэтажные дома с многочисленными балкончиками. С дороги они представляются до того легкими и хрупкими, что кажется: подуй ветер – и они улетят. Потом начинается индустриальный сектор, застроенный домами из красного кирпича. Этот сектор в свое время был заброшен и приговорен к сносу, но несколько позже возобладала другая точка зрения, дома отремонтировали, заново покрасили и стали сдавать в аренду под частные художественные галереи и кафе для богемной публики. В таком кафе за пять долларов пятьдесят центов можно было получить порцию кофе в керамической чашке, изготовленной кустарным способом приятельницей владельца заведения. Далее располагается так называемый нижний город с его жилыми кварталами, застроенными покосившимися от времени старинными домами, среди которых то тут, то там высятся новомодные небоскребы из стекла и стали, самодовольно поблескивающие на солнце и напоминающие богатого дядюшку, приехавшего навестить бедных родственников. Извилистые улочки, ответвляющиеся от парковочных площадок, змеятся, пересекаясь, во всех направлениях, упираясь в конце концов в какой-нибудь древний дом с треугольным чердаком или мезонином. Я люблю Уикенден и все, что с ним связано, той собственнической любовью, какой мы дарим существа беззащитные и беспомощные (или хотя бы отчасти беззащитные и беспомощные), но бесконечно нам близкие. Всякий может переехать в Нью-Йорк, Сан-Франциско или Лос-Анджелес, отбросить прошлое и присоединить свой голос к хору здешних аборигенов. Но это место ничего не может вам предложить, кроме своей странности и старомодного обаяния, которые, если уж вы его полюбили, навсегда околдовывают вас, проникая в душу, плоть и кровь.
Я съехал с федерального шоссе на Фирвелл-стрит, огибающую холм, на котором располагался университетский городок. Принадлежавшие Уикенденскому университету строения занимали несколько квадратных миль этой возвышенности, откуда открывался вид на восточную часть города. Университет в значительной степени изолирован от остальных кварталов – и в географическом, и в культурном плане, так что местным студентам, не обладающим авантюрной жилкой, нет необходимости вступать в какие-либо отношения с обитателями большой и враждебной нижней части города (на самом деле не такой уж большой и нисколько не враждебной). При всем том жилые кварталы находятся достаточно близко, чтобы студенты старших курсов, которым надоедает ютиться в общежитии, могли снять там комнату и ходить оттуда на занятия. Я проехал вверх по холму, миновал здание городского суда и университетский клуб и, когда административные городские постройки окончательно уступили место академическим, свернул за угол и остановился у здания исторического факультета.
Выбравшись из машины, я увидел, что навстречу идет какой-то костлявый растерзанный тип в большой, не по размеру, синей куртке, громогласно обращаясь к неким неизвестным мне членам местной общины, каковых, впрочем, поблизости не наблюдалось. Заметив меня, тип в синей куртке воздел к небу наподобие дирижерской палочки свой указательный перст, каковой в следующее мгновение опустился и ткнул в мою сторону.
– Нет, братан, ты только подумай, что вытворяют эти гребаные пони! Так их разэтак! Это ж надо – сбросить взрослого мужика на землю!
Вероятно, лицо у меня в этот момент приобрело глупое выражение, поскольку тип, подойдя ближе и обозрев меня со всех сторон, сказал:
– Черт! Не слышишь, что ли? С тобой разговариваю… – Он сплюнул на тротуар, снял с головы засаленную бейсболку с надписью «Гаражные услуги братьев Мендес» и почесал себе лысину. – Садись-ка лучше в свою гребаную тачку, это мелкое дерьмо на колесах, которое ты по ошибке называешь машиной, и возвращайся в Сен-Лу. – Завершив эту сентенцию, он пошел было дальше, но потом остановился, повернулся ко мне, покачал головой и, выставив руки ладонями вперед, добавил: – И скажи мисс Этель, что ей больше не о чем беспокоиться. Я там буду еще раньше ее. Так-то, парень!
Недоумевая, что бы все это значило, я зашагал по ступеням к двери исторического факультета. В последний раз я заходил сюда года два назад, но, казалось, с тех пор прошла целая вечность. Тогда я был вполне приличный, хотя и немотивированный студент, который писал хорошие эссе и считал диплом гуманитарного факультета панацеей от всех бед и средством убежать от действительности. Однако я никак не мог взять в толк, какое отношение к гуманитарной науке имеет, скажем, способ штопки чулок в колониальной Америке или метод сверления орудийных стволов в царской России. Не то чтобы я был человеком нелюбопытным, совсем нет, но в данном случае требовалось не просто любопытство, но любопытство идейное, а это свыше моих сил. Я не прочь в общих чертах представить себе процесс сушки сухарей в Вермонте или узнать, какие достижения оружейников Екатерины Великой легли в основу современного производства автомата Калашникова. Подобные знания я был готов принять к сведению и даже удивиться, но как-либо использовать их, искать им практическое применение в современной действительности мне не хотелось. И уж тем более не хотелось десятилетиями корпеть в архивах и музеях, отыскивая второстепенные детали какой-нибудь эпохи, чтобы потом иметь возможность дискутировать на эту тему.
При всем том мне нравился исторический факультет. Нравилась его, так сказать, аура, то, как прогибались под ногой деревянные ступени его лестниц, и даже то, как здесь пахло – старыми книгами, трубочным табаком, кофейными зернами и пылью. Мне также нравилось негромкое журчание ученых бесед: загадочные темы, тихие голоса. Когда мне было двенадцать, я ездил со своей воскресной школой в монастырь около Онеонта. На этом факультете царила та же атмосфера уединенных размышлений и отрешенности. В монастыре, однако, было куда больше удобств – каминов, мягких кушеток, хорошо обставленных комнат, теплых кухонь, – нежели на историческом факультете, втиснутом в здание девятнадцатого века в стиле эпохи королевы Анны, которое десятилетиями не ремонтировалось и не красилось и стены в разгар зимы (и даже сейчас, в начале декабря) почти не защищали от холода.
В «предбаннике» деканата за конторкой сидела секретарша и разговаривала со своей коллегой. Возможно, рассказывала о своем нерадивом муже, сыне или даже псе.
– …А я ему и говорю: Анджело, тебе придется вылизать все это дочиста, иначе никакого «прогуляться» сегодня вечером не будет. А он…
Я постучал в открытую дверь.
– Могу вам чем-нибудь помочь? – спросила секретарша.
– Очень на это надеюсь. Меня зовут Пол Томм, я репортер газеты «Линкольнский курьер» из Линкольна, штат Коннектикут. Хотелось бы узнать, есть ли у вас какие-нибудь биографические сведения о профессоре Пюхапэеве.
Она вытянула шею и оглядела стоящие рядом почтовые ящики.
– Пюхапэев сегодня еще не приходил. Похоже, его здесь не было пару дней. Вы можете задать этот вопрос ему, когда он придет, или оставить сообщение, которое я положу в его почтовый ящик.
Оглядевшись, я слегка запаниковал. Неужели возможно, чтобы никто здесь не знал о его смерти? Потом, правда, пришло озарение. Он жил один, в двух часах езды от факультета, вероятно, не имел здесь близких друзей и проводил занятия вне основной сетки расписания. Он был, если так можно выразиться, самый подходящий для исчезновения субъект, чтобы умереть неоплаканным, в полном одиночестве и безвестности.
– Мне грустно об этом говорить, но профессор Пюхапэев вчера ночью умер. Он жил в моем городе, и я ищу какую-нибудь информацию о нем, чтобы написать некролог.
Секретарша замигала и опустила глаза. Ее коллега перестала печатать. Словно в вестерне, когда незнакомец входит в бар, и там все замирает. Секретарша перекрестилась.
– Умер, говорите? Как? Что с ним случилось?
– Признаться, точно не знаю. Он жил один, и его обнаружили мертвым на диване в гостиной. Как я уже говорил, мне нужно написать некролог, потому-то я сюда и приехал. Вы не знаете, случайно, сколько ему было лет?
– Полагаю, он был стар, очень стар. Но сколько ему стукнуло, я не в курсе. Когда я пришла на факультет, он уже был здесь, а я проработала на этом месте всего несколько лет и мало что знаю.
Я надел на лицо маску из серии «безвредный идиот», которая, вероятно, не слишком отличается от моего привычного выражения.
– Возможно, у вас есть какие-нибудь бумаги или документы, из которых явствует, откуда он приехал, когда родился или что-то в этом роде?
Секретарша вздохнула и сочувственно чмокнула жвачкой, которая была у нее во рту.
– Даже не знаю, что и сказать… – Она запнулась. – Было бы как-то… хм… странно передавать вам подобные бумаги до того, как сюда приедут его родные или друзья. Вы меня понимаете? – Я кивнул с самым невинным видом. Спорить с ней и качать права мне не хотелось. – Но вы можете обратиться к профессору Кроули. – Она снова вытянула шею и обозрела почтовые ящики. – Он сегодня приходил. Полагаю, он и сейчас еще здесь, хоть и не уверена. Загляните к нему в кабинет. Если мне не изменяет память, они с профессором Пюхапэевым были друзьями. В любом случае их кабинеты находятся… вернее, находились, рядом. Поднимитесь на третий этаж, потом поверните направо и пройдите до конца коридора. – Она кивнула мне и коротко улыбнулась. – Передайте родным Пюхапэева, что все мы скорбим и молимся за него вместе с ними.
– Обязательно передам. Уверен, они будут рады об этом услышать, – сказал я. Ничего лучше на ум не пришло.
На третьем этаже я постучал в последнюю дверь по правой стороне коридора.
– Да? – пролаяли из-за двери.
Я приоткрыл ее и заглянул в кабинет. На меня уставилась физиономия цвета сыворотки.
– Прием студентов завтра. С часу до трех. Приходите в это время или предложите другое, и мы это обсудим.
– Я не студент, сэр. Я журналист и…
Сидевший за столом человек сорвался с места, как пес со своей подстилки, и подлетел ко мне.
– Хэм Кроули. Рад знакомству. Извините за не слишком любезное приветствие, но я думал, что вы студент. Чем могу помочь?
К такому теплому приему я, признаться, был не готов. Между прочим, я прослушал у него один курс («Власть и пресса при Хрущеве и Кеннеди»), но группа у нас была большая и я ни разу напрямую с ним не общался. У него была репутация преподавателя, равнодушного к дискуссиям, мастера по части издевательских замечаний, любителя бессистемного чтения и выпивохи. В конце 1980 года он опубликовал книгу, которая хоть и являлась отражением его привычки к бессистемному чтению и пестрела надерганными где попало странными цитатами, «предсказала» тем не менее падение Советского Союза. В результате в начале девяностых он получил-таки четырнадцать из обещанных ему пятнадцати минут славы – обедал с сенаторами, давал интервью журналистам из крупных воскресных изданий, печатался в «Форин аффеарс», «Нью-Йорк таймс» и «Уолл-стрит джорнал» – и последующие годы прожил с мыслью, как добрать недостающую минуту. Я, признаться, опасался, что он пошлет меня к черту, как только узнает, зачем я приехал.
– Дело в том, сэр, что я пишу некролог о Яне Пюхапэеве, который умер вчера ночью. Секретарша в деканате сказала, что вы, возможно, кое-что мне о нем расскажете.
Он надул щеки, как лягушка-бык, вернулся на свое место за столом и плюхнулся на стул, чуть не промахнувшись мимо сиденья.
– Вот черт! Печально слышать. А я-то думал, вы приехали сюда по поводу моей книги. Только что вышла, а все, блин, как воды в рот набрали. – Он жестом предложил мне сесть напротив и протянул книгу, взяв ее из лежавшей на столе высоченной стопки.
Книга называлась «А где медведь?». Вверху над заглавием красовалось имя автора: Гамильтон С. Кроули. На суперобложке был изображен бурый мишка, который полз по земному шару, декорированному с одной стороны серпом и молотом, а с другой – американским флагом.
– Кошмар, да? – спросил он, сморщившись словно от геморроидальной колики. – Дизайнер, задница, решил, что это очень круто, а редактор, змей, не проконтролировал. Ненавижу, когда в издательстве вот так портят мои обложки. Кроме того, и название, на котором настоял гребаный редактор, меня тоже не устраивает. Короче говоря, не публикация, а черт знает что.
Я задался вопросом, уж не знаком ли профессор Кроули со сброшенным пони типом, которого я повстречал у входа на факультет. На мой взгляд, в речи этих двух парней было подозрительно много сходных идиоматических выражений.
– А как вы хотели ее озаглавить?
– «Рыночные реформы и использование природных ресурсов в постсоветской России». Звучит, не правда ли? – Он ухмыльнулся, продемонстрировав мне худшие в Новой Англии зубы, напоминавшие остатки разрушенных землетрясением хибарок. – Так что же случилось с Джонни? – спросил он, прогоняя недовольную гримасу с лица и изображая нечто отдаленно напоминающее заинтересованность.
– С кем, извините?
– Да с Яном же, с Пюхапэевым. Когда он пришел к нам на факультет, я для простоты назвал его Джонни. По-моему, это показалось ему забавным, но с ним никогда не знаешь, о чем он думает на самом деле.
– Что вы имеете в виду?
– Он не относился к тем людям, которых называют эмоциональными. Это был очень советский, очень эстонский тип. У эстонцев, знаете ли, бытует присловье: «Чтоб твое лицо стало как лед». У Пюхапэева было именно такое лицо. Холодное, блин, и совершенно непроницаемое.
– Он преподавал в этом семестре?
– Вероятно. Он читал два неизменных курса на протяжении бог знает скольких лет. – Кроули взял со стола список лекций и начал его пролистывать. – Первый семестр: «История Балтии, тысяча двухсотый – тысяча шестисотый годы». Второй семестр: «История Балтии, тысяча шестьсот первый – тысяча девятьсот девяносто первый годы». Полагаю, он написал конспекты своих лекций еще во времена переезда в Америку в тысяча девятьсот девяносто первом году и с тех пор не изменил в них ни слова. Я слышал, что студенты время от времени к нему ходят, но никогда не слышал, чтобы их было много. Писал ли он научные труды, я не знаю, но если мне не изменяет память, изредка все-таки публиковался – в журналах с непроизносимыми названиями, выходящими в странах Балтии.
– Но помимо этого он хоть что-нибудь делал для факультета? Слишком уж маленькая у него на первый взгляд нагрузка.
– Черт его знает… Признаться, это был весьма странный парень. – Кроули сложил на столе руки словно в подтверждение своих слов, кивнул. – Обычно я рекомендовал своим студентам посещать его курсы, но два года назад перестал это делать. Серьезной причины не было, просто одна девушка рассказала мне о нем забавную историю – однажды студент задал ему вопрос, на который он не смог ответить. Стоял какое-то время, вцепившись руками в кафедру и подняв к потолку глаза, и молчал. А потом смотался. Ушел посреди лекции, так ни слова и не сказав. А в два часа ночи в профессорском твидовом костюме и при галстуке заявился к этому студенту в общежитие, чтобы ответить на заданный им вопрос.
– И что это за вопрос?
– Ну, я уже не помню. Но ведь дело не в этом, не так ли?
Удовольствие, которое профессор Кроули испытывал от разговора с представителем прессы, заметно пошло на убыль. Запустив руку под рубашку, он некоторое время сосредоточенно почесывался под мышками. Я счел это знаком, что как журналист большого интереса для него не представляю.
– Вы знаете, где и когда он родился?
– Имя у него эстонское, и сам он, я почти уверен, эстонец. Я лично на этом языке не говорю – на этом непостижимом «бла-бла», относящемся к финно-угорской группе и имеющем четырнадцать падежей, непроизносимые гласные и прочие штучки в этом роде. Но знаю, что он говорил на эстонском, а также на литовском, латышском, русском, немецком и даже отчасти на английском. Теперь вопрос – «когда»? Не могу ответить на него со всей уверенностью. Он приехал на волне начавшейся в те годы эйфории. Каждый стремился взять на работу бывшего советского преподавателя. Стандарты снизились – понимаете, на что я намекаю? Не то чтобы Джонни был неквалифицированным преподавателем – совсем нет. Но вряд ли кому-то хотелось узнать о нем нечто сверх того, что он был профессором эстонского университета, в коммунистической партии не состоял и представлял собой тип старого ученого чудака.
– На вашем факультете есть его KB – «куррикулюм витэ»?
– Возможно. Сомневаюсь, однако, чтобы ему понравилось, если бы кто-то стал совать нос в его биографию. Бывшие советские этого не любят. Своего рода врожденная советская паранойя. Впрочем, можете навести справки в деканате.
– Уже наводил. И секретарша послала меня к вам. Не могли бы вы рассказать о нем хоть что-нибудь для некролога?
Кроули с кислым видом на меня посмотрел и зашуршал лежавшими на столе бумажками.
– Видите ли, мистер… Э?..
– Томм.
– Мистер Томм?
– Да. Т-о-м-м. Томм.
– И откуда только, черт возьми, берутся такие фамилии?
– Это длинная история. Сомневаюсь, что вам захочется ее выслушать.
– Вы правы, мистер Томм… Итак, мы с Джонни являлись коллегами, приятелями, если хотите, но не более. Близкими друзьями мы никогда не были. Когда он только приехал в эту страну, мы с женой приглашали его пару раз на барбекю, в том числе и по случаю Четвертого июля, когда все машут флагами и делают прочие глупости в том же роде. Ну что еще? Изредка мы с ним выпивали, но не в последние несколько лет. Вот, собственно, и все. Ну а теперь, извините, я должен вернуться к тем дерьмовым делам, которыми занимался до вашего появления.
Я поднялся с места и, уже направляясь к двери, спросил, где они выпивали.
– Как это ни смешно, но я помню этот придорожный вертепчик под названием «Одинокий волк» чуть дальше Уэстерли – как раз на границе штата по пути к городу, где жил Пюхапэев. По-моему, местечко называется Клоугхем. Не знаю, что заставило меня туда поехать. Он пил только там и, если мне не изменяет память, исключительно доморощенное бренди, которое там подавалось. От нескольких рюмок этого напитка человек буквально валился с ног. Помнится, в тот раз моя жена… – Он махнул рукой и коротко улыбнулся, прежде чем его лицо вновь вернулось к своему тестообразному состоянию. – Как-нибудь потом расскажу. Итак, «Одинокий волк» – он ходил только туда. Позвольте пожелать вам удачи со сбором материала, мистер Томм. Когда будете выходить, захлопните за собой дверь, если вас это не затруднит. Заранее благодарен.
Я мысленно пожелал Кроули, чтобы его как можно чаше посещали журналисты из еженедельных газет маленьких городков, и стал подумывать о возвращении в Линкольн, хотя мои знания о Пюхапэеве после визита на исторический факультет нисколько не обогатились.
На лестничной площадке второго этажа я услышал у себя за спиной знакомый голос с бархатными модуляциями и неповторимым акцентом.
– Знаете ли вы, что когда-то у меня учился студент, удивительно похожий на вас? Правда, то был молодой человек с приятными манерами, он не позволил бы себе игнорировать правила хорошего тона и обязательно навестил бы старого друга, особенно оказавшись неподалеку от места его обитания.
Я повернулся на голос. В дверном проеме стоял профессор Джадид с папкой, набитой бумагами, и теплой курткой на клетчатой подкладке, переброшенной через руку. Брови были приветственно приподняты, полулинзы очков гостеприимно сверкали, а губы под седой щеточкой усов изгибались в характерной улыбке – первый профессор, с которым я познакомился на этом факультете, поскольку его приставили ко мне в качестве научного консультанта. Помнится, на первом курсе я прослушал цикл его лекций, но и позже обращался к нему за советом – практически в начале каждого учебного семестра; потому, должно быть, его образ и возникал перед моим мысленным взором всякий раз, когда я слышал слово «профессор».
Я протянул ему руку, предварительно бросив взгляд на манжету, проверяя, не слишком ли далеко она вылезает из рукава (она не вылезала), и на ноги, дабы убедиться, что на мне нет кроссовок (они таки были). Он сердечно пожал мою руку.
– Не припомню, когда в последний раз перемазанный чернилами бедолага взбирался так высоко по этой лестнице. Обычно мои коллеги встречаются со своими подопечными в деканате или в вестибюле, если, конечно, их не разыскивают, чтобы договориться о летней публикации или передать приглашение на ленч с выпивкой. Итак, что забросило вас, молодой человек, на сии заоблачные высоты?
– Здравствуйте, профессор! – Я готов был его обнять, но подумал, что он сочтет столь эмоциональный поступок излишне театральным. – Я как раз задавался вопросом, нет ли вас где-нибудь поблизости.
– Где-нибудь поблизости? А где, по-вашему, я могу находиться, если не здесь, на факультете? Рад вас видеть. Ну-с, что вас сюда привело?
– Работа. Хотите верьте, хотите нет, но я стал репортером. Вчера ночью умер профессор Пюхапэев, и я пытаюсь отыскать его биографические данные, пусть самые общие и краткие, чтобы написать некролог. Пока безуспешно.
Он изменился в лице, вздохнул, опустил глаза и потыкал туфлей в створ двери.
– Очень жаль это слышать. Очень жаль. Я-то думал, что он… Так-так… – Наконец ему удалось взять себя в руки и вновь поднять на меня глаза.
– Вы знаете о нем хоть что-нибудь? Где и когда он родился – ну и всякое такое?
– Я знаю очень и очень немногое. Например, что у него эстонское имя, что он переводит с трех балтийских языков. Он и для меня делал такие переводы… Но могу ли я со всей уверенностью сказать, что он родился в Прибалтике? Пожалуй, не могу. Между прочим, его имя – Ян Пюхапэев – в переводе с эстонского означает «Джон Санди», то есть Воскресный Джон. Очень странно и необычно, вы не находите? Так что вполне вероятно, это имя – вымышленное. Я лично всегда думал, что он выходец из еврейской семьи и имя у него изначально было еврейское, которое он при Советах сменил, стремясь избежать преследований или каких-либо проблем на религиозной и национальной почве. Но, повторяю, это лишь предположение, не имеющее под собой реальной основы. Также я знаю, что он был хорошим лингвистом и считался у нас экспертом в своей области. Хотя бы потому, что специалистов по прибалтийским языкам и истории за пределами Германии, России и государств Балтии почти нет. Кроме того, я знаю, что как преподаватель он никуда не годился. – Профессор Джадид сделал паузу и, размышляя, снова постучал носком туфли, исцарапанным и протертым чуть ли не до дыр, о дверную филенку. Я не замечал за ним прежде этой привычки – постукивать носком туфли о дверь или порог. С другой стороны, я, пожалуй, впервые разговаривал с ним, когда он не сидел в кресле, а стоял передо мной вот так – в полный рост.
– Думаю, мне его будет здорово не хватать. Не потому, что мы были слишком уж близкими друзьями, а потому, что в нем таилась какая-то загадка. И еще одно: он всегда был мрачен. Не поймите меня неправильно, но я рассматривал эту его мрачность как некий культурный антидот к практикуемому здесь преувеличенному оптимизму и вечным наигранным улыбочкам.
Я подмечал этот необоснованный оптимизм у многих наших студентов – словно с ними никогда и ни при каких условиях не может произойти ничего плохого. При взгляде на них кажется, что и в мире ничего плохого не происходит. А все эти войны, эпидемии, перевороты, массовые избиения и прочие проявления мирового зла – лишь повод для того, чтобы подписать пару петиций по пути в гимнастический зал. Будучи, как и он, иммигрантом, я с уверенностью заявляю, что сохранить свою индивидуальность, особенно такую, как у Яна Пюхапэева, здесь очень и очень непросто. Обычно мы, иммигранты, или становимся большими американцами, чем сами американцы, или замыкаемся в себе, мысленно осуждая все, что нас окружает на новой родине. Но Ян Пюхапэев всегда был самим собой – вне зависимости от окружения и обстоятельств, а это дорогого стоит.
Я посмотрел на часы. Профессор, как всегда тонко чувствующий и тактичный, посмотрел на свои и прикрыл за собой дверь кабинета.
– В этом семестре по средам после полудня я веду семинары по истории Ганзы, и мне надо поторапливаться, чтобы не опоздать. Вы очень спешите – или имеете возможность погулять по студенческому городку минут эдак девяносто, чтобы потом мы с вами могли выпить в «Фицджеральде»?
Одно это приглашение стоило поездки в Уикенден. У меня было такое ощущение, что я прошел некий тест, пусть даже и придется сейчас отсюда уехать. Мы с профессором медленно пошли по коридору.
– Извините, но во второй половине дня я должен быть у себя в офисе. Как-никак до него два часа езды.
Он сжал губы в нитку, прикрыл глаза и помотал головой – пантомима Граучо Маркса, выражавшая покорность судьбе.
– Что ж, значит, так тому и быть. Увы, пожилые люди навязчивы и думают только о себе. Но если в ближайшее время вы сюда вернетесь, я с радостью угощу вас пивом. Если же это не входит в ваши планы, я, пожалуй, присовокуплю к приглашению еще и ленч, чтобы вы внесли соответствующие коррективы в свое расписание. Я люблю послушать, что происходит за пределами нашего университетского городка.
– С благодарностью принимаю ваше приглашение. Возможно, уже на этой неделе, когда я напишу некролог. Готов встретиться с вами в любой день, какой вы сочтете удобным.
– Тогда, быть может, в субботу? Надеюсь, для вас это тоже выходной? Я зарезервирую в «Блю-Пойнт» кабинку с окном на запад, и мы скоротаем вечерок за едой и выпивкой, как это пристало цивилизованным людям зимой. Будем разговаривать, пить бренди и смотреть на закат.
Я охотно согласился, и он снова протянул мне руку.
– Значит, до субботы. И держите меня в курсе своих изысканий относительно Пюхапэева. Меня гложет любопытство, какие сведения о нем и как вам удастся раздобыть.
Мы вышли на улицу под порывы уикенденского ветра. Я совсем забыл, что восточная сторона города генерировала свои собственные воздушные потоки. Он стиснул папку с бумагами, махнул мне на прощание и, опустив голову, быстро зашагал к учебному комплексу. Но через несколько шагов неожиданно остановился и вернулся.
– Знаете что, мистер Томм? Я не люблю рассказывать байки о нашем факультете, но должен заметить, что Ян Пюхапэев и в самом деле был чрезвычайно странным человеком. Очень закрытым, погруженным в себя и свои мысли, способным на необычные поступки. Словно параноик. Я мог бы рассказать вам о нем нечто такое, чего наверняка не расскажет никто другой, но прежде вы должны мне кое-что пообещать.
– Заранее согласен на все ваши условия.
– Отлично. Во-первых, вы не используете эту информацию, что называется, всуе. Если это поможет вам воссоздать более полный его портрет, то и слава Богу. Но вы не воспользуетесь этими сведениями только ради того, чтобы расцветить свое повествование, добавив туда перчику. Даете мне слово?








