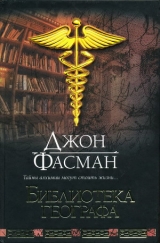
Текст книги "Библиотека географа"
Автор книги: Джон Фасман
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
– Шутка. Я просто пыталась вас немного поддеть. На самом деле ничего страшного не случилось. – Она забрала у меня куртку и повесила ее около батареи. – Присаживайтесь и попытайтесь расслабиться. И не надо ничего собирать с пола. Просто поднимите стол и садитесь. – Она взяла меня за плечи и повела к креслу. Инстинктивно я дотронулся до ее руки – в знак благодарности, извинения, приязни или не знаю чего там еще! Она же, когда я садился, легонько сжала в ответ мои пальцы. – Я включу вам музыку и приготовлю чай. Что бы вы хотели послушать?
– Я мало что понимаю в музыке. Поэтому никаких особых пристрастий у меня нет. Включите то, что найдете нужным.
Она улыбнулась и нажала на кнопку стоявшей в углу стереоустановки. Комнату наполнили звуки одинокой виолончели – экспрессивные, трагические, глубокие, богатые обертонами. Ритмическое сопровождение на долю секунды отставало от протяжной мелодии, и музыка чуть ли не уподоблялась человеческой речи. Я никогда не слышал ничего подобного. Звуки заполняли мой мозг, и я инстинктивно тянулся к ним всем своим существом.
– Что это? – крикнул я, повернув голову к кухне.
– Мараис. «Виола да гамба дуо», называется «Вокс хуманис». В данном случае мы слушаем аранжировку для одного инструмента. По идее звучание должно напоминать человеческий голос. Правда, эта вещь звучит как стихи или молитва? – Она поставила поднос с чайником, двумя чашками, сахарницей и тарелкой с печеньем на вновь водруженный моими стараниями стол. – Видите, вы сделали доброе дело, вовсе не стремясь к этому. Куда, спрашивается, я поставила бы чайник и все остальное, если бы вы предварительно не очистили поверхность?
Она присела напротив и одарила меня теплой дружеской улыбкой, способной, казалось, растопить камень. Я ответил ей долгим взглядом, более долгим, нежели это допускалось правилами хорошего тона, после чего открыл свой блокнот и достал две ручки из нагрудного кармана рубашки.
Я всегда завидовал умению Арта начинать интервью с обезоруживающего легкого разговора, постепенно переводя его на нужную тему. Он неоднократно повторял, насколько важно, чтобы интервьюируемый чувствовал себя комфортно. Однако в настоящий момент Ханна чувствовала себя гораздо комфортнее, чем я. У меня же крутило желудок, и я обильно потел, не в силах думать ни о чем другом, кроме главного вопроса, который должен был ей задать.
– Что вы можете сказать о Яне?
Улыбка мгновенно исчезла, и острые, птичьи черты обозначились более явственно. Кроме того, ее лицо утратило тепло и обрело странное потустороннее выражение. Бледная кожа и распущенные по плечам длинные волосы только дополняли образ: казалось, эта женщина сошла со страниц какого-нибудь романа о привидениях, написанного в девятнадцатом веке.
– Мне очень жаль, что так случилось и он умер совсем один. Надеюсь, он знал, что делал, и догадывался, куда отправится потом.
– Вы так думаете?
– Да, я так думаю, – повернулась она ко мне, и в этот момент была так хороша – с отблеском закатного солнца на лице, выражение которого буквально потрясло меня, – что я чуть было не выбежал из комнаты. Люди, утверждающие, что красота скорее прельщает, нежели отпугивает, либо невежественны, либо необычайно храбры. – Да, я так думаю, – тихо повторила она.
– Значит, он сделал это сам?
– Надеюсь на это. Очень надеюсь. Он был такой старый… Вы меня понимаете? Очень, очень старый. Древний. Хочется верить, он все хорошо обдумал, – произнесла она, обращаясь скорее к себе, нежели ко мне.
Я откашлялся, прочищая горло.
– Вы знаете, сколько ему было лет?
Она пристально на меня посмотрела. Отстраненное, потустороннее выражение слетело с ее лица как шелуха. Теперь свет палат на ее волосы, превратившиеся в подобие контрастной рамки, окружавшей черты, которые в игре света и тени казались необычно глубокими и твердыми, словно прорезанными в камне.
– Точно? Нет, не знаю. Он рассказывал о своей жизни в независимой Эстонии между войнами. Исходя из этого, можно предположить, что ему было около восьмидесяти. Но я вас очень прошу, – сказала она, заметив, что я начат строчить в блокноте, – не ссылайтесь на меня как на надежный в этом смысле источник. Это только предположение. Вы что, действительно собираетесь упоминать в своей статье мое имя?
Я заверил, что не сделаю этого, если она не захочет, и спросил, как она со стариком познакомилась.
– Мы встретились, когда я въехала в этот дом, то есть пару лет назад. Я хотела познакомиться с соседями и постучала в его дверь, а он прогнал меня, – улыбнулась она с засветившимся от воспоминаний лицом. – Я стала спускаться с крыльца. Должно быть, он подглядывал, поскольку дверь неожиданно распахнулась и он с сильным акцентом крикнул мне в спину: «Почему не сказали, что вы красивая девушка?» После этого пригласил меня к себе и мы немного поболтали. Так и познакомились.
– Вы знаете, где он родился, была ли у него семья, чем он занимался – ну и все такое прочее? – спросил я, разыгрывая из себя идиота, как меня учил Арт. Надо задавать любые вопросы, даже самые банальные, чтобы получить побольше ответов. В нашем деле чем больше ответов, тем лучше.
Она опустила глаза и стала дергать катышки свалявшейся шерсти из лежавшего на сиденье ее кресла старого пледа.
– Похоже, он был эстонцем. По-моему, я уже вам об этом говорила. Любил рассказывать о Таллине, а также о сельской местности в этой стране и ее островах. Сааремаа – так, кажется, он называл один из островов, снимки которого любил мне показывать. Думаю, семья у него была, но не знаю, кто его близкие и где они жили. Впрочем, прошлым летом он ездил-таки в Эстонию – на три недели. – Она поднялась с места, подошла к стоявшему у стены книжному шкафу и взяла с полки бутылку цвета граната. – Это он привез мне из Эстонии.
На этикетке значилось: «Вана Таллин». Я вынул пробку из горлышка и понюхал содержимое. Пахло карамелью, лакрицей и еще чем-то сладким. Жидкость в бутылке напоминала густой сироп – нечто вроде проваренного на медленном огне шерри. Ханна налила мне немного в чай. Я пригубил. Напиток оказался сладкий и, когда я его проглотил, согрел грудь.
– Чем он все-таки занимался? Я знаю, что он был профессором, но…
– Думаю, он был на пенсии. По крайней мере преподавал мало. В этом городе уж точно никого ничему не учил.
– Он преподавал в Уикенденском университете.
– Значит, вы кое-что о нем все-таки узнали. Браво. Со своей стороны могу добавить, что он много писал. Остались тетради, исписанные его рукой, но я сомневаюсь, чтобы он часто публиковался. Хотя время от времени доставал с полки журнал с каким-то странным названием и показывал статью, подписанную его именем. Впрочем, возможно, он показывал мне все это время один и тот же журнал. Но своих книг он мне не показывал. Думаю, их у него и не было. Но вам лучше спросить об этом в Уикендене, если так уж важно знать, над чем он работал.
– Уже спрашивал. Между прочим, я выпускник Уикенденского университета, – неожиданно похвастался я. Вероятно, хотел рассказать кое-что о себе. Сложить, так сказать, к ее ногам все свои жизненные успехи и достижения и посмотреть, клюнет ли она на это.
– Неужели? Я хотела там учиться, но не смогла поступить, – сказала она, постучав себя костяшками пальцев по голове. – Ума не хватило.
– Покажите, кого в приемной комиссии винить за это, и я его пристрелю.
Она рассмеялась.
– А что вы думаете об этом? – кивнула она на динамики своей стереосистемы.
– Мне нравится эта музыка, – проблеял я, не найдя ничего умнее или оригинальнее. Музыка как музыка. Хорошая музыка. Но что я в этом понимаю? – А сами вы на каком инструменте играете?
– На фортепьяно, на скрипке, на малой виолончели, а больше ни на чем, – сказала она, подперев щеку рукой. – По идее мой учитель музыки должен из-за меня сгореть со стыда. Я плохой музыкант и знаю об этом, – печально улыбнулась Ханна.
– Напротив, вы настоящий энтузиаст музыки.
– Какой вы милый… Вы сами-то на чем-нибудь играете?
– Нет. И, как уже сказал, совершенно не разбираюсь в музыке. Кроме того, мне на ухо наступил слон, да и пальцы деревянные.
Она рассмеялась.
– Но у вас есть сердце, ум и чувство. Думаю, я смогла бы преподать вам ускоренный курс игры на каком-нибудь… хм… отзывчивом инструменте.
Я посмотрел на нее преданными собачьими глазами.
– Скажите только, где и когда.
Она улыбнулась, склонила голову набок и сложила на груди свои длинные тонкие руки. Потом кивнула на мой репортерский блокнот.
– Что еще вам бы хотелось узнать?
– А что еще вы можете сказать о нем?
– Только то, что он мне нравился. Очень нравился, – повторила Ханна, словно я заспорил с ней по этому поводу. То же самое она сказала мне по телефону. Но при личной встрече я почувствовал, что ревную ее к умершему эстонцу.
– Я ходила за покупками для него, когда это было нужно, и пару раз в неделю готовила ему еду. А еще мы разговаривали. В сущности, я просто сидела рядом, когда он что-нибудь рассказывал или курил. Вот, пожалуй, и все. Теперь я жалею, что мало расспрашивала о его жизни, но… Уверена, что, где бы он сейчас ни был, у него есть горящий камин, мягкое кресло, множество книг и хорошенькие девушки, готовые слушать.
Она пожала плечами и печально подняла брови. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, поскольку ни у меня, ни у нее не было больше вопросов. Шкаф, диван и другая стоявшая по углам комнаты мебель расплылись в подступающем сумраке. Чашка, которую Ханна поставила слишком близко к краю стола, неожиданно упала и разбилась. Мы оба, словно выходя из некоего транса, вздрогнули и вскочили с места.
– Ну вот, – сказала она. – Кажется, я заразилась от вас болезнью все бить и ронять.
Я посмотрел на пол, где среди фарфоровых осколков разбитой чашки все еще лежали религиозные артефакты, сброшенные мной со стола, и спросил:
– Что это такое?
– Я называю это «мой Божий стол», – улыбнулась Ханна, и я не понял, шутит она или говорит серьезно. – Я верю во все. В каждую религию. Во все религии.
Я кивнул, не зная, что ответить.
– А вы верующий? – спросила она.
– Нет. Я полукровка, – ухмыльнулся я.
На ее лице проступил ужас.
– Не называйте себя так. Не важно, кто вы, важно, чтобы у вас в душе что-то было. Вы меня понимаете? По-моему, нет ничего хуже, когда человек ни во что не верит. К какой конфессии принадлежали ваши предки?
– К лютеранской, католической, грекоправославной, иудаистской. Мать у меня голландско-ирландского происхождения, а отец – греко-еврейского. Так что мои дедушки и бабушки ходили в разные церкви, но, между прочим, оставили после себя двенадцать внучек и внуков.
– Но это же чудесно! Подумайте, какой богатый выбор открывается перед вами. Кстати, в какой традиции вы воспитывались?
– То, что вы называете традицией, зависело от того, где мы проводили праздники. Но это длинная история… – Я украдкой посмотрел на часы, собирая воедино скудеющие запасы своей смелости. – Длинная и местами даже любопытная. Ее лучше всего рассказывать за обедом. Что вы об этом думаете?
– Ведущий репортер приглашает болящую учительницу музыки на обед?
– Он только об этом и мечтает. Что скажете о ресторане при гостинице «Лонгвуд-инн»?
– У вас слишком изысканные вкусы для репортера из такого маленького городка. А как насчет того, чтобы прокатиться чуть дальше? Я бы не хотела мозолить глаза своим коллегам – не люблю, когда на мой счет сплетничают в учительской. Вы когда-нибудь были в «Трауте»?
– Никогда. Даже не слышал о таком заведении.
– Это потому, что оно находится в Пелтоне, в сорока пяти минутах езды к северу от нашего города. Стоит прямо на берегу реки, почти на самой границе с Массачусетсом. У вас есть машина?
– Есть. Когда отправимся?
– Может, завтра?
Я кивнул.
– Вот и хорошо, – подытожила она. – У меня уже целую вечность не было планов на вечер пятницы. К сожалению, мне нужно сделать завтра в школе кое-какую работу, поэтому, если можете, подхватите меня на заднем дворе Талкотта – на спуске с холма между Линкольн-каммон и Линкольн-стейшен. Оттуда и двинемся. Скажем, около семи?
– Отлично, – одобрил я, когда она открыла передо мной дверь, и протянул ей руку.
Она посмотрела сначала на нее, затем – сочувственно – на меня и сказала:
– Вы славный парень. – Потом положила руки мне на плечи и нежно поцеловала в щеку под глазом. Когда я вышел, она помахала мне на прощание и закрыла дверь.
Обходя дом, чтобы выйти к фасаду, я заметил краем глаза какой-то летящий предмет и повернулся, чтобы рассмотреть его, но в следующее мгновение он просвистел мимо моего лица, задев то место на щеке, которого Ханна коснулась губами, и исчез в зашелестевших кустах. Я отпрянул с испуганным криком, невольно выругавшись на неприлично высокой, даже визгливой ноте. Передняя дверь распахнулась, и на крыльцо вышла тощая пожилая женщина в подбитом ватой домашнем халате, давно потерявшем форму, и старых шлепанцах. На голове у нее красовался тюрбан, свернутый из куска вытертого голубого одеяла. Увидев меня, она от неожиданности чуть не подпрыгнула.
– О Господи! У меня такой непрезентабельный вид… В доме, видите ли, немного сквозит, – сказала она, наклоняясь вперед и прижимая ладонь к губам, словно сообщая мне некий важный секрет. – А отопление стоит дорого… Но почему вы крадетесь вокруг моего дома, молодой человек? Что вы здесь делаете?
– Я был в гостях у Ханны, – произнес я, едва удерживаясь от смеха при виде этого внезапно появившегося пугала.
– Ага! Вы, стало быть, ее поклонник? Мне следовало догадаться. Я, знаете ли, женщина старых правил и не одобряю, как вы, нынешняя молодежь, лазаете друг к другу в постель.
Я не знал, обижаться мне или гордиться выводом, который она сделала, увидев, как я выхожу из-за угла дома.
– Мадам, я репортер и разговаривал с ней о вашем покойном соседе. Все это время мы сидели – разумеется, на разных стульях.
– Готова поспорить, что вам это не слишком понравилось, – сказала она, внимательно посмотрев на меня поверх очков. – Что-то я не припомню никого с вашей внешностью. По-моему, вы не местный.
– Я действительно не местный, – бросил я, направляясь к своей машине.
– Не смейте уходить, пока я с вами разговариваю, молодой человек! Кажется, вы сказали, что приехали сюда, чтобы написать о старике, который жил через улицу?
– Точно так.
– Ну так вот: меня зовут миссис де Соуза, и вы можете сослаться на меня, если хотите.
– Я бы с удовольствием. Но что вы можете о нем рассказать? – спросил я, доставая ручку и открывая свой репортерский блокнот.
– Я живу в этом доме вот уже семьдесят два года. Полагаю, одно это чего-нибудь стоит. – Она завернулась поплотнее в свой стеганый балахон, стянув его вокруг своей тощей фигуры, и поправила тюрбан, который уже начал было разматываться. – Однако чай мы с ним вместе не пили – если это вас интересует. Он не удосужился представиться, когда сюда переехал. – Она пренебрежительно фыркнула. – А когда я пошла к нему, чтобы сделать за это выговор, даже не подумал пригласить меня в дом. Можете себе представить? Лишь слегка приоткрыл дверь и разговаривал со мной сквозь щелочку. Головы и то на улицу не высунул.
– Но вы все-таки с ним познакомились? После?
– После чего? После столь хамского поведения? Вы что, шутите? Да я и спичку в снежную бурю не дала бы этому поганому матросскому сыну.
Я больше не мог сдерживать разбиравший меня смех. И чем сильнее старался унять свое веселье, тем громче хохотал. Миссис де Соуза распрямилась было, чтобы смерить меня грозным взором и призвать к порядку, но красовавшийся у нее на голове огромный голубой тюрбан размотался и завесил лицо словно театральным занавесом.
– Должна вам заметить, что такие слова я без серьезного повода не употребляю, молодой человек, – сказала она, борясь со своим тюрбаном. – Но в наше время люди потеряли всякое представление об этикете. По всем правилам он должен был первым ко мне прийти, чтобы познакомиться и засвидетельствовать свое почтение.
– Разумеется… Но коли, кроме этого, вам нечего мне сказать, то я, пожалуй…
– Нечего вам сказать? Что вы имеете в виду?
– Только то, что для статьи мне нужна более существенная информация о Яне, нежели эта.
– Тогда обращайтесь к своей малютке Ханне. Он никого не пускал в свой дом, кроме нее. И я, кажется, догадываюсь, с какой целью, – доверительно сообщила она с явным подтекстом.
– Я совершенно уверен, что между ними ничего такого не было.
– Ну конечно. Такой древний старик, как он, полагаю, не поднимал парус со времен Гарри Гопкинса. Я просто хочу вам пояснить, что прелести мисс Роув весьма значительны. Так же как ее коварство и уловки. Одинокому старику, несомненно, льстили ее визиты, пусть даже он был затворником и не желал ни с кем общаться.
– Интересная мысль. Спасибо, миссис де Соуза. Ваш рассказ помог мне прояснить общую картину.
– Только не надо разговаривать со мной покровительственным тоном. И еще одно: не вздумайте шастать здесь по ночам – я этого не потерплю. Вы меня понимаете?
– Разумеется.
Высказав все, что сочла нужным, миссис де Соуза захлопнула дверь. Я же направился к своей машине. Сидевший в кустах кот скептически посматривал в сторону переднего крыльца.
«ЭФИОП»
Лебедь, отрада глаз, умирает по прошествии многих лет, миф же, отрада ума, – по прошествии многих эпох. Мой коллега Лённрот считает, что миф умирает, когда его вытесняет новый. Мне это утверждение кажется не то чтобы некорректным, но основанным на ограниченном, лишенном воображения взгляде на вещи. Весной цветение вытесняется лиственным убором, однако равно справедливым было бы утверждение, что глубокой осенью лиственный убор вытесняется пустотой. И в этот сравнительно короткий период кажущейся пустоты мы можем наблюдать удивительные вещи. Надо только найти правильный угол зрения.
Олаф Гринштейн. Чертог Менелика

Предмет 5.Резной деревянный триптих с центральной квадратной панелью, каждая сторона которой имеет длину примерно восемь сантиметров. Центральная панель закрывается двумя прямоугольными створками. На внешней стороне створок имеется резное изображение деревянного сундука, увенчанное двумя крылатыми фигурами – херувимами, – обращенными лицами друг к другу. При тщательном исследовании внешнего резного декора на фигурах херувимов можно заметить следы позолоты.
При раскрытии створок открывается взгляду икона с изображением на переднем плане худого, с обнаженной головой бородатого человека с темно-коричневой кожей. Руки у этого человека приподняты, разведены в стороны и указывают на сцены, нарисованные на обеих сторонах створок (то есть на их внутренней части). Слева мы видим выполненное в красках изображение того же сундука, что и снаружи, но с острыми желтыми конусами в верхней части, символизирующими божественный огонь, исходящий от каждого из херувимов. С правой стороны конусы заменены тремя высокими обелисками, словно каким-то образом возникшими из огня. Напряженный взгляд, большие глаза и сжатые губы сообщают человеческой фигуре на переднем плане беспокойное выражение.
Многие европейские алхимики использовали фигурку черного человека (или «эфиопа», как называли этот предмет люди, считавшие себя мудрецами, познавшими мир) для отображения начальной стадии алхимического процесса, когда предназначенная для трансформации субстанция должна подвергнуться разложению и потемнеть, прежде чем возродиться в новом качестве. Однако чернокожие алхимики с Африканского Рога, которые обучались данной науке у арабов, водивших караваны торговых судов по Красному морю, использовали эти своего рода автопортреты не в качестве символа разложения, но для отображения мощи субстанции и ее способности высвобождаться из низших форм. У них «эфиоп» символизировал скорее наступившую свободу в сравнении с прошлым рабством, нежели прежнее бесформенное состояние в сравнении с будущим совершенством.
Дата изготовления.Образ человека на переднем плане с непропорционально большой вытянутой головой и поджатыми губами, как, равным образом, и стиль самого триптиха (резьба по дереву с единым общим изображением на внешней стороне двойных створок, как бы предваряющим смысл рисунков на их внутренней части) характерны для школы Терейю эфиопской иконографии, каковой факт позволяет отнести дату изготовления этого предмета к концу одиннадцатого – началу двенадцатого века.
Изготовитель.Установить имя мастера не представляется возможным, однако весьма вероятно, что он являлся одним из монахов-живописцев монастыря Терейю, чьи произведения были известны от Гданьска до Константинополя. Помимо живописи, монахи этого монастыря стяжали славу за стратегические инновации в войне против имама Али Рашида, на протяжении семи лет и семи месяцев обороняя крепость «Мечта пастыря» от вторгшихся в страну арабов.
Место изготовления.Всего вероятнее между современными городами Массава и Зула в Эритрее. Район этот был известен как центр ремесла и торговли с восьмого по восемнадцатый век. Практически любой товар, попадавший из Эфиопии в Европу или Азию, так или иначе проходил через эту местность.
Последний известный владелец.Центр африканской этнографии и культуры, Гаванский университет, Куба. Эта икона находилась в одном из четырех ящиков, наполненных «восточными древностями», привезенных в Сантьяго-де-Куба Феликсом Армандо Корреа, капитаном кубинской армии, а позднее исследователем африканского христианства. В 1980 году, после отставки при туманных обстоятельствах из армии, Корреа восемь лет провел в путешествиях, восстанавливая маршруты странствий жившего в шестом веке монаха-путешественника Космаса Индикоплеустеса. По возвращении в 1988 году на Кубу Корреа обосновался на принадлежавшей его семье ферме по возделыванию табака, где провел последние годы своей жизни в посте, молитве и научных изысканиях.
Ураган в августе 1989 года заставил руководство отремонтировать музей и восстановить его электропроводку. Для проведения работ в сжатые сроки была приглашена бригада русско-узбекских электриков из группы уезжавших на родину иностранных рабочих. Триптих был объявлен утраченным на следующий день после того, как электричество восстановили. По другим источникам, потерю обнаружили через два дня после возвращения электриков в Чирчик.
Через год после исчезновения иконы школы Терейю внук Корреа обнаружил своего дедушку в старом сарае с разбитой головой и дробовиком в руке.
Ориентировочная стоимость.Оптимисты определили бы цену триптиха примерно в семьдесят тысяч долларов, более реалистичные торговцы назвали бы цифру в пятьдесят пять тысяч, а наиболее сведущие – не ниже сорока пяти. Если разобраться, древние иконы школы Терейю стоят на рынке, в зависимости от состояния, от пятнадцати до сорока пяти тысяч долларов за одинарную каменную пластину, и от тридцати до семидесяти тысяч за резной деревянный диптих или триптих в хорошем состоянии.








