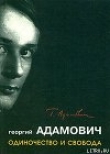Текст книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 65 (всего у книги 69 страниц)
ЭЛЛИС
О СОВРЕМЕННОМ СИМВОЛИЗМЕ, О «ЧЕРТЕ» И О «ДЕЙСТВЕ»[245]245
Впервые: журнал «Весы». 1909. № 1. С. 75–82. Эллис (Кобылинский Лев Львович; 1879, Москва – 17 ноября 1947, Локарно, Швейцария) – поэт-символист, критик.
[Закрыть]
«Цель поэзии – поэзия!»
А. Пушкин
I
Несмотря на то, что с внешней стороны не остается никакого сомнения в окончательной и бесповоротной победе в нашей литературе «нового направления» (другими словами, – «декадентства», «символизма», «модернизма»), по существу едва ли уместно говорить о какой-либо «победе». Русский символизм (как оказывается, для многих весьма неожиданно) не только не отменил, не победил какую-то старую школу во имя бесконечного нового или «нового слишком нового», а, наоборот, явился органическим, глубоко последовательным и неизбежным исторически и психологически дальнейшим развитием, уточнением и усложнением всех самых заветных, самых глубоких и прочных течений и устремлений русского словесного творчества. Обнаружилось, что «первые русские декаденты» – не варвары, разгромившие Рим, а единственные преемники, единственные последователи его вековой культуры, представители как бы своего рода ренессанса. Достаточно указать на интимную связь романтизма Бальмонта с романтизмом Фета, пластической строфы Брюсова с твердыми и лишенными всяких швов строфами Баратынского и Тютчева, с выразительной простотой Пушкина и Лермонтова; достаточно отметить преемственность самых лучших молитвенно-лирических мест А. Белого и А. Блока (у последнего даже до текстуальной близости порой) с сокровенной, мистической лирикой Вл. Соловьева, – увы! – не вполне оцененной; достаточно уяснить неоспоримую связь лучших образов, проникновенно-обыденных, Ф. Сологуба со странно-двойственными, реально-фантастическими и бытовыми и, в то же самое время, вневременными видениями Гоголя, а глубокие и страстно-догматические искания Д. Мережковского сопоставить с сверхлитературными исканиями и исповеданиями классических писателей русских – Гоголя, Толстого и особенно Достоевского, даже, если хотите, с социально-мистическими учениями славянофилов, – достаточно этих грубых, бесспорных сопоставлений, чтобы сразу стала ясной та преемственность, которая существует между теми «двумя берегами» русской литературы, о которых еще так недавно кричали все идейные реакционеры из толстых журналов, столь же мало имевшие корней в прошлом, сколь побегов в будущем.
Кого же отменили и разбили наголову, кого доконали «декаденты»? Критиков из толстых журналов, хранителей авторитетов или публицистов-фельетонистов, специальные функции которых – приспособлять вечное к литературному завтра, у которых часы всегда лишь с одной секундной стрелкой. Но разве возможно отменить пошлость? Разве под гордо бьющимся новым флагом не привозятся и теперь все те же залежные товары, на которых изменен только этикет? Разве критика современных «толстых журналов» чем-либо отличается от своих прежних двойников, и разве разные «Образования», «Современные Миры» – не родные потомки прежних «Артистов», неизменных «Русских богатств» и т. п.? Разве приемы их критики и уровень их культурности изменились?
Увы, здесь «исконное старье» не облеклось в новые формы. Теперь мы переживаем период живого расслоения временно взбудораженных и случайно перемещенных слоев русской общественной и литературной мысли. Но как поразительно закономерно и точно совершается этот процесс! Все больше и больше «толстые журналы» воротят от «мистики» и «эстетства», т. е. от того самого, от чего искони бесновались враги гордой пушкинской музы, враги фетовского романтизма и классицизма Майкова, от того самого, от чего воротило искони реалистических противников безумно смелых исканий Вл. Соловьева.
А наши обличители «литературных распадов» разве не родные внуки «Отечественных Записок» и не является ли для них единственными заветными символами все тот же «базаровский лопух»? Увы! – все идет если не по-старому, то к старому!..
Скоро снимутся все маски, и мы увидим, что для кадетов «Русской мысли», как и для прежних «либералов» не стоят ни гроша все новые мистические грезы, что для «социалов» всех видов равно ничего не значат все «символисты» без различия, т. е. значат столько же, сколько раньше значили для «писаревцев» и «михайловцев» все представители чистого и строгого искусства.
Мы, считающие себя поклонниками старого, как мир, и вечно юного лозунга самоценности и вечности искусства, лишь снова повторенного и снова прозвучавшего, как повсеместное, громовое эхо, деятелями «нового искусства» (т. е. «символистами»), мы, не боящиеся и теперь, во времена реакции, как мы не боялись заявлять это и во время революции, во всеуслышание повторять, что искусство не может существовать как средство чего бы то ни было, мы считаем себя лишь продолжателями того культа Истины, открывающейся в Красоте, который существует с тех самых пор, как явилось на свет первое истинно художественное произведение!
Для нас «символизм» – лишь наша родная, наша интимная, специфически свойственная нам, с нашей сложной, больной от утонченности и принявшей в себя весь опыт прошлых веков душой неразрывно слитая, форма постижения все того же от века Единого, Истинно-Сущего, лишь новая форма поклонения все той же Красоте!
Наша миссия – не варварская, не разрушать академии, музеи и освященные тысячелетиями храмы, а научиться прозревать в каждом из них частицы Единого, Неведомого еще Бога и, служа Ему по-новому, быть может так, как до сих пор не служил еще никто, в то же время стремиться воссоздать Его образ, собрав воедино все эти, просеянные через века, отдельные частицы. Наши враги – не частные, односторонние служители прошлых, кристаллизовавшихся в русле истории форм, а исключительно те гунны и вандалы, которые, прикрывшись маской «новых исканий», полюбили лишь одну сторону всякой перемены – разрушение старого, те, для которых нет вообще ни истории, ни исходной точки, заветный идеал которых – начать историю с года собственного рождения, а метод – беззастенчивое обещание всех возможных и невозможных синтезов, сочетаний и соединений. Имя этим врагам – легион, но всех этих объединяет в настоящий момент одна «идея»: идея о преодолении символизма, а вместе с тем и искусства вообще. Скучно и бесплодно полемизировать со всеми этими «сверхиндивидуалистами», «мистическими анархистами», «сверхэстетами», «соборными индивидуалистами», «мистическими реалистами», – одним словом, со всеми этими «мистическими хулиганами» (пользуясь метким выражением Д. Мережковского).
Мы не думаем, чтобы вся эта саранча, все эти тучи москитов дожили до будущего лета. Они обречены всем существом дела, всем стремлением исторического потока современной мысли и творчества. Символизм как мировое явление, как лозунг, соединивший два смежных века, не только не изжит, но еще далеко не осознан даже там, где им пущены особенно глубокие корни. Постепенно растущее осознание его, точнее – самосознание, приводит его теоретиков к неожиданным выводам, основная тенденция которых – убеждение в его глубокой преемственной связи с самым существом прежних литературных «школ», ощущение глубоких идейных корней в прошлом.
Кажется теперь все более и более парадоксальным принципиальное, абсолютно несовместимое противопоставление Бодлера Виктору Гюго или Мюссе; все более и более вырисовывается преемственность учения Малларме (особенно его теория идеального театра) с фантастическими грезами Р. Вагнера, с очень многими выводами классической германской философии (учение о системе символов); О. Уайльд все более и более интересует нас не как «чудовище извращенности», а как самая свежая и оригинальная попытка соединения музыки романтизма с пластикой эллинизма; в Св. Георге, этом Эмпедокле современного символизма, мы всего более изумляемся, при всей его несравненной оригинальности, его одновременной преемственности в отношении Гете и Бодлера, мистическому тяготению к еще так недавно игнорируемому Данте; нам не без основания начинает казаться, что даже в наших снах мы уже когда-то бродили в сумрачных бесконечных залах метерлинковских «драм»; не в первый раз романтизм и церковная символика слились в одну цельную готическую арку в трогательных образах Роденбаха; и разве не рождается в нас все большее и большее желание найти прочный, незыблемый и уже неоднократно испытанный фундамент для наших самых заветных и горячих исканий в бессмертных и несравненных страницах 3-й книги «Мира»… Шопенгауэра?
С другой стороны, можем ли мы считать уже разрешенными основные проблемы современного символизма и связанной с ним «переоценки всех ценностей»? Разве мы уже отыскали ключ к разрешению, быть может, самой сложной и наболевшей современной проблемы, Ницше-вагнерианского вопроса, особенно теперь, когда едва-едва опубликована интимная исповедь Фр. Ницше, его «Ecce homo»?[246]246
«Все Человек» (лат.).
[Закрыть] Разве настал срок отрешить себя от плуга Заратустры, проводящего борозду, быть может, на рубеже тысячелетий?
Разве теоретики символизма и проповедники индивидуализма и интуитивного познания творчества успели уже с достоинством ответить на все новые запросы снова возрождающейся философской мысли Европы, неокантианства в Германии и неогегельянства в Англии?..
Общее сознание настоящего момента, связующего два столетия, – во всех своих точках решительно против быстрого «преодоления» или погребения всего того, что еще так недавно рассматривалось как задача столетия. Только поверхностное, недобросовестное и невежественное понимание «символизма», только внешняя рецепция этого сложнейшего культурного явления, только слишком скорая и трусливая усталость способны примкнуть к становящемуся теперь модным лозунгу о «преодолении символизма», о «гибели эстетизма» или о «конце литературы».
Когда же этот лозунг присоединяется вдобавок к явно клерикальной программе или к замаскированным, кабинетно-беспочвенным и исключительно словесным призывам к «народности», то он становится просто смешным!..
II
И, тем не менее, среди всех бесчисленных криков о гибели искусства звучит один голос, заставляющий нас невольно прислушиваться к себе, прислушиваться тем более почтительно и серьезно, что он принадлежит человеку, наиболее, быть может, из всех переболевшему все проблемы и искания символизма, писателю, внесшему в его сокровищницу один из самых драгоценных вкладов. Наше внимание к этому призыву становится еще более чутким от того, что каждое его слово искажается и переиначивается как его врагами, так в особенности и его последователями, до полной неузнаваемости, от того, что все почти современные «мистические хулиганы», замалчивая первоисточник и, всячески искажая его выводы, безданно и беспошлинно черпают из него же.[247]247
Достаточно прочесть любую программную статью «Золотого Руна» или любую страницу «Покрывала Изиды» Г. Чулкова, чтобы убедиться в справедливости наших слов.
[Закрыть] Мы говорим о Д. Мережковском.
Среди всех «сверхиндивидуалистов» Мережковский занимает исключительное, несоизмеримое ни с кем и единственное в своем роде место. Он давно уже открыто, благородно и страстно выступил против того, что было в значительной степени провозглашено им же самим, как одним из самых первых «русских символистов». Это самоотрицание – не игривость, не случайность, а «дело»; это – серьезная и глубокая душевная трагедия. Без колебания мы сравниваем этот процесс самоотрицания с душевной драмой Гоголя, сжегшего продолжение «Мертвых душ», с глубокими сарказмами Л. Толстого, направленными против себя самого. Кто слышал простую, живую и беспристрастную речь Д. Мережковского, тот никогда не забудет его внушающего, содрогающего душу голоса, звучащего из страшной глубины.
Все этапы этой трагедии, все ступени этого перехода от творческого созерцания к жажде «действа», к желанию творить жизнь и переродить современное человечество – перед нами в последовательных творениях Мережковского. Не случайность, а неизбежность этой драмы очевидна; глубокая преемственность ее с аналогичными внутренними переворотами в творчестве и жизни самых замечательных русских писателей становится все более и более несомненной. Недаром за последние годы пытливая мысль Мережковского исключительно билась около этих заповедных и едва ли понятых во всей их интимной глубине трагедий. Другой особенностью Мережковского является его открытая честность: он не прибегает подобно многим другим полудекадентам, полунедекадентам к смутному, смешанному словарю мистико-эстетических комбинаций, – он ясно, четко и определенно выступает против всей русской современной литературы, обвиняя ее в легкости и несерьезности. Конечно, мы не согласны с таким огульным обвинением, зная, что и раньше верхний слой нашей литературы был почти хулиганский; конечно, мы не пойдем за ним к Чехову, как единственному положительному антиподу всей современной литературы, хотя мы умеем воздать должное этому последнему из реалистов, чутко почувствовавшему веяния будущего; мы не пойдем за Чеховым именно потому, что помним апокалиптический призыв того же Мережковского быть лучше холодным и горячим, но не теплым, каковым в сущности и был всегда и везде А. Чехов.
Мы думаем, что Мережковский от сильной душевной боли как бы ослеп временно и не видит спасительных оазисов в пустыне современной нашей литературы. Тем не менее, во многом, – о, как во многом! – прав Мережковский, бичующий современную русскую литературу. Не будем спорить с ним о последнем, но лучше спросим его: если наша литература так низко пала, и современный читатель, действительно, чуть ли не папуас, то каким же образом должен именно сейчас совершиться никогда еще не бывалый, почти волшебный переворот общего сознания и переход от литературы к жизненному коллективному «действу», и к чему-то, почти эсхатологическому? Каким образом на падение и измельчание художественного творчества можно ответить не призывом к его углублению и пересмотру, не борьбой с бактериями, которыми дышит современный «литератор» и читатель, не серьезной работой над первоисточниками того течения, которое мы называем современным, а призывом всех и каждого к тому сверхчеловеческому подвигу, о котором великие лишь смутно мечтали, на порывах к которому погибали такие гении, как Р. Вагнер, Фр. Ницше. Разве гибель Гоголя, практическая тщетность и бесплодность так называемой «философии» Л. Толстого, извращение идей Достоевского чуть ли не до смешения их с «идеями» наших истинно русских патриотов, превращение в течение нескольких лет целой мистической системы Вл. Соловьева в какой-то жалкий компромисс синодального стиля, а его социальных, фантастических грез – в тощую партийную программку, и многое, многое другое – разве все это не является целым рядом симптомов, доказывающих лишь одно, а именно: что рано, безумно рано, преступно рано превращать в общественное слово, в проповедь, в коллективный призыв – то, что живет и дышит только на высотах, на вершинах, недоступных толпе? О какой «общественности» без масс и толпы, о каком действии и без конкретной цели и определенной программы можно говорить в настоящее время?
Психологически, индивидуально мы понимаем крик Мережковского как сознание, что и он дошел до края бездны, что и он, пережив все трагедии индивидуализма, пришел к великому зиянию небытия, к самоотрицанию, подобно многим самым великим вождям индивидуализма; a contrario,[248]248
От противного (лат.).
[Закрыть] инстинктивно, быть может, диалектически, по-гегельянски возопил он о спасении от этой бездны через противоположное, через «соборность», но этот крик остался и всегда останется неуслышанным той воющей стихией, которая омывает великий утес его духовного одиночества.
Не первый, не последний Д. Мережковский убоялся и убоится безумия одиночества, не первый он стал порываться заговорить с массой о «сокровенном», не первый он останется без ответа. Не первый он не найдет слов для выражения своего безумного порыва «действовать», лишь бы не молчать и не быть одному!
Мы говорили все это не со злорадством или хохотом, но с самым глубоким почтением и грустью, ибо мы знаем неизбежный конец всех таких нечеловеческих исканий, а еще и потому, что и у нас в глубине души есть своя бездна, не менее ужасная, хотя, быть может, и укрытая нашим молчанием.[249]249
Отрицая общественное значение идей Мережковского, мы не сомневаемся в глубочайшем индивидуальном их значении как сложнейшего процесса самых мучительных и коренных исканий.
[Закрыть]
Вот почему Мережковский говорит о самых даже «злободневных» вопросах из какой-то страшной глубины, которая следует за ним, подобно бездне Паскаля, всегда зиявшей в его душе. Вот почему понять смысл тех условных, неизбежно туманных, несоизмеримых почти ни с чем жестов, значков и терминов, которыми пытается Мережковский сигнализировать нам по поводу сокровеннейших переживаний его «внутреннего опыта» – оказывается возможным лишь частично. Вот почему, притягивая почти магически смутным сообщением нам какой-то скрытой в нем великой тайны, он роковым образом отталкивает нас, лишь начинает говорить о ней, приспособляя свой язык к понятиям и терминам уже избитым, уже обыденным и многосмысленным.
Путь от символа к догмату – вот путь Мережковского.
Путь от созерцания к действию, от литературы к новой церкви.
В этих формулах все слова звучат иначе, все термины переоценены. Десятилетия пройдут, прежде чем Мережковский сумеет раскрыть смысл главнейших из них в достаточной мере.
Символически борьба Мережковского с мировым злом выражается в борьбе с «чертом».
Однако и здесь он впал в роковые противоречия. С одной стороны, его борьба с чертом похожа на гоголевскую иронию, высмеивания черта как чего-то серединного, грязного, комичного, шутовского, сходного даже с датской собакой, во всяком случае – чего-то серенького; с другой стороны, он, видя в нем главного врага всего прекрасного, главный узел всей мерзости и источник всех ужасов, – как бы соглашается вслед за христианством признать в нем «князя мира сего». Каким же образом «что-то серенькое, комичное» оказывается в конце концов победителем вселенной и царствует надо всем? Мы думаем что «высмеивание черта» – плохая штука, что не этим способом можно спасти свою душу, ибо при этом преуменьшается смысл мирового зла, забывается Тот, Кто действует за спиной черта, т. е. Сатана. Последний же, что, впрочем, издавна замечено поэтами, едва ли может вызвать смех. Борьба с Сатаной должна вестись иными путями. Впрочем, не лучше ли все-таки Сатана, чем добрая часть того человеческого рода, который мы спасаем от него, не чужды ли именно ему те низкие формы теплого зла-добра, которые горше абсолютного зла?
Б. ЭЙХЕНБАУМ
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ – КРИТИК[250]250
Впервые: журнал «Северные записки». 1915. № 4. С. 130–138. Эйхенбаум Борис Михайлович (4 (16) октября 1886, Красный, Смоленская губ. – 24 ноября 1959, Ленинград) – историк литературы.
[Закрыть]
Д. С. Мережковский как исследователь русской литературы и как ее «тайновидец» – это то, что требует сейчас серьезного, принципиального отпора. Импрессионизм, и в искусстве, и в критике, отжил свое время. Борьба «непосредственности» с «рассудочностью» определила внутренний пафос импрессионизма, создала его идеологию и закончилась полной его победой. Но победа обязывает больше, чем поражение. Оружие, которым побежден враг, должно храниться в Музее, как реликвия. Действовать им же после победы – это и кощунство, и бессилие. Рассудок побежден и унижен – тем радостнее и спокойнее должен вступить в свои права разум. Интуиция не может ужиться только с рассудком, ее отвергающим; для разума она – желанная сотрудница. О непосредственности можно говорить только до тех пор, пока рассудочность надеется на победу. Если этого нет – надо строить новое.
Мережковский никогда не был импрессионистом настоящим, его менее всего можно упрекнуть в «непосредственности»; он – рассудочен и силлогистичен, он – почти педант, но силлогизмы его – какие-то изменчивые, странно подвижные, точно и не силлогизмы. За ними всегда чувствуется не интуиция, а формула, в них самих мысль не вспыхивает, но тлеет, а между тем они имеют вид неожиданных открытий, озарений, потому что они – мгновенные, без ясных посылок, без соблюдения логических законов. Рассудочность, облеченная в импрессионистическую форму – вот своеобразный метод Мережковского. Недаром он на наших глазах превращается в публицистического критика: публицистика его – рассудочна и тенденциозна, но это едва заметно, потому что в критике он – как бы импрессионист. Публицистом трудно быть потому, что в самой практике своей он должен быть глубоко теоретичен, в самой стойкости – многосторонен и подвижен. Для критика – трудность иная: перед ним – вечно меняющийся, вечно живой мир образов, который он должен обфилософствовать, должен почувствовать в их расположении внутренние законы, приводящие их в систему, должен вскрыть их метафизическую сущность. Мережковский соединяет одно с другим, но так, что в каждом исчезает трудность: педантизм свой он скрывает в форме публицистической принципиальности, а критическому анализу сообщает импрессионистическую «легкость в мыслях». Получается нечто и чичиковски-тяжеловесное, и хлестаковски-воздушное одновременно.
Может показаться, что Мережковский возрождает старую нашу критику – недаром читал он лекцию о Белинском. Может даже показаться, что он не Белинским хочет быть, а Добролюбовым или Писаревым наших дней – так много говорит он о «сегодняшней нашей общественности». Но это только кажется. Публицистическая критика Мережковского явилась плодом разложения, и потому она – во сто раз больший грех по отношению к литературе, чем критика 60-х годов. То были, как говорит сам Мережковский, наши «рабочие будни», когда честность обязывала видеть в поэзии лишь праздник. В творчестве Писарева и Добролюбова есть свой внутренний стиль, это – наши примитивы, и, как таковые, они исторически обоснованы и оправданы. За Мережковским и в нем самом – не будни, но пир, почти оргия. Он не только пил новое и хмельное вино русского декаданса, но и сам творил его, сам растил для него виноградники и лелеял сок. Отрицать это Мережковский и не дерзает: мы, говорит он, декаденты, «дети ночи» по преимуществу. И потому те новые будни, та «сегодняшняя общественность», к которой он теперь призывает и ради которой отрекается от «вчерашнего декадентства» – не просто будни и даже не великий пост, смысл которого – подготовить душу к принятию грядущих светлых дней, а что-то другое. Положение Мережковского – очень серьезное, и тем серьезнее, что он его, по-видимому, не понимает. Он хочет избавиться от «вчерашних» болезней – «индивидуализма, одиночества без общественности», хочет «выздороветь» и стать «сегодняшним». Само по себе это желание ничего дурного не знаменует, но оно страшно обязывает человека. Каяться в своих грехах труднее, чем совершать их, потому что настоящее, глубокое покаяние требует величайшей искренности, величайшего благородства. Отрекаться от своего «вчера» легко, но трудно сделать это так, чтобы новое «сегодня» не усомнилось, не заподозрило. Можно очутиться «в страшном промежутке», между «вчера» и «сегодня», если в отречении будет хоть один неверный звук, хоть одно придуманное слово. «Сегодня» радостно принимает новых членов, но оно всегда – строгое, пытливое, оно всегда вслушивается внимательно в то, как отрекаются от своего «вчера». И вот этого-то Мережковский, очевидно, не понимает.
«К Некрасову мы были не правы в нашем декадентстве вчерашнем, – пишет Мережковский, – будем же не правы и к Тютчеву в нашей сегодняшней общественности, чтобы восстановить правоту последнюю, понять и соединить обоих». Мне не хочется говорить о том, что формально неправильно такое своеобразное применение гегелевской триады: антитезис должен верить в свою правоту – только тогда возможен синтез. Неправда должна быть бессознательной, потому что иначе она – обман, который ни к какой «последней правоте» привести не может. И вот именно так нельзя отрекаться от своего «вчера», а тем более невозможно так относиться к новому «сегодня». Каждое «сегодня» верит и должно верить (в этом – героизм истории) в то, что ему суждено открыть или создать эту «правоту последнюю», и потому зовет оно к себе и принимает только верующих. А Мережковский, если даже и верит, то только в какое-то неопределенное будущее, в какое-то завтра. Отсюда – его неуважение к «сегодня», несмотря на кажущееся перед ним преклонение. Отсюда же – его легкомысленное отречение от «вчера». Первое проявляется в его «приятии» Некрасова, второе – в отказе от Тютчева и в предпринятом для этого искажении его поэзии.
Мережковский не хочет быть «эстетом», потому что «эстетизм становится пошлостью». Он гордиться этичностью русской литературы и готов «жизнь» предпочитать «искусству». Но странно – Некрасова он не решается «сравнивать» с Пушкиным, находя это «эстетическим промахом», а о Пушкине говорит: «Узнав о 14-м декабря, поэт выехал из Михайловского, а когда заяц перебежал ему дорогу, – вернулся обратно. Не хотел быть мучеником. У него была иная судьба – и благо ему, благо нам, что он исполнил ее: мучеников много у нас, Пушкин – один». Мережковский говорит о зайце, но умалчивает о той сложности, какая была в отношениях между Пушкиным и декабристами. С этими фактами нужно быть очень осторожным, а Мережковский над комментарием не задумывается. «Не захотел быть мучеником» – это, в сущности, оскорбительно для памяти Пушкина, но Мережковский умеет обезоружить неожиданным комплиментом: «Пушкин – один». Читатель может быть сбит с толку такой умственной эквилибристикой и не заметить, в каком «промежутке» оказался здесь Мережковский. Он хочет быть этичным в самой эстетике, а между тем проявляет в отношении к Пушкину чистейший «эстетизм», так комментируя поступок Пушкина. В своем усердии к этике Мережковский не удержался – и пришлось вернуться к эстетизму: «мучеников много у нас, Пушкин – один». Ведь это – уже не эстетический, а этический промах!
Теперь посмотрим, что такое – Некрасов для «сегодняшнего» Мережковского. Мережковский полагает, что сейчас «нужно» говорить о Некрасове, потому что это – «явление в русской литературе единственное, единственный художник,[251]251
Курсив мой.
[Закрыть] соединяющий любовь к народу с любовью к свободе, религиозную правду народную с религиозной правдой всечеловеческой». И дальше: «не мы к нему, а он к нам идет, как будто нежданный, незваный, непрошеный, хотим-не хотим, а принять его надо». Признание – замечательно характерное; кажется даже, что здесь обычная «хитрость» Мережковского изменила ему. Не он зовет Некрасова, не он творит это «сегодня», которому будто бы поклоняется – все это наступает на него, «нежданное, незваное, непрошеное». И потому, несмотря на этическую внешность, отношение Мережковского к Некрасову остается неисправимо-эстетическим в самом дурном смысле этого слова. Он не только не решается «сравнивать Некрасова с Пушкиным по силе творчества», но просто не чувствует Некрасова художником. Он готов простить Некрасову его «художественные неудачи», которые, замечается мимоходом, «так на виду, что о них и говорить не стоит». Оказывается, что вот именно «единственного художника» Мережковский в Некрасове и не признает, творчества не приемлет, а приемлет только слова: «Читая это, – говорит он об одном стихотворении Некрасова, – мы об искусстве не думаем: не до того. Слишком живо, слишком больно,[252]252
Курсив мой.
[Закрыть] – этого почти нельзя вынести. И только потом, вспоминая, чувствуем, что это предел искусства, тот край, за который оно переливается, как чаша слишком полная». Очень характерны для «эстетизма» эти – «не до того» и «слишком» и, кстати, очень банальны. «Эстетизм» не исключает этики – он только не желает вступать с нею в соединение, держится в стороне, считая союз с нею унизительным. Мережковский «приемлет» Некрасова только в пределах этики – к Пушкину он его не пускает, в «художественных неудачах» его не сомневается. Он отнимает у Некрасова то, что было ему дороже жизни – венок артиста; он вырывает из рук его лиру, смягчая это своей обычной хитростью: «Кажется, что у музы Некрасова нет вовсе лиры, а есть только голос… Не играет, а поет; не поет, а плачет». Так что же на самом деле – поет или плачет? Странно, что после того, как о Некрасове писали Бальмонт, Брюсов, А. Белый[253]253
См. напр., в книге «Символизм» подробное описание некрасовского стихотворения «Смерть крестьянина» со стороны ритма и «словесной инструментовки» (стр. 242–254).
[Закрыть] и др., Мережковский повторяет слова Пыпина – «прямо о деле», находя, что «лучше нельзя выразить сущность этой поэзии». За «дело» любить Некрасова не трудно – все его так любили! Пора теперь полюбить его за поэзию, за ритм, пора понять, что он, действительно, «единственный художник». Поклонение Мережковского оскорбительно: «Как же нам не любить его? Каковы мы, таков и он. Если он плох, значит, и мы плохи, но он все-таки наш плоть от плоти, кость от кости, наш единственный. Что же нам делать, если нет у нас другого, лучшего? (!) Отречься от него, значит от себя отречься».[254]254
Курсив мой.
[Закрыть] Здесь опять хитрость изменила Мережковскому. Слишком уж ясно видно, что Мережковский Некрасова не любит, а любит себя, что он готов всегда заменить Некрасова «другим, лучшим», если только найдется. Это не любовь, а обман.
Если в главе о Некрасове Мережковский банален и даже не всегда умеет прикрыть эту банальность своей «этической» хитростью, то в главе о Тютчеве, за которую Мережковский должен ответить перед судом «нашей сегодняшней общественности», хитрость его достигает своего апогея. Здесь его окрыляет восторг измены, сладость отречения, сладость сознательной несправедливости, неправды и неправоты. Там, в главе о Некрасове, Мережковский скучен, вял, он сам зевает и через силу водит пером, соглашаясь хоть с Пыпиным, чтобы только скорее дотянуть до конца; здесь Мережковский – в экстазе, он – неудержим, он переходит всякие границы, неистовствует, беснуется и лжет. Оправдание для этого есть: «Трудно больному судить о болезни: так трудно нам судить о Тютчеве, быть к нему справедливым; и может быть, не следует. Быть справедливым, только справедливым – значит быть неподвижным. Двигаться – нарушать равновесие, нарушать справедливость. Будем же не только справедливы к Тютчеву, будем любить и ненавидеть его до конца, – иначе не поймем, а понять его нам нужно: понять его – значит выздороветь». Мережковский хочет «двигаться» от «вчерашнего декадентства» к «сегодняшней общественности» – потому к Тютчеву, очевидно, можно и нужно быть несправедливым. Мгновенным силлогизмом, прихотливо соединяющим хитрую рассудочность с будто бы наивной непосредственностью чувств, Мережковский находит выход из двух возможных отношений к вещам – справедливого и несправедливого – в несуществующем третьем, разрешая себе быть «не только справедливым», но и «любить и ненавидеть». Это, по тому же силлогизму Мережковского, означает – не только «быть неподвижным», но и двигаться, не только сохранять равновесие, но и нарушать его. Именно таков своеобразный метод Мережковского, именно так работает его мысль, всегда придумывая то «tertium», которое «non datur».[255]255
Третьего не дано (лат.).
[Закрыть] Он неподвижен в своей рассудочности, а между тем, если смотреть на него издалека, кажется, что он непрерывно движется, меняя сегодня то, во что он вчера верил. Он неизменно уравновешен, а посторонним кажется, что он все время нарушает равновесие. Он всегда – только несправедлив, а иному может показаться, что он любит и ненавидит «до конца». Он совершенно «здоров», потому что умеет быть неподвижным и несправедливым, а хочет другим показать, что всегда болен и всегда надеется «выздороветь». Отсюда – эти замечательные «не только, но и…», отсюда – акробатические силлогизмы, в которых с помощью волшебных тире соединяется несоединимое, отождествляется неотождествимое. При помощи этих тире Мережковский показывает ошеломленным читателям то «tertium», которое казалось невозможным, несуществующим. Не существует – можно выдумать. И Мережковский выдумывает.