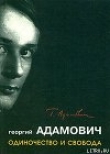Текст книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 69 страниц)
Замечательно, что читателю никогда не удается полюбить героев Мережковского – Мережковский не вчувствуется в своих героев, не вчувствует в них и своих читателей; не любя показывает нелюбимое и не вызывает к нелюбимому никакой любви. В художественном акте Мережковского много внешнего чувственного любования красивостью, много нервного аристократического отвращения к уродству; и никакой любви ни к кому. Любовь у Мережковского распалась на сентиментальность и жестокость, выражаясь в терминах научного психоанализа – на мазохистическую и садистическую компоненту. А в любви – даже осталась холодною; холодно восторгаясь внешней красотой, холодно и зло отвращается от вони, грязи и уродства – и не светит своим героям любовью и не греет их. Это не живые люди, заставляющие петь, плакать, любить и молиться вместе с ними, – а теоретически-патологические загадки, которые надо диалектически разгадать.
И когда Мережковский описывает садистические деяния своих героев, то злые дела не открывают читателю пути в душу злого героя – психологически все пусто и мертво; а на делах и настроениях диалектический ярлык – Антихрист. А вот все расплылось в сентиментальное безволье, в беспоступочную немощную доброту, в сладость беспредметного умиления – и опять нет художественного синтеза; а на делах и состояниях героя ярлык – Христос. И вот весь спор между язычеством и христианством вырождается в взаимные перекоры: вы, христиане, – бесхарактерные, безвольные, сентиментальные недеятели, – и, по Мережковскому, язычники в этом правы; а вы, язычники, – жестокие, бесчеловечные, быкобойцы и человекоубийцы, – и, по Мережковскому, христиане в этом правы. Но на самом деле ни благородная жестокость, ни животная жалость и сентиментальность – не есть любовь.
Однако это не последнее основание, не самая глубокая причина, мешающая читателю полюбить героев Мережковского. Последнее основание в том, что Мережковский сам не любит своих героев – ибо он во всем любит только себя и свою отвлеченную диалектику. Именно поэтому – он не бережет своих героев, не ценит их, не гордится ими, не ликует с ними и не плачет. Замечательно, что он их всегда компрометирует. Да, да – именно – компрометирует. Все, за что он берется, описывая, показывая, раскрывая – он всегда в последнем счете компрометирует и губит; все – будь это человеческий образ, идея или религия. Все, чего он коснется – вдруг увядает, блекнет, вступает в состояние тления и гниения, разлагается, растекается в стоячее, злоуханное болото или повертывает к читателю отвратительное, порочное лицо. Помните, как у Гоголя в «Страшной мести» – колдуну кажется, что все оскаливает ему зубы в страшном, непонятном смехе. Или как у Овидия – бог Вакх приговорил царя Мидаса к тому, что все, чего он коснется, будет превращаться в золото. Так, кажется мне, некий страшный демон приговорил Мережковского к тому, что все, чего он коснется, будет предаваться соблазнительному тлению и гниению. Понятно, что эдакое любить невозможно. И понятно, что с какой тревогой многие из нас услышали, что Мережковский – вообще не познавший самого себя и не ведающий ни своих границ, ни своих недугов – взялся писать книгу о Христе Иисусе. И тревога наша была не напрасна: два тома, написанные им, полны духовного соблазна.
Так и в романах его. В тот миг, когда вы соглашаетесь художественно вчувствоваться в душу Юлиана Отступника – понять его настроение и поверить, что он борется за свою святыню, ибо он верит в своих богов, – выясняется, что он в них не верит; вы учуяли в нем доброту, чувствительное сердце – он совершает отвратительную свирепость. И так во всем. Вы видите, что доброта не только слаба, но что она предназначена впасть в идиотизм. Храбрый – честолюбец, своекорыстен, жаден; верующий – неискренен и не верует; искренний человек искренен, но именно поэтому он есть хищное животное и т. д. Вы начинаете озираться – и искать себе точку опоры, лицо, на котором можно было бы отдохнуть, отвести душу, посочувствовать, полюбить – и вдруг вы убеждаетесь, что у Мережковского всё двусмысленно и фальшиво; все двусветно, двулично, скользко – все холодно и гладко, как тело ужа; все соблазнительно, смутно, неверно – по средневековому выражению, все есть skandalum – скандальный соблазн. Все – душевное, духовное, умственное – таково, что невольно начинаешь молиться – не введи же меня в искушение – и откладываешь книгу.
Уже те эпохи, которые он выбирает для своих романов – суть неустойчивые, колеблющиеся, смутные времена соблазнов и туманов: двусмысленные и раздвоенные. Христианство уже победило, но язычество еще не изжито – вон он, языческий разврат, укрывшийся в христианстве, а вон сущая добродетель в язычестве. Вот эпоха Возрождения в Италии – язычество возрождается, а христианство в лице католицизма вырождается до корня. Соблазн проснулся за каждым кустом; добро оказывается злом, зло есть добро. А вот эпоха просвещения и языческого классицизма вламывается в Россию при Петре. А вот религиозная смута на Крите и в Египте. И всюду, где эпоха смуты и соблазна, – там истинное вожделенное пастбище для Мережковского. Мережковский есть ненасытный лакомка соблазна, он великий мастер искушения, извращения и смуты.
Вот примеры тезисов и образов, вечно выдвигаемых им в романах, – а его романы и образы его всегда суть лишь иллюстрации к тезисам: в мире нет никакого зла; если кто говорит – нет никакого бога, то это тоже хвала Господу; кто служит ангелу зла, тот мудр; это хорошо, когда женщины публично показываются голыми; злодей должен иметь ангельски-благочестивое лицо; все хорошо, все свято – и так далее, без конца. При каждом таком утверждении, при каждом двусмысленно-соблазнительном образе, читатель невольно спрашивает себя: как? что? почему же это так? как это понять? это парадокс? или, может быть, я неверно прочел? что это, надо понять прямо, как сказано, или это ирония? или аллегория? или просто кощунство? или прямо мерзость? Нет, нет. Так и понимать надо, как сказано. Ложное истинно. А истинное ложно. Это – диалектика? Извращенное нормально. Нормальное извращенно. Вот благочестивая, искренне верующая христианка – от христианской доброты она отдается на разврат конюхам. Вот христианский диакон, священнослужитель алтаря – он мажет себе лицо, как публичная женщина, и постоянно имеет грязно-эротические похождения в цирке. Вот распятие – тело Христа, а голова ослиная. Вот святой мученик – с дикой руганью он плюет в глаза своим палачам. Вот христиане, которые только думают о том, как бы им вырезать всех язычников. Христос тождествен с языческим богом Дионисом. Верить можно только в то, чего нет, но что осуществится в будущем. Преступное изображается как упоительное. Смей быть злым до конца, или не стыдись. От руки найденного идола – совершаются исцеления. В кануны христианских праздников проститутке надо платить вдвое – «из почтения к Богоматери». Человек имеет две ладанки – с мощами св. Христофора и с куском мумии. Папа Римский прикладывается к Распятию, – а в распятии внутри у него Венера. Чистейшая кровь Диониса – Галилеянина. Вот девушку вкладывают в деревянное подобие коровы и отдают в таком виде быку – это мистерия на Крите, предшествующая Тайной Вечере христианства. Ведьмовство смахивает на молитву; молитва – на колдовское заклинание. Христос – Митра. Зло есть добро. И все это высший гнозис. А откровение божественное призвано давать людям сомнение.
Изумленно следишь за этими образами и провозглашениями. Откуда они? Зачем? Куда ведут? И почему русская художественная критика, русская философия, русское богословие десятилетиями внемлет всему этому – и молчит? Что же на Мережковском сан неприкосновенности?..
Теософия это? Но тогда это искажено, выдумано, ложно. Искусство это? Но тогда это искусство, попирающее все законы художественно прекрасного. Религия это? Нет – это скорее безверие и безбожие… Если совокупить это все вместе, то получится некая единая атмосфера – атмосфера больного искусства и больной мистики; некое духовное болото, испаряющее соблазн и смуту.
Что же означает всеевропейская популярность Мережковского? Ведь Мережковский считался самым серьезным кандидатом на премию Нобеля. Но чего же стоит тогда европейская слава? Ведь она сама есть больной туман. Она, по-видимому, родится от отсутствия религиозной и художественной очевидности. Но тогда и судьба ее будет зависеть от восхода духовного солнца. Ибо взойдет солнце духовной очевидности – и все осветится верно, и больная слава растает, как туман.
Мережковский не одинок и в этих своих соблазнительных блужданиях. И я верю, что когда над Россией взойдет духовное солнце – то все будет пересмотрено в духе и все найдет свое верное место.
В. ИЛЬИН
ПАМЯТИ ДИМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА МЕРЕЖКОВСКОГО
(1865–1941)[160]160
Впервые: журнал «Возрождение». Париж. 1965. № 168 (декабрь). С.36–45. Ильин Владимир Николаевич (1890–1974) – критик, богослов.
[Закрыть]
Что Д. С. Мережковский занимает одно из самых высоких мест на Пинде Русского Ренессанса, да и вообще в истории современной культуры – и не только русской, но и мировой – в этом трудно сомневаться. Но что ни он, ни его по заслугам прославленная супруга – поэтесса и критик Зинаида Гиппиус не были свободны от радикально-интеллигентской мути – в этом тоже не приходится сомневаться. Это связано с одним характерным свойством эпохи, в которую жил и писал Д. С. Мережковский вместе со своей супругой, как и эпохи, непосредственно им предшествующей – пресловутых шестидесятых годов. Свойство это В. В. Розанов, очень близкий к супругам Мережковским и ко всему их течению, едко наименовал в своей «Метафизике христианства» – «несчастной книжностью, несчастной интеллигентностью», а в другом месте – еще ядовитее и лаконичнее: «листы шуршат»…
Очень большая одаренность, огромная начитанность и ученость, с которой может сравниться, пожалуй, только ученость Валерия Брюсова, да и то не всегда и не во всех сферах литературно-философских и гуманитарно-исторических знаний, где Д. С. Мережковский был настоящим энциклопедистом самой высокой марки, сделали его высококвалифицированным специалистом романсированных биографий и даже целых полос в истории культуры и в истории вообще. Приняв же во внимание его всегдашнюю склонность к символизму (он был вообще одним из величайших русских и мировых символистов), его большой литературно-эстетический дар и обладание очень характерным повествовательным приемом, который он удачно варьировал сообразно сюжету, – не приходится удивляться тому, что из него выработался первоклассный и острый эссеист-критик, немного в духе Реми де Гуромон (вообще повлиявшего в России, о чем еще ничего не было сказано), только гораздо глубже и талантливее его и без характерной галльской салонной болтливости.
Помимо В. В. Розанова, и другие понимавшие дело и проницательные люди указывали на совершенно особый и очень большой грех, специфический грех «духовно-эпикурейского» или, что еще хуже, снобического подхода к самым трудным и опасным, к самым рискованным темам философии, историософии и богословия, как вера-неверие. Бог-диавол, Христос-антихрист и др., – и все в порядке книжных антитез и сопоставлений, со включением революции и реакции, Достоевского и Толстого, Петра и Алексея, слогана – «Быти Петербургу пусту» и т. д. в этом духе. Ни Д. С. Мережковскому, ни З. H. Гиппиус долгое время в голову, по-видимому, не приходило, что такие темы отнюдь не литературно-эстетические игрушки для «Зеленой Лампы», а в высшей степени жуткие и ответственные темы, за которыми стоит судьба не только отдельного народа, но целых наций и государств, поколений и всего рода человеческого в вечности.
И только когда выяснилось (да и то отчасти) для обоих знаменитых супругов, что слову письменному и устному, и даже помышлению дана свершительная реализирующая и материирующая сила, что «о волке речь, а волк навстречь» и что не напрасно сказано Тютчевым:
О, бурь уснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!
– тон их стал по-настоящему трагический.
Подобно Тютчеву, Баратынский был тысячекратно прав, заклиная готовый разбушеваться и открыть бездну хаосмолчанием, как правы были Пифагор и отцы исихасты-молчальники, видевшие нечто невыносимо страшное в злоупотреблении словом.
…Молчу! Боялся я,
Чтоб пальцы падшие на струны
Не пробудили бы перуны,
В которых спит судьба моя.
И отрываясь полный муки
От музы ласковой ко мне,
Я говорю – до завтра, звуки,
Пусть день умолкнет в тишине.
И это по той таинственной причине, что
Любовь Камеи с враждой фортуны —
Одно.
В. В. Розанов усмотрел и некую роковую «неправду», и опасность в литературе… Этого не могли и, главное, не захотели понять З. H. Гиппиус и Д. С. Мережковский: отношение в них Камен и Фортуны было глубоко двусмысленным…
Я не хочу этим сказать, что супруги Мережковские и особенно сам Димитрий Сергеевич впадали в галльскую болтливость. Отнюдь нет! Да и «острый галльский смысл» и «сумрачный германский гений» порою знали, как обращаться со словом, не впадая ни в эстетство, ни в болтливость, ни в безответственное снобирование. Но, как правило, такое чистое отношение к слову встречается в высшей степени редко. И когда встречается, то это надо ценить и приветствовать, ибо сила такого отношения к слову равносильна силе молитвы.
Как нам уже не раз приходилось констатировать, центральные фигуры русского символизма, даже не враждебные религии, как-то далеко от ее подлинных корней и особенно от корней христианства. Частично это было связано с еще длившимися слепотой и глухотой типично интеллигентского типа, частично – с впадением в прелесть, но только не в области реального прохождения мистического пути, как это было у древних еретиков (Симона Мага, Манеса, Монтана, разных форм гностицизма и др.), но главным образом в области литературной, поэтически-артистической, метафизической и иной в этом роде. Здесь очень характерен именно для людей типа Д. С. Мережковского разрыв между фантазированиями головного и искусственного типа о наступающей религии Св. Духа, о «Третьем завете» – и настоящим, подлинным учением о Св. Духе таких гениальных отцов Церкви как преп. Симеон Новый Богослов и православных мыслителей как о. Павел Флоренский и о. Сергий Булгаков. И все же, ни этот детский лепет непроникшего в тайны патрологии, богословски незрелого ума, ни эти сухие и в то же время сентиментальные рассуждения интеллигента на совершенно новые темы не могут опорочить устремленный к будущему взор, склоненное для уловления шепотов вечности ухо, что, несомненно, было у Д. С. Мережковского и чем наделил Творец эту своеобразную натуру большого книжника – говорим на этот раз в похвальном смысле слова…
Теперь – несколько слов о его жизненном пути, прежде чем опять обратиться к его творчеству.
Отец Димитрия Сергеевича был дворцовым управляющим, он же сам всю жизнь прожил в С.-Петербурге, представляя типично столичное явление и притом явление имперской столицы. Она избавила его – как и Вл. Соловьева – от смехотворного безвкусного провинциализма интеллигентщины. Без столицы, без Петербурга не видать бы обоим света во всех смыслах этого слова.
Почувствовав, особенно в непосредственной близости своей блестящей супруги поэтессы и их brillant second – Философова, что поэзия – не по нем, Д. С. Мережковский ушел в эрудитную прозу, эссеизм и в критику. И это ему удалось!
За короткий промежуток времени 1896–1905 гг., т. е. всего только за 9 лет, он написал сделавшие его мгновенно знаменитым не только для России, но очень скоро и для Европы и всего мира, романы сложной трилогии, внутренне органически между собой связанные единством религиозно-историософского замысла. Здесь мы уже в астрономическом отдалении, как по темам, так и по выполнению, от какой бы то ни было радикальствующей интеллигентщины и в полном разгаре Русского Ренессанса. Для русской читающей публики, одичавшей на шестидесятничестве и на бытовом романе, это была настоящая революция, или, если угодно, – «контрреволюция» с точки зрения радикальщины, особенно коммунистического толка. Итак, трилогия Мережковского построена согласно следующему плану:
I часть – Христос и Антихрист. Этой теме посвящены два романа: Смерть богов – Юлиан Отступник.
II часть – Воскресшие боги. Этой теме посвящен один увесистый том, своего рода бессмертный перл: Леонардо да Винчи.
III часть – Антихрист. Это – грандиозная и грозная эпопея новой русской истории – Петр и Алексей.
Через всю трилогию проходит в разных ракурсах и вариациях одна и та же тема, более или менее легко улавливаемая. Это, в сущности, монотема, роднящая Мережковского с В. В. Розановым, хотя Розанов в чисто литературном смысле гораздо индивидуальнее и острее. Мережковский – просто отличный писатель и сверх того ученый эрудит, добивающийся нужных ему эффектов путем изучения данной темы и ее тщательной проработки и разработки. Конечно, нередко он достигает и очень больших, чисто художественных эффектов. Но своего языка, от альфы до омеги своего, у него нет, или его очень мало и притом нехарактерного, в то время как у Розанова, постоянного участника собраний, организованных супругами Мережковскими, очень его ценившими, – все было свое до последней запятой… У Д. С. Мережковского – великолепный литературно отделанный и до максимума «культурный» язык, чрезвычайно приятно читающийся, но которому не трудно подражать. У Розанова – глубоко личное явление, совершенно неповторимое и неподражаемое, как цвет глаз, форма носа или тембр голоса. По этой причине хорошему складу романсированной биографии в порядке литературной отделки у Мережковского, да и у З. Гиппиус, можно и даже должно учиться. Розанова же не может повторить даже такой его верный и талантливый ученик, как Виктор Шкловский. Но зато между темами, не всеми, конечно, но магистральными, у В. В. Розанова и Д. С. Мережковского – особенно в «Трилогии» – есть удивительные так сказать «параллелизмы», а то и совпадения, очень характерные для переживаемой эпохи, особенно в связи с кризисом культуры и Церкви, в связи со всем тем, что «выплыло» на дебатах Второго Ватиканского Собора, и по поводу этих дебатов. Вопрос ведь идет вот о чем: имевшие уши слышать – не услышали, мало того, отвратили свои уши и не захотели слушать как раз те, кому о том особенно ведать надлежало. И это – все тот же вечный роковой вопрос о причинах «неудачи христианства» и об ответственности за эту «неудачу». Ведь христианство – тема богочеловеческая, не в книжно-школьном (схоластическом) смысле, но в смысле жизненно насущном: или люди независимо от внешней конфессии возьмутся всерьез осуществлять идею Христову, или человечество исчезнет с лица земли и, вообще, пропадет в космосе.
Драгоценно у Д. С. Мережковского и в его собраниях, где блистали Розанов и Тернавцев, святое беспокойство по поводу того, что надвигалось на мир. Это Н. А. Бердяев выразил как выполнение силами зла того, чего не хотели выполнить силы добра, по этой самой причине оказавшиеся под угрозой извержения во тьму кромешную. Незаметным образом этими мотивами оказались буквально переполнены страницы трилогии Д. С. Мережковского. Но тайный голос о тайной угрозе, о которой мы только что сказали и что услышал некогда один Достоевский, а потом в своем погибшем толковании на Апокалипсис В. А. Тернавцев и В. В. Розанов (особенно в «Апокалипсисе нашего времени»), кажется, не был вполне понят и услышан самим автором трилогии, на страницах которой этот голос запечатлелся. Конечно, совершенно прав С. Л. Франк, говоря, что в этой великой трилогии, до сих пор вполне сохранившей свежесть и жгучий интерес, показана борьба между языческим и христианским религиозным идеалом, между «религией плоти» и чувственной красоты и аскетической «религией духа». Все это так. Но это не то, что видел в своих произведениях сам их автор. Впрочем, нередко «дети» (произведения) далеко перерастают по своему значению и по способности говорить «неизреченными глаголами» своих отцов-авторов…
Прав С. Л. Франк и когда отмечает, что в дальнейших своих произведениях, под влиянием революционного брожения 1905 г., Д. С. Мережковский начал проповедовать «новое религиозное сознание» – апокалипсическую «религию Св. Духа», в большевистской же революции 1917 г. усмотрел признак «грядущего Антихриста». Интересно здесь отметить, что в ту же эпоху первой революции 1905 г. и между двумя революциями Н. А. Бердяев пишет свое блестящее «Новое религиозное сознание» (СПб., 1907), улавливая несомые благодатию Св. Духа, почти никем не замечаемые лучи Света невечернего, что в еще большей степени улавливали о. Павел Флоренский (см. «Столп и утверждение истины», письмо пятое «Утешитель»), а за ним и о. Сергий Булгаков (тогда еще светский профессор). Но как пророчески верно вещал гений о. Павла Флоренского, характерное свойство Третьей ипостаси – это производить разрывы и катастрофы благодатного порядка в мире, где действует естественная непрерывность, те разрывы и сверхмутации (или «метамутации»), радикальные перемены, которые мы теперь именуем явлениями святости и чудесами, а также обожением, что мы едва улавливаем и для чего нет ни слов, ни звуков. Это некогда явится как невечерний день Господень, один намек на который наполняет наши сердца несказанной сверхэротической сладостью, ибо это есть брачная вечеря Агнца, переход обручения в брак, реализация евхаристических объектов и пасхальной радости.
Именно в намеках на это – главная заслуга Трилогии Д. С. Мережковского и других его произведений – и в еще большей степени «Столпа и утверждения истины» и некоторых софиологических произведений о. Сергия Булгакова. Все эти люди жили и духовно питались исихастическим богословием и лучами несозданного Фаворского света, излучавшегося Преподобным Серафимом, типичным эсхатологическим и пневматологическим святым, наделенным к тому же всеобъемлющим пророческим даром…
Но для Мережковского, как и для всей почти интеллигенции, быть может, свет этот был невыносимо ярок. Ибо есть и невыносимая и нестерпимая красота. Несомненно, эта красота Своим явлением убьет мерзостное безобразие сатаны и аггелов его, а избранных спасет.
Да, «красота спасет мир». Блажен Достоевский, которому дано было узреть это и изречь это.
И мы здесь на этих страницах не можем не ублажить память Д. С. Мережковского, которому дано было сквозь радикально-интеллигентский мусор узреть и исповедать и в меру сил изложить нечто верное. И опять повторим: «Дух дышит, где хочет».
Это и есть сияние центрального солнца в творческом деле Д. С. Мережковского, деле не малом. Прочее же – сателлиты.
Однако и среди этих «сателлитов» мы усматриваем очень крупные достижения, без которых Д. С. Мережковский не только не был бы тем, чем он стал, но сам русский Ренессанс выглядел бы в очень ущербленном виде. Сюда надо прежде всего отнести очерки, посвященные Гоголю («Гоголь и черт») – перл своего рода, такой же крупный, как и очерк, посвященный тому же писателю Валерием Брюсовым («Испепеленный»). Ведь вся левацкая критика, до коммунистической включительно, по сей день показывает свою бездарность и пошлость именно на теме Гоголя.
Другой перл критического эссеизма, оставленный Д. С. Мережковским в назидание тем, кто хотел бы научиться писать настоящую литературную критику, это – блестящий сборник «Вечные спутники». Можно смело сказать, что только благодаря Московскому Художественному театру и книге Д. С. Мережковского русская читающая и пишущая публика получила представление о том, что такое литературно-театральный символизм. Да и не только русская: не забудем, что Запад имеет свою «великую клоаку» – достаточно напомнить отношение Георга Брандеса к Ибсену и Шекспиру.
Годы 1906, 1907, 1908 и далее были у Д. С. особенно плодотворными в смысле критики и эссеизма. За это время появились работы о Толстом, Достоевском («Достоевский – пророк русской революции» – блестящий этюд, мало чем уступающий этюду «Гоголь и черт») и по-настоящему пророческая книга «Грядущий хам». Впрочем, такие блестящие работы, как «Вечные спутники» (1897) и «Религия Толстого и Достоевского» (1902), появились уже одновременно с «Трилогией» и одновременно с нею писались. Плодовитость поразительная, – особенно если принять во внимание качество, творческую новизну и все то необыкновенное для своего времени, свежее еще и для нашей эпохи, что явил Д. С. Мережковский. Таково было чудо, связанное с отходом от интеллигентщины.
Пророчество Д. С. Мережковского о Грядущем Хаме и о коммунизме в России как царстве Антихриста (1919, год эмигрирования супругов Мережковских и Философова) вполне удалось именно по причине разрыва с интеллигентским прошлым, которое помешало Мережковскому в молодые годы стать тем, чем он был и по своему громадному дару, и по призванию. Ибо Хам и Антихрист не только омерзительно уродливы, но и бездарны.
Вот что с необычайной чувствительностью, возвышающей над «классовостью» и «партийностью» (мещанство революционеров и революционность мещанства), уловил Д. С. Мережковский в «Грядущем Хаме» до «октября» и в «Антихристе» – после октября, уже совершенно в порядке гневного пафоса такого пророка нашего времени, как Леон Блуа.
Д. С. Мережковского скорее всего придется признать более или менее приближавшимся к Церкви гностическим мыслителем о религии. Это видно из «Иисуса Неизвестного» и из «Тайны трех» (вещей очень эрудитных, великолепно написанных и читающихся с упоением). Из всего этого внутренне-духовного конфликта можно только сделать пока один вывод: тема святости, ее сущность, подлинно церковное христианство находятся на такой высоте и глубине, до которой недохватывают мерки какого бы то ни было академизма – ученого или артистического, даже самого свободного мыслительства и самого свободного артистизма.
Впрочем, Мережковский, что называется, «свободный артист», свободный мыслитель и никому, кроме Господа Бога, не обязан давать отчета ни в своих мыслях, ни в своих действиях – разве только по линии академических знаний и артистического совершенства. А в этом направлении дела его обстоят блестяще.
Единственное, по поводу чего история может потребовать отчета у самого Д. С. Мережковского и у его супруги, это их не то что терпимость, но даже благосклонность в отношении к «светлым личностям», пошлость и бездарность которых им должна была быть ясной более, чем кому-нибудь другому, ибо речь идет именно об элитном писательстве и утонченном эссеизме, где такого рода промахи и попустительское молчание вовсе недопустимы.
Однако здесь виновна была Зинаида Гиппиус больше, чем Д. С. Мережковский, что видно уже из ее полемики с Александром Блоком против Аполлона Григорьева и Фета за Белинского, где прославленная поэтесса отлично знала, что делала: она ведь поступала согласно интеллигентскому символу веры, продолжая на людях носить интеллигентский мундир.
В обряд крещения, существующий в Православной Церкви, входит отречение от сатаны и всех дел его, дуновение на «проклятейшего» и плевок на него. Психологически и, еще более, пневматологически, то есть в плане чисто духовном, это вполне понятно и диаволом заслужено: ведь и сам дух тьмы есть самое полное и окончательное отвержение духа любви, составляющего внутреннее Существо Божие, то есть хулу на Духа Святого, хулу, которая по слову Господа не прощается ни в этом веке, ни в будущем.
Почему же, милые Димитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна, вам, большим мастерам мыслеобразов и художества, было легче плюнуть в Столыпина, стремившегося избавить Россию от такой язвы, как община, чем в Михайловского или Писарева, из которых один совершенно откровенно прославлял серость и скудость, а другой скудоумие и уродство? Почему? Вам было много дано – с вас многое и взыскивается. Впрочем, не только с вас – и это в ваше оправдание. Нельзя слишком сурово судить почившего писателя и его яркую супругу. В начале их деятельности на заре русского Ренессанса такое восстание было просто невозможно, ибо пишущая и читающая Россия за редким исключением предалась бессмыслице, безвкусице и злодейским умыслам против своей родины, да и против всего самого ценного, чем оправдан и украшен человек, словом, была полна хулы на Святого Духа.
Страшно сказать? Да, невыносимо страшно… «Дивись, мой сын, могуществу беса», – будем мы еще не раз повторять эти жуткие слова из гоголевского «Портрета».
У людей даже такого калибра, как Вл. Соловьев, супруги Мережковские, Бердяев, Булгаков и др., руки были связаны, языки и мысли заколдованы, «как в страшном непонятном сне», – говоря языком Пушкина. Легко было говорить о «параличе русской Церкви» со времени Петра Великого, тем более, что здесь была своя частичная правда. Но сказать что-либо в этом духе о русской революционно-радикальной интеллигенции было совершенно невозможно: мысли были усыплены кошмарами, язык был в смоле, руки – в свинцовых перчатках. Так было и с супругами Мережковскими, и поделать они ничего не могли. А разве не то же случилось и с властью? И взят был удерживающий…
Вполне «расколдовались» Мережковские от действия смрадных испарений «великой клоаки» лишь в год их эмиграции, то есть в 1919 году. Да и то – совсем ли? «Плоды» были ими выброшены окончательно и безоговорочно. А «цветочки» и «корешки»? Судя по последним произведениям Д. С. Мережковского – дошло и до этого (слава Богу). Но с каким трудом совершалось это очищение…
А между тем стоит прочесть некоторые места из книги «Религия Толстого и Достоевского», чтобы сразу же убедиться в том, что философ, или, лучше, метафизик русской литературы Д. С. Мережковский стоит так высоко, как в этой специальности до него еще никто не стоял и где он, далеко обогнав Вл. Соловьева, по сей день – великий учитель.
Речь идет о кризисе исторического христианства, давно уже – может быть, с первых веков – подготовлявшемся манихейством, монтанизмом и монофизитством, – т. е. ложным спиритуализмом и обскурантизмом на почве этого псевдоспиритуализма. И не трудно понять, что тут у Мережковского общая тема с Розановым. В сущности, на этой труднейшей диалектике духа и плоти застрял и Второй Ватиканский Собор, не догадавшись, о чем, собственно, идет речь. И сам собой напрашивается вывод в том смысле, что стоило только талантливому русскому писателю и мыслителю-метафизику отойти от «светлых личностей», как немедленно мысль его достигает таких высот и глубин, что он превращается в учителя, которому многокультурный и многоученый Запад может только внимать, да и то с поправкой на недопонятую глубину русского учителя.
Достаточно написать «Тайну Трех» или «Атлантиду» или «Гоголь и черт» – это и будет панацеей против «клоаки»… И мы прославляем здесь Д. С. Мережковского как творца или одного из крупнейших творцов этой панацеи. Он в конце концов «оставил младенческое» (в дурном значении недомыслия, что приводит к мелкой бесовщине), сделался «взрослым» (в хорошем, «павловом» смысле) и стал за Бога против безбожия, за Христа против антихриста, за свободу против рабства, одесную Сына человеческого против стоящих ошую, против левого князя бесовского. Это символ, кстати сказать, старый как мир, и потому, несомненно, и выбранный Самим Сыном Человеческим. И в великом кризисе, поразившем и Церковь, о котором говорит св. ап. Павел, Д. С. Мережковский, своим свободным решением, занял место с духоносным сиянием против бездушной бездуховной тьмы, с преп. Серафимом против богомерзких Фотия и Нифонта, серный дух которых и по сей день иные готовы считать веянием Св. Духа.