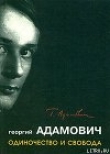Текст книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 69 страниц)
От неожиданности и непривычки к такому Савинкову – мы не сумели сразу замолчать, а пытались еще спорить. За годы мы знали другого Савинкова; я его никогда не боялась, но мне подумалось, что тут случайное недоразумение, а что потом он «все поймет».
Удивленный Д. С. вечером не знал, что и сказать. А на другой день Дима рассказывал: «Борис мне „рыдал в жилет“ (т. е. жаловался), вы его экзамену подвергали, и экзамена он, будто, не выдержал».
Странно было и с Димой говорить.
Через несколько дней – еще свиданье, днем, у нас. Глупый какой-то разговор, опять жалобы на «экзамен». Тут уж я рассердилась и заявила:
– Все это вздор. Однако, сколько я ни думаю о вас, – Россия для меня первая. И если я хочу верить, что вы будете некто для России, может быть, я имею право смотреть, судить и узнавать вас.
На это он сказал, уже гораздо тише: «Как вы резки», – и только.
Комнатные столкновенья ничего пока не меняли: я продолжала работать и в газете, и делать что возможно в «конторе пропаганды», на Краковской, где жил Володя. Но меня очень глубоко заботил Д. С. Ни к какой такой работе он не был приспособлен и чувствовал свою растущую бесполезность в данных условиях. Очень поэтому томился на нашем пыльном припеке, – жара стояла неистовая. Так как я хотела оставаться с «ними» (с Д. Ф. и Савинковым) до последней возможности, терпя все и стараясь что-то делать, – то мне с утра приходилось мучиться, придумывать, как успокоить Дмитрия, что ему обещать, чтобы не стремился он куда-нибудь прочь. Утром я возилась с редактированьем рукописей, телеграмм, а днем ехали мы с Д. С. в Лазенки, чтобы он там немножко подышал. Потом, вечером, я ехала в редакцию (чаще бесполезно). В промежутках писала статьи для «Свободы».
Польские дела делались все серьезнее. Была объявлена еще одна мобилизация. С песнями шли мимо нашего балкона новобранцы, совсем мальчики, но это было и грустно – и радостно: ведь они идут бороться не с Россией: идут «за свою и нашу вольность».
Не могу определить, когда в эту «марсельезу» стал ввиваться (как у Достоевского в «Бесах») подленький мотивчик «mein lieber Augustin» – мотивчик о перемирии и мире с большевиками. Но если б я понимала всю тогдашнюю польскую ситуацию, их партийную борьбу, – главное, подталкиванья Англии, – стоит ли писать? Факт, что мотивчик день ото дня рос и креп. Поляки, наши, кричали, что ничего этого не будет, да ни за что в жизни! И Пилсудский, мол, против мира, да и как можно! Не то было среди крайних правых и крайних левых…
Я забыла сказать, что уже давно приехала в Варшаву и жена Деренталя, та самая Aimée, дочь Брута, о которой Савинков мне рассказывал. Одна из «до гроба преданной ему семьи», как он говорил. Он перешел в Брюл в другое помещение, а свою комнату отдал ей. Сделав нам визит, Aimée пригласила нас к себе чай пить. Было любопытно, как преобразилась комната (где мы с ним «заседали» в первые дни его приезда): розовые капоты, пахнет духами, много цветов. Она – с крупными чертами лица, довольно на грубый вкус, красивая, яркая, кокоточная, сделана для оголения, картавит. Деренталь сообщил Д. Ф.: моя жена очень умеет обращаться с Борисом Викторовичем, если что-нибудь – надо к ней… (Мы, конечно, все поняли, было – не трудно.)
Кстати: насчет Деренталя я не все понимала, до одного случая. Раз, еще в начале, пришел Деренталь и стал прибедняться: вот, мол, ему теперь в Латвию и в Эстонию, для тамошнего формированья, Б. В. посылает. И непременно завтра. На послезавтра у меня есть билет, но Б. В. требует завтра, и я должен в багажном вагоне…
Вечером я видела Савинкова и между прочим, полушутя, сказала – почему это он так жесток, не позволяет Деренталю лишний день остаться. И (это было первое мое удивленье) – Савинков внезапно осатанел: как!.. Деренталь смеет рассуждать? Смеет жаловаться?! Да он на буфере поедет, если ему приказывают!! И т. д. Тут я поняла окончательно и бесповоротно, что Деренталь для Савинкова – собака.
И что ему нужны только собаки. Впрочем, это последнее я поняла немного позже.
Пишу все эти мелочи для характеристики «человека». Громадность драм «людей» не уменьшает важности драмы «человека». (Никто этого не понимает.) Кроме того, не всякой собаке можно доверяться: смирна-смирна, а исподтишка вдруг может и хватить.
Савинков заезжал к нам все реже. Обыкновенно с этой самой Aimée (Деренталь уехал гораздо раньше ее приезда). В Брюле жил теперь и Буланов, – он был на должности казначея и хранил польские миллионы у себя под кроватью.
Надо сказать два слова о Врангеле.
Впрочем, что говорить о Врангеле? Мы в него, благодаря доходившим до нас сведениям и его воззваниям, не верили, особенно же печально было то, что он стоял против всякого дела из Польши, смотрел на все здешнее и всех, как на врагов. Ошибался он в поляках или нет, это была тактическая ошибка. У Врангеля имелось бы куда больше шансов на успех, заключи он – хоть не союз, но хоть в блок войди он с окружными государствами. В тот момент это было фактически возможно, но на это не хватило ни выдержки, ни размаха.
Отношение же Савинкова к Врангелю было какое-то непонятное. Да сказать по правде – весь он мне все менее становился понятным; не говорю – менее приятным, это могло бы быть личным впечатленьем, – но именно непонятным. В памяти даже всплыло старое туманное пятно, оставшееся после «дела Корнилова». Почему он тогда, после явной борьбы с Керенским за Корнилова (за К. К. С.), после всего, что было на наших глазах, почти в нашей квартире, – вдруг сделался на три дня «усмирителем корниловского бунта»? После трех дней Керенский его изгнал. Зачем это было, для чего и почему? Что он думал, на что надеялся? Объяснить этого всего он и тогда не мог, но затереть вопрос сумел. Теперь я это непроизвольно вспомнила. Да, работать с ними вместе нельзя, нам с Д. С., по крайней мере. Объективно – я перестаю верить в успех дела именно с Савинковым, благодаря многим его свойствам, ускользавшим из поля моего зрения. Одно из них, наиболее еще безобидное, это что людей он не различает, не видит, кто для чего нужен и нужен ли. Не могу же я вообразить слепого Наполеона! А претензии его безграничны.
И, однако, я решаю, со своей стороны, сделать все, чтобы не отходить до конца, до последней возможности. Во-первых – Дима. Не то что я бы осталась ради него в глупом деле ненужного человека, но если выяснится именно так – я надеялась, что мы уйдем вместе с ним.
Когда же все стало окончательно невозможным?
Полная (наша с Д. С.) пустота и безделье. А тут еще событие: большевики полезли в наступленье. Наш, русский, отряд был в полной неготовности, и, насколько я понимала, из-за внутренних дрязг, чепухи и общего неуменья. Закулисную сторону я знала немного и видела, что Савинков – организатор плохенький и сам по себе, а тут еще и личные его претензии людей не собирают, а разъединяют.
Д. С. томился: «Знаешь, уедем хоть на десять дней куда-нибудь, недели через две… Ведь нам буквально нечего делать». Пришел Дима. Д. С. к нему: «Знаешь, недели через две…» Д. Ф. прервал: «Не через две недели, а сейчас уезжайте. Тут пошло такое, что лучше уехать, пока выяснится. Только из Польши не уезжайте», – прибавил он вдруг.
И мы уехали в Данциг. Проезжали этот нелепый (по-моему – роковой) «коридор», где поляки держали себя и на станциях, и в поезде, с совершенно ненужной наглостью, как победители, дорвавшиеся до своей добычи. А Данциг, как бы его ни перекрещивали, оставался городом немецким, и видно было, что тут уж ничего не поделаешь.
Все время ходили радостные (для немцев) слухи о взятии Варшавы. Они, однако, оказались ложными, большевики были разбиты в семи верстах от Варшавы. Знаменитое «чудо на Висле». После этого самого «чуда» большевики стали сговорчивее, и вскоре перемирие (не без скандалов и всяких издевательств) было подписано в Минске. Почему Польша так настойчиво, почти унизительно, стремилась к миру с большевиками – загадка. И так давно! Натиск обыдиотевшей Европы – единственное объясненье Ллойд-Джордж (чтобы «торговать с каннибалами») и т. д., и т. п.
Так как все «успокоилось», мы решили вернуться в Варшаву, посмотреть… Была ли у меня надежда? На что? Конечно, нет. Буквально ни на что больше, ни даже надежды выцарапать Д. Ф. из ямы. Но я хотела еще и опять добросовестно посмотреть на реальность.
В наше отсутствие – мы знали от Буланова – Дима ездил в «наши» лагери, к «неготовым» отрядам. Там продолжались безобразия, Глазенап уже исчез, другие, какие были, тоже, появились совсем новые «генералы» (вроде молодого Пермикина). Дима ругался там в тонах Савинкова (где был Савинков – не знаю), а Деренталь жестоко пьянствовал.
Мы – я, Д. С. и Володя – вернулись в Варшаву в начале сентября. Это наш третий варшавский период, последний и самый несчастный.
Приехали с вокзала прямо на Хмельную, где у Д. Ф. была не то редакция, не то шли какие-то заседанья. Опять, должно быть, тайные, ибо едва мы вошли – Д. Ф. вскочил из-за стола нам навстречу и вывел нас из комнаты.
Мы были бесприютны. Ни Френкелей, ни даже «Краковской». С муками устроились в гостинице «Виктория», такой невероятно грязной, что написать – сам не поверишь. Темноватая комната, кровати за ширмой. В первом этаже вместо окна – дверь на балконе, старая, незатворяющаяся. В щелях и на асфальтовом полу стояла после дождей лужа, которую вычерпывали. А затем нас однажды ночью через балкон обокрали.
Почти и не стоит описывать эти наши последние полтора месяца в Варшаве. Просто дам краткую суть. Ведь уже все было кончено.
С величайшей строгостью я задала себе вопрос относительно Савинкова. Я не хотела, и перед собой, хотя бы втайне, чего-нибудь необъективного. Я требовала справедливости. Ничто мое пусть не вливается в мой суд. Если в чем-нибудь виновата я или Д. С., – не скрою от себя.
Разве трудно поддаться таким чувствам: мы, главные зачинщики всего, – оказались не у дел. Со мной один момент Савинков вел себя глупо. А главное, главное – он разделил нас с Д. Ф., совершенно взяв его под свое влияние. Значит, мол, С. не хорош… Вот этого я и не хотела. Вот такого суда над Савинковым. Я добивалась самого справедливого взгляда на него даже не как на человека (это само собой), но на пригодность его в данный момент для дела России.
И я видела, что он ни в данный момент, ни вообще – для дела этого не пригоден.
ЭМИГРАЦИЯ. 1920–1941Мне особенно трудно писать об этих годах жизни Д. С. и нашей, потому что я как раз в это время никакой последовательной записи не вела, кроме отрывочной, в первые месяцы после нашего приезда в Париж. Но мне помогут работы Д. С., сохранившиеся оттиски его даже мелких газетных статей, моя память и, наконец, неуклонная прямизна линии, которую вел Д. С. как в своих писаниях, в публичных выступлениях, так и в жизни. Ею, этой линией, определялись наши схождения и расхождения с теми или другими людьми, она же была подчас причиной все растущей тяжести этой нашей изгнаннической жизни.
Польский удар, крушение наших первых надежд, потеря главного помощника и друга, – все это не могло не произвести впечатления на Д. С. Но перенес он неудачу нашу мужественнее, чем я, и с сохранившимися надеждами смотрел вперед. Свое малодушие я не хочу оправдывать, но отчасти оно объяснимо: в Польше я могла принимать участие в общем деле, привыкла к постоянной работе (у меня даже был целый отдел пропаганды) постоянно, изо дня в день, писала в нами основанной газете «Свобода». Во всяком случае, при том ощущении «пламенного долга» для всякого помогать борьбе с большевиками, с каким мы бежали, я все-таки что-то делала. Теперь же, в Париже, деланье целиком ложилось на плечи одного Д. С. Помимо своих собственных работ, он мог выступать публично, мог писать во французских газетах. Есть ли там, и какая, русская пресса, – мы не знали. Но «нашей» газеты нет, и я предчувствовала, что мне там просто нечего будет делать, и даже помогать Д. С. я не видела, как могу? К этому прибавлялась вечная мысль об оставшихся в аду моих близких, да и тревога за покинувшего нас друга и помощника, Д. Ф., который попал в глупые (это уже я знала) и опасные лапы Савинкова. Надежду Д. С., что друг наш скоро сам рассмотрит Савинкова и вернется к нам, я не разделяла, – признаюсь, считала ее даже невниманием со стороны Д. С., к характеру и свойствам Д. Ф. Не разделяла и надежд его встретить помощников и серьезных хотя бы сочувственников делу нашему среди русских, новых или старых, эмигрантов. Достаточно слышали мы о новых, а старые… Бунаков с женой уже давно убежали из России – в Париж, конечно. Но и его теперь мы уже знали достаточно. И его партию (эсеров), ее сегодняшний состав, который он нам определил сам же, – «все такие, как негодяй Чернов», – и где он был, в лучшем случае, как бы пленником. Мы именно так хотели о нем думать, зная его неумную слабость и мягкость. Он все-таки казался нам человеком… симпатичным, но – какие же можно было возлагать на него надежды!
Он писал нам в Варшаву, что наша старая парижская квартира цела благодаря заботам о ней прежней нашей горничной. Она служила у нас еще в те годы, когда жили мы на Théophil Gautier, вышла замуж, но, когда мы приезжали потом на нашу pied à terre в Passy, неизменно к нам возвращалась, до последнего раза, весной 14 года. Во время войны я деньги за квартиру еще посылала (квартира, по условию между нами, была моя), – но со дня революции пересылка была невозможна. Бунаков писал, что раз квартира сохранилась, мы должны за нее держаться, ввиду кризиса помещений. Это была, конечно, удача: ведь там оставалось много книг, разные бумаги, записи, письма… Но как все-таки больно и страшно было в нее въезжать теперь, когда все было иное и мы сами – иные, ведь мы эмигранты… Да и никогда не любила я эту квартиру, предчувственно, может быть.
Впрочем, не стоит останавливаться на мелочах, как ни неприятно это ощущение перекошенности окружающего: как было – и совсем не то.
Мои мрачные настроения и предвидения я скрывала, конечно, от Д. С., не желая нарушать бодрость его духа перед новой задачей. Да и было тут, кроме того, много моего личного, меня касающегося. Если я не видела, что буду делать я, – перед ним было много работы. Мне даже хотелось, чтобы Польша стала для него совсем как отрезанный ломоть, чтобы и откликов оттуда к нему не доходило. Это оказалось невозможным ни в первые дни нашего Парижа, ни в первые месяцы (острое время, паденье Врангеля), ни, пожалуй, целый еще год… когда, после перерыва, произошла, в 23-м году, эта отвратительная катастрофа с Савинковым. Меня с Д. С., а как задела Д. Ф. Но к нам его не возвратила. Слишком поздно… О ней я расскажу в свое время. Теперь, чтобы исчерпать первые отклики Польши, приведу несколько кратких моих парижских записей конца 20 г., может быть 21–22, – я бросила потом записывать что-либо.
Париж, 14 ноября (1920)
Врангель весь провалился. Большевики прорвались в Крым, все хлынуло на пароходы, сам Врангель будто бы уже в Константинополе. Чего и следовало ожидать. Но вот что любопытно… как трагический фарс: вчера бедная Евг. Ив. (жена Савинкова) приносила два письма от него, будто бы из-под Пинска. В обоих самое бодрое настроенье: «…Я уверен, что мы дойдем до Москвы…» «Крестьяне знают, что мы идем за Россию не царскую и барскую…» «В окрестных деревнях три тысячи записались добровольцами…» «А „Рангель“ (по выговору крестьян) непременно провалится…» Кроме последнего – ото всего несет захолустной глупостью. Это Савинков с мадам Деренталь и с разбойником Балаховичем «дойдут до Москвы!» Может, и «дойдут»… или доведут их. Что может быть другое? Не так, и не такой смехотворный отряд дойдет до Москвы. У большевиков армия, пушки… За них – Англия… Франция еще как будто против… но «как будто», да и что она может? Погрязает в абсурдах: признает Врангеля – и поощряет польский мир. Большевики и не скрывали, что мир с Польшей их устраивает, – надо покончить с Врангелем.
Ну, дойдет очередь до Польши! Продала себя – даже не за золото, а за большевистские и английские золотые обещанья.
Нет, довольно. Пусть теперь соединяется с большевиками Ллойд-Джордж, пусть их признают, пусть они расползутся по всей Европе, пусть! Пусть! Они «научат Европу уму-разуму», как только что объявил Троцкий. А под конец проучат они и всех своих союзников самих…
16 ноября
Всесметающая лавина большевиков под личным командованьем Троцкого (главнокомандующий товарищ Бронштейн) уже в Севастополе. Это лишь первая реализация варшавской дряни (мира) в Риге.
Д. Ф. не пишет ни строки. Ждет вестей от м-м Деренталь и Савинкова из Москвы? Я ему писала, и здесь скажу, что знаю и с чего мы с Д. С. не возвратимся. Наша прямая, почти грубая линия пониманья, которую мы вывезли «оттуда», проста и – непреодолима. Мы знаем, что свергнуть большевиков можно (и даже не трудно) только: 1) вооруженной борьбой серьезной армии с лозунгами новой России (не с лозунгами одних «не», как у Савинкова), 2) при непременном условии участия и опоры на регулярную армию другого самостоятельного воюющего государства.
Вот – и больше ничего. Остальное детали, отсюда вытекающие. Знали мы также, что все данные южные наступления бесплодны. От этого знания и пошла вся наша Польша, и все, все… От этого же знанья мы не сомневались, что большевики лопнут при первом ударе Польши. Это и случилось в семи верстах от Варшавы… Так называемое «чудо на Висле». Чему удивляться бы, как «чуду», – это униженным, после того, просьбам Польши мира у большевиков. Одно объясненье: приказ Европы. И Польша не смела ослушаться. Ну, ладно. Время-то идет. Как бы его – для себя – Европа не пропустила…
25 ноября
Письмо от Д. Ф. (через Petit), начинающееся так: «Сегодня написал Борису (Сав.), категорически требуя приезда. Мне кажется, ему нужно поехать в Париж, ударить кулаком по столу и взять, наконец, в свои руки несчастный русский флаг…» (!) Вот свидетельство, что Дима (Д. Ф.) абсолютно не понимает степени непопулярности здесь Савинкова. Он, если у него кто и был, успел всех от себя оттолкнуть. Недаром я еще в Польше писала: «Наверно, он, приехав, уже сжег за собой корабли, даже шлюпки. Никого, боюсь, за ним в Париже нет». А Дима и о сю пору ничего не понимает. Пишет еще, что «положение невероятно трудное. Пилсудского травят… А он – прибавляет Дима – „в мир не верит, но войны вести не может“». (Не приказано? – думала я.) «Нахохлившийся больной орел», – по словам Димы. Не пишет, однако, о том, что мы узнали сегодня: украинцев бьют, а за Балаховича большевики принялись вплотную, остатки его накануне ликвидации. Вот тебе и Москва! Англия – накануне «признания», поэтому, думается, на Польшу сейчас они не полезут.
17 декабря
На днях приехал сюда посланцем от Савинкова его подручный Дима (Д. Ф.). Как странно мне это писать! Неужели и Дима «оборотень»? Савинкова мы еще могли не сразу понять, он, может, и не оборотень, а всегда был таким… пустым местом. Дмитрий за него боролся, за такого, каким всегда видел (и до сих пор, считая его соединение с Савинковым временным несчастием!). Значит, он был собой, не тем, каким обернулся, когда «инкрустировался в Савинкова». Не могли же мы не знать человека после 15-ти лет совместной жизни! «Мне не нужны помощники, – сказал однажды Савинков, при мне, Д. С., в Варшаве, – мне нужны исполнители!» Это было так глупо (ведь даже и думая это – глупо говорить!), что мы промолчали. И вот Дима поступил в «исполнители», – и чьих приказов? Ослеп и сделался «оборотнем».
Живет он где-то в гостинице, приходит к нам изредка. Рассказывает мало, мы знаем только, что дело, за которым он приехал, – достать денег для интернированного в Польше отряда Савинкова – Балаховича («Я уверен, что мы дойдем до Москвы!»). Это дело удалось.
Вчера Дима не был даже на первой лекции Д. С. в Galle Danton. Много народу, слушали внимательно. Лекция, конечно, по-французски. (Потом она вошла первой статьей в книгу Д. С. «Царство Антихриста», под заглавием «Европа и Россия».)
На днях «посланец» Савинкова уезжает обратно в Варшаву. С проклятиями. «Неблагословенность наших дней…» Еще бы! А что будет дальше!
Отсюда я начинаю просто рассказ о нашей эмигрантской жизни, записи мои, с откликами о Польше, прекращаются. В дальнейших, тоже отрывочных и кратких, кое-что о Варшаве и варшавянах отмечено, и даже весьма немаловажное, но все это я введу в рассказ. Манерой дневника передавать не буду.
В Париже мы встретили немало старых знакомцев русских, немало и новых. Некоторых «новых» эмигрантов, даже писателей, особенно москвичей, мы лично не знали в России, или видели мельком, – Зайцева, например, или Куприна и Шмелева. А с таким большим писателем, как Бунин, мы до Парижа не были знакомы лично вовсе. Был тут и не виденный нами раньше Милюков (Д. Ф., как близкий сотрудник газеты «Речь», знал его в Петербурге хорошо). Он еще не сделался тогда владельцем недоброй памяти «Последних новостей», но газета уже выходила: ею заведовал Гольдштейн, адвокат, защищавший когда-то Д. С. на его суде за «Павла I». Оказалась тут и еще одна русская газета, «Общее дело», сразу пришедшаяся Д. С. больше по вкусу. Редактором был старо-новый, или ново-старый, эмигрант, всем известный Бурцев, всю жизнь ловивший провокаторов и шпионов, разоблачивший в свое время Азефа, попробовавший всех, кажется, тюрем сам: от каторжной тюрьмы в Лондоне – до Петропавловской крепости в Петербурге, при большевиках. К большевикам он был «непримирим», а потому газетные статьи свои начал писать Д. С. в «Общем деле» (как и я).
Но не для газетных же статей так стремился Д. С. в Европу. Статьи – дело попутное. Я поистине удивлялась заряду его энергии в это время в Париже. Все люди, казалось ему, на что-то самое нужное нужны, причем он верил, что не могут они не быть вместе, не чувствовать правды, которую чувствует он: слишком она явная, бесспорная. Он начинал понимать, что европейцы, французы, не так-то скоро и легко уразумеют, что такое большевизм. Но в русских не сомневался. Да, сказать по правде, в ту далекую осень 20-го года все эмигрантское общество – старшее поколение – внешне представляло картину большой общности, как бы сплоченности против одного и того же врага. Постоянно, почти повсюду, все встречались. Существовали уже какие-то неопределенные кружки и общества, а Д. С. еще затеял у нас какое-то сообщество на религиозных основах. Но в обычном (или даже необычном) увлечении своем собрал вместе людей, по существу для этого неподходящих, почему из затеи ничего и не вышло. В то же время, отчасти благодаря его блестящим публичным выступлениям, отчасти потому что имя его (особенно по роману Leonard de Vinci) было во Франции известно, а приехавший откуда-то, где что-то творилось, он был «новинкой» – мы с ним стали попадать, как в Варшаве, к разным «контессам». Раньше, когда жили в Париже, мы туда не ходили, да ими (как и они нами) не интересовались. Но французские литературные круги были нам теперь почему-то дальше прежнего. Вообще все было не то, не так, точно переместилось, перекосилось (это мы переместились, но куда – еще не успели понять).
Из ранее незнакомых нам эмигрантов ближе всех был нам старик Чайковский. Он был в начале года с Савинковым в Варшаве, потом ездил один к Деникину (когда тот погибал). С Савинковым он разошелся, без ссоры, кажется, – но не любил о нем говорить. Принадлежал он к старшему поколению революционеров-народников (обычно жил в Лондоне, где года через два-три и умер). Его поколение, казалось, было самое атеистическое. Я многих современников его еще застала в Петербурге и писала о них, называя, впрочем, их атеизм, в отличие от атеизма последующих, материалистического, – атеизмом романтическим. Эти «последующие», революционеры и вообще всякие «левые», без различия партий, сохраняли свою, – по меткому названию Д. Ф., – «богобоязнь» – неприкосновенно, несмотря ни на что, до конца жизни. Из этого правила были исключения: тогда «левый» бросался в православие, вообще делался прозелитом, крестился, если был еврей. А то даже делался священником. Но Чайковский не был ни романтик, ни клерикал, а настоящий религиозный человек. Мало того – его христианство окрашивалось чем-то новым: он говорил о троичности, о Духе, притом без всякого условного догматизма. Не мертвыми устами повторял эти догматы, то есть не как статьи закона, – он не был прозелитом. Чувствовался в нем, конечно, моралист старого закала, отвычка от России, незнакомство с ней в последние годы… Но религиозность его была самая подлинная и не банальная, что при его возрасте и биографии казалось даже удивительным.
В Париже, в это время, существовало русское издательство, которое так и называлось: Полнера-Чайковского. Д. С. и я в него, конечно, тотчас же попали (Полнера мы знали еще по Петербургу). Там был издан роман Д. С. «14 декабря» и одна книжка моих рассказов, выбранных из нескольких книг, изданных в России, и здесь, в Париже, найденных мною у знакомых.
Рассказывать жизнь нашу по годам очень трудно, почти невозможно, да, может быть, и не нужно: она скорее укладывается в пятилетия. Я буду отмечать, конечно, что было в «первое» время, но было ли то или другое в 21 г., было ли оно в 22-м, – это я могу спутать, если даты не важны. Годы событий более или менее значительных я, конечно, знаю. Не особенно значителен, но любопытен был наш (эмигрантский) обед с Эррио и другими французами в Интернациональном клубе, по почину давнего знакомого нашего проф. Поля Бойэ – в зиму 1920–1921 гг.
Кроме нас и Бунина, был там, из русских, не помню, кто, помню только молодого Алексея (Алешку) Толстого, который был тогда тоже «эмигрант», и даже бывал у нас и у других. Кстати, чтобы к этому типу уже не возвращаться, скажу здесь, что это был индивидуум новейшей формации, талантливый, аморалист, je m’en fichiste, при случае и мошенник. Таков же был и его талант, грубый, но несомненный: когда я читала рукописи, присылаемые в «Русскую мысль» (в 10–11 гг.), я отметила его первую вещь, – писателя, никому не известного. Но потом в России мы с ним так и не встречались, и что он делал, где писал – мы не знали. Но, должно быть, он не дремал и, если не в литературу, то куда-то успел пролезть, потому что в СПБ-ском моем дневнике отмечен, как один из абсурдов во время войны 14-го года, посылка правительственной делегации в Англию, где делегатами были, между прочим, этот самый, почти невидимый «Алешка» и – старый знакомец наш, бывший секретарь Рел. – фил. собраний, Ефим Егоров, когда-то (по слухам) «шестидесятник», но в конце концов пристроившийся в «Новому времени» Суворина, и которого милый В. Тернавцев добродушно звал «пес». Что делала в Англии такая «делегация», – осталось навеки неизвестным.
Ал. Толстой, как-то очутившись в Париже «эмигрантом», недолго им оставался: живо смекнул, что место сие не злачное и, в один прекрасный, никому не известный день, исчез, оставив после себя кучу долгов: портным, квартирохозяевам и др. С этого времени (с 21-го года) и началось его восхождение на ступень первейшего советского писателя и роскошная жизнь в Москве. Если б он запоздал – неизвестно еще, как был бы встречен. Но он ловко попал в момент, да и там, очевидно, держал себя не в пример ловко. И преуспел – и при Ленине и при Сталине, и до сих пор талантом своим им служит. Говорят, и в Париж он за эти годы приезжал, уж в другом, не в «низменном» званье эмигранта. Встреч с этим сословием он, конечно, избегал, – с честными кругами.
Тогда, в 20–21 году, мы, естественно, всех эмигрантов считали честными. Если это была наивность – как от нее без опыта избавиться?
На том обеде в Интернациональном клубе, о котором я упомянула, было все «по-хорошему». Были речи. Говорил, кажется, только Д. С. и Эррио (может быть, ошибаюсь, но помню этих двух). Из русских и некому было выступать: Бунин французским языком не владеет и вообще не оратор. Что говорил Д. С. – в точности я не помню, но можно себе представить. Речь Эррио была самая любезная, благожелательно-обещающая: «On ne vous lâchera pas»,[133]133
Вас не отпустим (франц.).
[Закрыть] – несколько раз повторял он (французы такие способные ораторы!). После обеда Д. С. и я говорили-болтали с присутствовавшими французскими журналистами и писателями. Помнится, был там критик из «Temps», кажется, и Henri de Régnier, высокий, тихий, седовласый.
Потом все кончилось. Когда мы вышли, мне запомнилось почему-то, что Толстой, прощаясь со мною, вдруг сказал: «Простите меня…»
– Да что же вам простить? – удивилась я.
– Простите… что я существую.
Сказал неожиданно, экспромтом, забавно… Но после нередко мы этот экспромт вспоминали и повторяли.
К тому же первому времени Парижа относятся завязавшиеся связи Д. С. с молодым французским издательством Roche-Bossard. Там издан был, прежде всего, наш сборник «Царство Антихриста», «14 декабря» Д. С. и еще другие его книги. Потом мой роман «Чертова кукла» (еще до войны переведенный на французский язык), и должен был выйти второй роман, как бы продолжение первого, вышедший перед войной в Москве, но я уступила очередь Бунину: он тогда только что начинал печататься по-французски, и нам с Д. С. хотелось, чтоб он выпустил не одну, как думал Bossard, а сразу две книжки. (Замечу в скобках, что эта моя очередь так и не пришла: роман совсем не вышел. Очень скоро у нас наступила крайняя нужда в деньгах, Bossard кончился, Д. С. стал продавать, за что попало, свои книги другим издателям, а я в газетах зарабатывала такие гроши, что заплатить сразу 1000 Шевремону за перевод мы сочли неблагоразумным.)
Так, довольно смутно, со встречами новыми и старыми, прошла эта первая зима. На лето мы, по совету многих, поехали в Висбаден, оккупированный тогда французами. Там было очень хорошо, – как всегда на немецком курорте. Оккупация ничего не нарушала, население (побежденной страны) было совершенно спокойно, без всякой вражды к оккупантам, даже когда по улицам с музыкой проходили войска победителей.
В Висбадене Д. С. вплотную занялся Египтом – для давно намеченной книги. Мы посетили тамошнюю прекрасную библиотеку. Д. С. пришел в восторг от увесистых фолиантов с рисунками в красках, которые он там нашел. По неуменью работать часами где-либо, кроме своей собственной комнаты, он должен был бы от них отказаться, если б не любезность культурного директора библиотеки, который предложил присылать ему выбранные книги на дом. И в дальнейшем служитель привозил нам эти книги – так они были громоздки – на тачке, а жили мы в отеле на горе, над Висбаденом, на Нероберге.