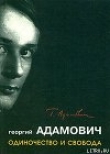Текст книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 69 страниц)
Приходи путем знакомым
Разломать тяжелым ломом
Склепа кованую дверь:
Смерти таинство – проверь.
Мертвеца изнасиловав (таков сюжет стихотворения), сел, с невиннейшим видом потупив глаза.
Чувство, всех задушившее, – было ужасно: Лопатин обдал своим шипом, как паром, пускаемым паровиком на дрожащий, взволнованный стол:
– «Он – бездарность махровая!»
Из тишины разорвался надтреснутый вывизг отца:
– «За такие деяния – знаете что? Да – Сибирь-с!»
В пику Брюсову, тут же отец заявил, что и он – стихи пишет: да-с, да-с! В пику Брюсову – с ревом восторга просили отца: прочитать; в пику Брюсову – с ревом восторга ему выражали восторги; отец раздовольный (поэта за пояс заткнул), подобрев, стал громчайше описывать шутки из жизни чертей (из программы своих каламбуров); тут каждый принялся кричать про свое. Лев Лопатин же дернул за Гиппиус, как холостяк – за хорошенькой горничной.
– «Что было дальше, – не знаю, – закончил М. С. Соловьев, – я сбежал!»
Вечер – разъединил еще более: и Мережковского забаллотировали; о Гиппиус вспыхнули рои легенд; репутация Брюсова как скандалиста ствердилась: в гранит.
Числа эдак девятого я, забежав к Соловьевым в обычный свой час, встретил Гиппиус; и – поразился иной ее статью; она, точно чувствуя, что не понравилась, с женским инстинктом понравиться, переродилась; и думал:
«Простая, немного шутливая умница; где ж перепудренное великолепие с камнем на лбу?»
Посетительница, в черной юбке и в простенькой кофточке (белая с черною клеткой), с крестом, скромно спрятанным в черное ожерелье, с лорнеткой, уже не писавшей по воздуху дуг и не падавшей в обморок в юбку, сидела просто; и розовый цвет лица, – не напудр, – выступал на щеках; улыбалась живо, стараясь понравиться; и, вероятно в угоду хозяйке, была со мной ласкова; даже: держалась рóвней, как конфузливая гимназистка из дальней провинции, но много читавшая, думавшая где-то в дальнем углу; и теперь, «своих» встретив, делилась умом и живой наблюдательностью; такой стиль был больше к лицу ей, чем стиль «сатанессы». Поздней, разглядевши З. Н., постоянно наталкивался на этот другой ее облик: облик робевшей гимназистки.
И Соловьева оттаяла; хмурь, – та, с которой молчала о Гиппиус, точно рассеялась; но вскоре – усилилась хмурь.
Я прочел поэтессе стихи А. А. Блока, еще неизвестного ей; З. H. губы скривила, сказав что-то вроде:
– «Как можно увлечься таким декадентством? Писать так стихи – старомодно; туманы и прочая добролюбовщина[53]53
Она разумела стихи Александра Добролюбова, декадента, ставшего главарем секты.
[Закрыть] – давно изжиты».
На стихи Блока она реагировала совершенно обратно: через года три; и произошли неприятности с С. Н. Булгаковым, забраковавшим статью.
Высокая оценка Блока культивировалась в 1901 году только в нашем кружке.[54]54
Напоминаю: в 1901 году никакого Блока как поэта не существовало еще: был юноша «Саша Блок», родственник моих друзей; и его-то мы, как еще никому не известного поэта, и пропагандировали, кому могли.
[Закрыть]
Мы просили З. Н. прочитать нам стихи; и прочла:
Единый раз вскипает пеной,
И разбивается волна:
Не может сердце жить изменой,
Любовь – одна: как жизнь – одна!
В ее чтеньи звучала интимность; читала же – тихо, чуть-чуть нараспев, закрывая ресницы и не подавая, как Брюсов, метафор нам, наоборот, – уводя их в глубь сердца, как бы заставляя следовать в тихую келью свою, где – задумчиво, строго.
То все поразило меня; провожал я в переднюю Гиппиус, точно сестру, – но не смел в том признаться себе, чтобы не изменить своим «принципам»; и, держа шубу, я думал: она исчезает во мглу неизвестности; будут оттуда бить слухи нелепые о «дьяволице», которая, нет, – не пленяла; расположила же – розовая и робевшая «девочка».
С этой поры я внимательно вчитываюсь в ее строчки; и после А. Блока сильно на них реагирую: символистами умалена роль поэзии Гиппиус: для начала века; разумею не идеологию, а стихотворную технику; ведь многие размеры Блока эпохи «Нечаянной радости» ведут происхождение от ранних стихов Гиппиус.
Я ПОЛОНЕН
Мережковские тут же уехали; у Соловьевых молчали о них; я считал себя в стане врагов их; но я отклонял обвиненья в раденьях.
И вот: сформулировав в тезисах свое «нет» Мережковскому, тезисы эти прочел Соловьевым; они согласилися с ними; тогда я решил превратить их в письмо к Мережковскому: пусть он ответит: в печати; под ним подписался: «студент»; и – отправил.
Через несколько дней присылают за мной; лечу вниз, меня встретила Ольга Михайловна:
– «Письмо – от Гиппиус!»
Гиппиус просит О. М. раскрыть ей «псевдоним» – письма, ими полученного: моего: автор-де из кружка Соловьевых, – и, конечно же, «Боря Бугаев», ругающий-де их в Москве (Поликсена, наверно, насплетничала); письмо – первый-де ответ на вопрос, ими ставимый обществу: Д. С. – взволнован-де; Розанов-де счел письмо «гениальным»; они же не выскажутся: до свидания с автором; оно должно состояться на лекции: Д. С. читает в Москве; пусть же автор зайдет после лекции: в лекторскую.
Был я взволнован согласием на возраженье: в сущности, я написал на жаргоне тогдашних «Симфоний» моих, не подозревая, что именно этот жаргон и понравится, а возражение, написанное на «жаргоне», проглотится; так что: меня пугал разговор; Соловьева его представляла готовящимся ратоборством «Зигфрида» с ужасной змеей, в результате которого «Боренькой-Зигфридом» глава змеи – будет стерта; так кончится спор, начатый Соловьевым с Василием Розановым; Мережковский, иль – «детище» Розанова, будет-де «Борей», их «детищем», – бит.
В этой гипертрофии меня изживалась болезнь, подступающая уже к Ольге Михайловне; «Зигфридом» не ощущал я себя; Мережковского не ощущал я «змеей»; фальшивейшее положение не сознавалось Ольгой Михайловной, которая мое возражение поворачивала на возражение от… Владимира Соловьева; тут сказывалась меня все более мучившая, скажу прямо, неподготовленность Соловьевых понимать меня в наиболее одушевлявших стремлениях; уже естественнонаучные интересы находили мало в них отклика; скоро потом: выявленные несогласия с Соловьевыми и оговорки, делаемые Владимиру Соловьеву, воспринимали они как оговорки «от Мережковского»; и никто уже ничего не хотел понимать, когда я проповедовал четвероякий анализ явления, – каждого: как простой данности факта иль тезы, как выщепленного из него отвлечения или понятия, являющего с фактом двоицу, как идентичности факта – понятию, понятия факту (триадность) и как, наконец, проницания факта понятием, факт перестраивающим.
Я в первом разгляде выглядел студентом-естественником, не без тенденции к механицизму; во втором разгляде я определял себя как методолога-формалиста; в третьем приеме подхода к фактам я выглядел для себя самого синтетиком, но в трех этих гранях я чувствовал себя тесно; в четвертой и был символистом.[55]55
Напоминаю: речь идет о прошлом, которому давность 31 год; я привожу эти мысли как образец витиеватости моего тогдашнего жаргона.
[Закрыть]
Моя авантюра с письмом к Мережковскому до такой степени переволновала меня, что я, разумеется, перенес ее и в химическую лабораторию, где работал я и два будущие «аргонавта». Петровский, Печковский и я, то и дело бросая приборы, друг к другу шли и, перекинув прожженные полотенца через плечо, обсуждали с волнением мои тезисы возражения Мережковскому; удивлялся шнырявший Крапивин (вероятно, рос счет битых склянок); юморист же С. Л. Иванов являлся, болтая заткнутою пальцем колбою; и вдруг, отомкнувши ее, совал ее в нос мне:
– «Чем пахнет?»
– «Сероводородом».
– «Ага!» – угрожающе он говорил; и шел прочь.
Этот жест предостережения значил: «Смотри – зарвешься»; но я, не внимая, кипел; опыт молодости и крик доказыванья, с резолюцией на него все равно чьей, – Мережковского, отца, Соловьевых, Петровского, С. Л. Иванова:
– «Мало понятно!»
Малопонятность – не только от перегруженности моего словаря терминами, но и от постоянного стремления, изучив технический жаргон того, что стояло в поле внимания, упражняться в нем, независимо от согласия или несогласия с мыслью; я устраивал семинарии по изучаемому предмету, выбирая слушателей, чтобы говорить не им, а себе самому.
Сознавал: происходит несносная путаница, в результате которой возникнет лишь бóльшая: в случае близости, как и вражды с Мережковскими; это меня угнетало.
Доклад Мережковского, кажется «Гоголь», прочитан был им в феврале 902; я с чувством «быть худу» отправился на него с А. С. Петровским; Соловьева, взволнованная, прилетела в «Славянский базар» к Мережковским; присутствовавший при свидании Брюсов записывает, что «пришла… Соловьева»; «она была немного больна и напала на Дм. Серг. яростно: „Вы притворяетесь, что вам есть еще что-то сказать. Но вам сказать нечего. У кого действительно болит, тот не станет говорить так много“».[56]56
Брюсов. Дневники. С. 118.
[Закрыть]
Она, пригласив Мережковских, С. А. Полякова, Ю. К. Балтрушайтиса, Брюсова, – вдруг отменила свиданье, сказавшись больной; это было – разрывом: с Мережковским; не высидев лекции, она – уехала; передавали, что Гиппиус, сидя лицом к многочисленной аудитории (амфитеатром), с ботинок сияющей пряжкой своею лучи наводила: на лбы и носы.
Мы с Петровским сидели в четвертом иль пятом ряду Исторического музея, волнуясь мне предстоящим заходом к Д. С. Мережковскому: в лекторскую; вижу: Брюсов ведет на меня невысокого, одутловатого, голубоглазого, бледного очень блондина, лет средних:
– «Борис Николаевич, – прошу покорнейше вечером, завтра – ко мне: Мережковские будут… Позвольте, – он мне показал на блондина, – редактор журнала „Новый путь“ Петр Петрович…»
Блондин перебил его:
– «Перцов», – и руку мне подал с приветливо-добрым нахмуром, сказав глуховатым, невнятно лопочущим голосом:
– «Просьба к вам: вы разрешите печатать отрывки письма к Мережковскому, – вашего, в нашем журнале… Об этом потом перемолвимся… Дмитрий Сергеич вас ждет: в перерыве…»
Петровский заметил ехидно:
– «Попались!»
– «Ox – в пятках душа!»
– «Коли груздем назвались, пожалуйте в кузов».
Я лекции так и не выслушал; сердце стучало: ну, как я войду, что скажу?
Перерыв: плески аплодисментов; и я потащился, как на эшафот, переталкиваясь средь плечей и локтей; еле лекторскую отыскал; стал под дверью, войти не решаясь; и ждал: кто пройдет, чтоб за ним проюркнуть; никого; наконец – я решился: толкнулся; дверь с легкостью необычайной распахнулась – в лоб Мережковскому.
– «Зина, вот он», – раздалось.
Мережковский сидел, очень маленький, ноги расставив, на стуле, платком отирая испарину, другую руку повесил на спинку; свисала изящная, маленькая кисть руки, точно дамская.
Перегибаясь вперед, точно жердь помавающая, ручку слабую не дотянул, не вставая со стула, – такой изможденный и точно расплавленный лекцией; множество мелких морщинок изрезали кожу лица.
– «Вы после лекции к нам заезжайте, в „Славянский базар“; будут наши друзья; о дальнейшем условимся; будете завтра у Брюсова?»
– «Буду».
Испуганно стал отговариваться:
– «Тут приятель мой…»
– «Вы приводите приятеля».
Бросив меня, Мережковский себя по коленке захлопал, уставился в Гиппиус; и ей кивком – на меня:
– «Зина, стыдно!.. Такой молодой он! А мы-то?»
Я же – стремглав: вон из лекторской.
– «Едете?» – я обратился к Петровскому, очень надеясь, что он не поедет (и – я).
– «Едем, едем!»
Предлог улизнуть – ускользал.
Вот и давка разъезда; Петровский, мой якорь спасения, – куда-то исчез; осенило:
«Не еду один!»
Подколесин сбежавший, – бежал разговора: ведь завтра же встречусь: на людях, у Брюсова!
А. С. Петровский, меня потерявши, поехал один; на другой день рассказывал об этом чае с каким-то Алехиным, бывшим сектантом: Д. С. с ним носился:
– «Жалели, что не было вас, удивлялись… Представьте-ка: Гиппиус мне протянула бокал, чтобы чокнуться: „За конец мира!“ Ну, я ей ответил, что я отвергаю подобные тосты… И главное: я не взял денег, а подали счет».
– «Ну?»
– «Я занял у Брюсова».
Чувствовал, как поднимался во мне этот страх: разговор предстоял-таки: «Зигфрид», придуманный Ольгой Михайловной и аттестованный Розановым, ощутил себя «Боренькой» глупым.
И помню, как я должен был объяснить отцу, что у меня завязалось знакомство с Мережковским.
– «Я, Боренька, не понимаю, собственно говоря, – почему», – произнес он со страхом; и тут же себя оборвал и награнивал по столу пальцами:
– «Да-с… Писатель… Пишет… Ох-хо-с…»
И пошел от меня.
Со страхом отправился я к Брюсову.
Там произошел новый номер: Д. С. Мережковский – центр вечера; Брюсов и гости обстали его (из гостей помню Минцлову); он, ставши хмуриком, не отзывался; меня взявши под руку, к столу повел, рядом сел, не повертывая головы на меня; все исчезло – стол, Брюсов; в тумане – глаза из лорнетки: не Гиппиус – Минцловой! Влипла. Мы, сидя вполуоборот, глядя в пересеченье прямых, произведенных от наших носов, ткнулись в точку расстеленной скатерти.
Д. С. забрасывал роем вопросов; и после молчал; формулировал мне он мои же вопросы, придав им свой стиль, свою лепку, в которой силен был; но кружево мыслей моих, в его новой редакции, огрубевая, рождало рельеф; так он, перелепив мой вопрос в свой фасон, подавал свой ответ: на фасон его собственный; мысль оставалась, но смысл в ней менялся; и я ему ставил вторично вопросы: по-моему, – не по-его: разговор протекал в специальном жаргоне, которым владел, проштудировав Розанова и раскрасив его моей палитрой схем, моих красочных уподоблений; Д. С. же внимал с напряжением; как сел за стол, так остался, не переменив своей позы: в полуобороте видел ухо, растительность (почти до скул), нос, меня поразивший размерами, странной неправильностью, вздерг затылка, являющего продолженье спины, зализь жидкой прически, пробор очень чистенький; глаз я не видел, вперяяся в пересеченье перпендикуляров от наших носов – в кусок скатерти; точно играли в невидимые шахматы: сделавши ход, ожидали подолгу ответного хода, обдумывая положенье: невидных фигурочек.
Так протекал разговор; он – единственный в своем роде; в нем Мережковский прослушал меня, поняв порами кожи, а не разуменьем, явивши искусство больших игроков, ставя мат мне в три хода своим доказательством на специальном наречии, мне отвечающем: все возраженья мои – диалектика мысли, его же де!
Я еще не знал обычного его приема спорить: там именно, где вы с ним не согласны, он подменяет вопрос о согласии или несогласии вопросом о действии и созерцании:
– «Может быть, вы и правы, а мы не правы, но вы – в созерцании, а мы – убогие, слабые, хилые – в действии; вы – богаты, мы – бедны, вы – сильны, мы – слабы».
Стоишь оболваненный: слушаешь:
– «Но в немощи нашей создается наша сила; мы – вместе, а вы – одни, мы ничего не знаем, а вы все знаете, мы готовы даже отказаться от своих мыслей, а вы – непреклонны».
Сконфуженный, начинаешь отнекиваться:
– «Помилуйте, я и сам отнекиваюсь».
И тут, обойдя, поднимает он рык:
– «Так идите, учите нас».
– «Просто не знаешь, что делать, – юморизировал позднее Бердяев: – они обволакивают!»
Так и меня обволок-таки в тот незапамятный вечер. Да, да, – «партию» я проиграл: этот проигрыш – плен мой в годах; плен – в том, что я мог бы де их переучивать.
Было странно сиденье писателя маленького, с длинным носом, вперенного в скатерть, с юнцом, тоже в скатерть вперенным; сей стиль был несвойственен здесь; неприлично писателю на званом вечере ставить гостям хмурый профиль свой; и неприлично юнцу непрославленному («Что ты, Боренька?») так отнимать «именитого» гостя у общества; я упустил простой факт, что я – притча уже «во языцех»:
– «Смотрите-ка: Брюсов ухаживает!»
– «Мережковский лишь с ним говорит!»
Через два с половиной месяца вышла «Симфония», и объяснилося – все.
Разговор прервал Брюсов, косившийся явно; он высадил из разговора меня, подав хмурого гостя гостям; зачитали стихи: З. H. Гиппиус и Балтрушайтис; прочел В. Я. Брюсов впервые:
И лестница все круче,
Все круче, круче всход!
Мережковский читать свое отказался: прочел Тютчева; вдруг он осклабился строчкой последней, со странной любезностью выгнулся, схватываясь за коленку; строка прозвучала по-новому от потрясающей простоты интонации:
Вот почему нам ночь страшна!
– «А?» – он рыканул, приглашая дивиться: осклабом лица.
Между прочим: хвалил стихи Брюсова.
Мы с ним условились: завтра приду я в «Славянский базар», чтобы договориться: втроем; для других они будут невидимы.
Не возвращался – летел как на крыльях, ликуя, что вышел союз с Мережковским, и не понимая, что партия – бита, что – мат и что – пленник на годы! Смущало: что скажет О. М.?
На другой день я к ней забегал; отправляла меня к Мережковским все с тем же упорством; зачем этот аллегорический меч?
Я же шел договариваться, а не биться.
Но точно меня опоясала им.
ХМУРЫЕ ЛЮДИ
Результат договора ударил как громом: О. М. бы сказала: «пакт с дьяволом!»
Комната в «Славянском базаре» – в кирпично-коричневом тоне: в таком, как обертки всех книг Мережковского; мебель – коричневая; Мережковский связался с коричневым цветом – обой, пиджака, бороды и оберток томов; фон квартиры, что в доме Мурузи, – такой же; обои, и мебель, и шторы – вплоть до атмосферы, которую распространяла она; и та – коричневая; очень часто я в ней ощущал сладковатые припахи, точно корицы, подобные запахам пряных бумажек; и припах корицы мне нос щекотал; я сразу же обратил внимание на специфическую атмосферу, поздней столь известную мне; атмосфера висела, как облако дыма курительного. Куда б ни являлись они, – возникала: в Петербурге, в «Славянском базаре», в Париже и в Суйде, где жили на даче они и где я у них был.
А на уличном свете она становилась точно туман, и лицо Мережковского казалось в тумане зеленым; вне дома, теряясь, терял он: подозревал, что шушукаются, что обстание всякое – враждебно ему; вне дома он умел иногда брать приступом целые аудитории, вдруг разоравшись; а в гостях он просто боялся и иногда говорил совершенные глупости; дома – он в туфельках шмякал; и, точно цветок на заре, раскрывался в курительном облаке, – под абажуриком; а вот выйдет, бывало, на Невский; смотришь – не тот: зеленее зеленого; глаза – в провалах; как тени от облака, злого, холодного, – перебегали по нем; в квартире же повиснувшая атмосфера его точно ширилась; делалась – золото-карей, немного пожухлой, немного потухшею.
Пахло корицами.
В гостях маленький, постно-сухой человечек с лицом как в зеленых тенях и с кругами вокруг глаз, – многим он напоминал проходимца.
И даже: казался он глуп.
Лишь в присутствии близких импрессия эта менялась: и то, что казалось извне подозрительным, выглядело как пленительное; Мережковский казался своим.
Отдались, – все менялось!
Поздней я не верил – ни в хмурь, ни в пленительность; морок пустой; глупо дуться на то, что из пальца, насыщенного электричеством, искрой уколет: булавок тут нет никаких!
«Электричество» – тот особый, пленяющий с непривычки «шарм», которым они обволакивали того, кто им вдруг начинал казаться нужным; и тут – невнимательные – они делались – само внимание; это внимание, соединение силы (муж, жена, Философов), – они направляли на старцев, дам, девочек, юношей и старушек; кого-кого в свое время не пленили они на час: старика-миллионера Хлудова, Бердяева, Волжского, еще гимназисточку, Мариэтту Шагинян, Борю Бугаева, анархиста Александрова; ведь пленили же… Савинкова!
Многократно встречался с людьми, пережившими фазы колючек и шарма.
Д. С. и З. Н., точно круксовы трубки из хладных стекляшек, простым поворотом каких-то винтов начинали в интимной среде точно фосфоресцировать.
Мне Мережковский, пленяющий, напоминает портрет Леонардо осклабом смешков, пуком глаз, лаской жестов, каких-то двузначных, картавыми рыками; сидя в коричневом кресле, полуразвалясь на него, упав корпусом в локоть, как бы казался порой прозаренным лучами осеннего, мглистого солнца и белою женщиной с ярко-сапфировым глазом, метаемым как из-за красных лисичьих хвостов: волос; так чету Мережковских сработал бы, думаю я, Леонардо да Винчи, назвав свой портрет «Улов рыбы».
Опять-таки – Бердяев был прав:
– «Спорить нельзя: протестуете, – Дмитрий Сергеич зарыкает на вас: „Прекрасно, вы не критикуйте, а нам помогайте: вы – наш, а мы – ваши!“ Оказываешься с своим „против“ – внутри кружковой атмосферы их».
И это же высказал раз В. В. Розанов, зайдя в гостиную к ним:
– «У вас духом особым несет: что вы делаете, оставаясь одни?»
Разумел – то же самое: стиль коллективного шарма, в который З. Н. приносила ум и хитрую ласку; Д. С. приносил свою хмурь, тень Рембрандта, напуг, выпук глаз, всосы щек, что-то постное в поступи.
«Рыбе», ловимой в сетях рыже-красных волос, из которых сиял этот «сестринский» вид, говорящий о том, «чего нет», – начинало казаться: в сетях атмосферы укрыто, что завтра откроется!
Не открывалось. Мелочные люди замыслили общину, в недрах которой зажжется огонь: всей вселенной!
Не вспыхивал!
И завлеченная «рыба», – Антон Карташев, Философов, – за полным отсутствием дела «четой» отсылались в газеты: устраивать вспыхи бумаги.
Не вспыхивала публицистика слабая!..
Бедная Ольга Михайловна, перепугавшаяся там каких-то радений: пристойная община! Бедный Д. С., сколько шепотов он возбуждал! Не намерен его защищать: в светской жизни они были мелочны; лучшее приберегали для общины.
Участь «своих», посылаемых за неимением религиозного дела в газеты, – остаться в газете; и даже в газетной общественности: позабыть свою «миссию».
На атмосферу ловился и я с того мига, как дверь отворил в номер, занятый ими в «Славянском базаре»: в сквозном рыже-красном луче из окна, озарявшем коричнево-серое кресло и карюю пару писателя, маленького, раздалось из-за взрыва сигарного дыма рыканье картавое.
Пахло корицами.
Стиль всей беседы:
– «Вы – наши, мы – ваши!»
Расплыв черт лица, зараставшего почти до скул волосами, белейшие зубы, оскаленные из коричнево-красных разорванных губ, эти легкие, плавные, точно тигриные жесты, с которыми Д. С. усаживал, рядом садясь, – взволновали меня; в незакрытой двери – видел: Гиппиус тихо прошла белой талией, почти невидной в распущенных, золото-розовых космах: до пят; через пять минут вышла, сколов кое-как свои космы: дымок, восклицанья отрывистые:
– «Дмитрий, ты понимаешь его?»
После открылось уже, что сердца – в голове, что в груди вместо сердца – оскаленный череп, что в эти минуты они, как пылинки, – на ветре идей; ветер – северный, дующий с озера Ладожского, переверты пылей поднимающий; в выспри взлетев, остывали они столь же искренне, сколь закипали, чтоб жизнь прокрутить на холодных проспектах холодного города: преть, планы мыслить, – журналов, газет, – с Богучарскими, со Струве, Базаровыми, с Вильковысскими и даже… с Румановыми, точно с близкими; и рассыпать даже эти проекты: пылями проспектными.
Я же поверил, что я – полноправный, что я – нареченный Д. С. «младший брат», когда слушал:
– «Вы – близкий; мы вас оставляем здесь, как в стане врагов; верьте нам, не забудьте; не слушайте сплетен!»
В решительный миг под писателем кресло сломалось: он с креслом упал; поднимаясь, счищая с коленок соринки, осклабился, вспомнив, что так упал Розанов прямо под кафедрою Соловьева, читавшего «Три разговора».
Прощаясь, мы обнялись и условились: будем друг другу писать; я дал адрес химической лаборатории; было удобнее так.
Но, звонясь к Соловьевым (я дал обещанье О. М. рассказать о свидании), был не в себе еще, точно клочок атмосферы, как легкий дымок папиросный, пристал к волосинкам тужурки, отвеиваясь и дымясь вокруг меня.
Дверь открыла О. М.:
– «Ну, – и что?»
Но, увидев меня улыбавшимся, только махнула; и – бросила:
– «Вижу: пропала Катюша!»
Какая такая?
Но, перевернувшись, О. М. пошла – прочь, ни о чем не спросив; я – поплелся домой.