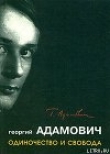Текст книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 69 страниц)
IV
Да, Мережковский – мучительная для бывших его друзей загадка. Как явно в нем напряженное стремление схватить самое жизненное в жизни, самое сердцевину жизни, как явно его желание пожертвовать всем (например, искусством – слепая, чисто леонтьевская или, по уподоблению его самого, «Агамемнонова»,[157]157
Было и будет. С. 148 и 322.
[Закрыть] но уже отнюдь не Авраамова, жертва!), всем – ради единого на потребу, – и как явно в то же время, что это жизненное ему не дается, что он идет мимо жизни, что его слово ничего не изменяет в существующих соотношениях общественных и духовных сил, что эта река, обещавшая некогда подводными струями пролиться по жаждущим нашим пажитям и торжественно втечь в некое светлое озеро-море, из волн которого звучат звоны Града, впадает после многих излучин скудным притоком в пообмелевшую реку нашего старого радикального народничества. По крайней мере, таков итог, всенародно и общедоступно подведенный Мережковским своим религиозно-общественным исканиям в новой его пьесе «Будет радость».
Радости от пьесы я не испытал и вокруг себя не видел; недоумение же об источнике и причине этой радости слышал отовсюду. Но так как сам верую, что радость будет, то радовался самому прозвучавшему слову, – быть может, вещему, – хотя и отнюдь не связанному с содержанием глубоко унылой и нудной, хотя умело и – если простить изобилие рассуждений и книжных цитат – искусно скомпанованной драмы, музыкально действующей на душу поэтическими чарами Добужинского и подошедшей, как по мерке, к стилю Художественного театра.
Да и в самом деле, как не загрустить, при виде внутреннего банкротства нашего богоискательства, – того, разумеется, типа, который представлен Катей, – в лице этой чистой и самоотверженной русской девушки, любящей, но от внутреннего надлома уже настолько неспособной к человеческой любви, что она, рыдая и крестя возлюбленного, отпускает его на заведомую и неизбежную гибель? И все эти муки принимает Катя для того, чтобы влиться ручейком в неширокую, но судоходную реку деятельной общественности, ознаменованной, к вящему огорчению приунывшего зрителя, престарелым земским деятелем, благороднейшим и милейшим, но, судя по его быстро наступающей дряхлости и непробужденной старозаветности его умственного склада, – лишь «остальным из стаи славной». У слияния Катина ручейка с рекой общественности воздвигнут автором столб с надписью, изъясняющей принцип объединения между богоискательством и старым народничеством: «чудо у нас с вами одно», – говорит Катя… Это я и называю внутренним банкротством. Ибо, если бы воцарилась в России всякая общественная правда и все обездоленные достигли предписанной ими самими меры благополучия, а дух бы угас, и отняты были у нас внутренние и тайные святыни наши с их животворящими силами, то такое превращение не было бы, в глазах верующего, благодатным чудом Божиим, – из чего следует, что брататься и единиться на чуде без Имени нельзя.
Вся же пьеса, протекающая мимо жизни, в области схематических контроверз, наполовину смытых уже давно и постоянно смываемых притоком новых энергий, новых личных и групповых самоопределений и, наконец, мировых, все сдвигающих со старого места событий, – кажется запоздалым памфлетом против провозвестника наших величайших и отдаленнейших надежд – Достоевского. Суждение о нем Мережковского таково: «В Достоевском воплотилась вечная, метафизическая сила русской реакции, сила сопротивления старого порядка новому. Не сломив этой силы, не преодолев Достоевского и достоевщины, нельзя идти к будущему. Но, чтобы победить врага, надо встретиться с ним на той почве, на которой он стоит, а почва Достоевского религиозная».[158]158
Было и будет. С. 282.
[Закрыть] Религиозная почва Мережковского, во всяком случае, расступается под ним и поглощает его, как трясина; и трудно ему при этих условиях вступать в единоборство с великаном, стоящим на камне. Но возможно другое объединение почве: можно плясать вокруг стоящего гримасничающей по земле тенью. Впрочем, Федя из новой пьесы, восковая кукла, слепленная из частей Ивана Карамазова, Ставрогина, Кириллова и Свидригайлова, скорее предназначена к пропаганде одного из важнейших учений Достоевского – о внутреннем распаде уединившейся личности. Другое дело – изображение православия, в котором Достоевский знал движение Духа жива. Старец, сменивший в пьесе Зосиму, приказывает ученику красть чужие письма, а ученик старца, Гриша, отличный от Алеши уже тем, что не из монастыря уходит в мир, а из мира в монастырь, – жалкий и мрачный идиот. А мы, прельщенные «метафизиком русской реакции», чуть не целых сорок лет затаенно надеялись, что не понапрасну юный питомец Зосимы вышел в мир из стен благословенной обители. Впрочем, дух Алеши в миру творит свое дело втайне; когда он раскроется, – неложная «будет радость». А про пугала пьесы скажем: страшен сон, да милостив Бог.
И. ИЛЬИН
МЕРЕЖКОВСКИЙ – ХУДОЖНИК[159]159
Лекция «Творчество Мережковского», прочитанная 29 июня 1934 г. в берлинском Русском научном институте. Частично опубликована в кн.: Русская литература в эмиграции. Сборник статей / Под ред. Полторацкого Н. П. Питтсбург, 1972. С. 177–190. Ильин Иван Александрович (28 марта (9 апреля) 1883, Москва – 21 декабря 1954, Цюрих) – философ, публицист, критик.
[Закрыть]
Первое, что бросается в глаза, это то, что Мережковский – художник, романист и драматург – всегда держится за исторически данный материал. Он всегда занят крупными или великими фигурами истории – Юлиан, Леонардо, Петр, Наполеон, Аменотеп, Павел, Александр – и замечательными, сложными и смутными в духовном отношении эпохами.
Выбрав такое лицо или такую эпоху, он садится прилежнейше за архивную работу, читает первоисточники на нескольких языках, делает выписки и т. д. Эти выписки он приводит затем в своих романах. То он пользуется ими для создания больших живописных панно; то он конденсирует их и придает им форму выдуманного им самим дневника одного из героев романа, дневника, которого тот никогда и не писал; то он пользуется ими для сочинения фантастических разговоров или афористических заметок и т. д. Один из критиков Мережковского подсчитал, например, что из тысячи страниц его романа «Леонардо да Винчи» или «Воскресшие боги» – не менее половины приходится на такие выписки, материалы и дневники.
Однако это совсем не значит, что эти исторические романы можно рассматривать как фрагменты научно-исторического характера. Это невозможно потому, что Мережковский совсем не желает знать и устанавливать исторические факты; добытым материалом он распоряжается без всякого стеснения; и если бы кто-нибудь захотел судить о Макиавелли, Петре Великом или Александре Первом по Мережковскому – то он совершил бы величайшую неосторожность. Мережковский как историк – выдумывает свободно и сочиняет безответственно; он комбинирует добытые им фрагменты источников по своему усмотрению – заботясь о своих замыслах и вымыслах, а отнюдь не об исторической истине. Он комбинирует, урезает, обрывает, развивает эти фрагменты, истолковывает и выворачивает их так, как ему целесообразно и подходяще для его априорных концепций. Так слагается его художественное творчество: он вкладывает в историю свои выдумки, и тасует и колдует в ее материале, заботясь о своих построениях, а совсем не об исторической правде; или, иначе, – он укладывает, подобно Прокрусту, историческую правду на ложе своих конструкций – то обрубит неподходящее, то насильственно вытянет голову и ноги. Вследствие этого великие исторические фигуры, со всеми их дошедшими до нас следами, словами и чертами – оказываются в руках Мережковского вешалками, чучелами или манекенами, которыми он пользуется для иллюстрации своих психологически-диалектических открытий. Являясь как бы предшественником великого гения наших дней, призванного презирать в жизнь всех исторических гениев, – я имею в виду пресловутого Эмиля Людвига, читая которого, стыдишься за него, что ему нисколько не стыдно выдумывать свои выдумки, – Мережковский тоже считает себя призванным художественно трактовать жизнь гениев и титанов и, конечно, обращаться с ними запанибрата.
Итак: он злоупотребляет историей для своего искусства и злоупотребляет искусством для своих исторических схем и конструкций. И в результате его история совсем не история, а литературная выдумка; а его искусство слишком исторически иллюстративно, слишком эмпирически-схематично для того, чтобы быть в художественном отношении на высоте. Одно это обстоятельство освещает нам строение его художественно-творческого акта.
Беллетрист, который до такой степени ищет опоры в исторических данных, фигурах и материалах, который до такой степени льнет к эмпирическим фактам истории и так нуждается в них, – может быть легко заподозрен в том, что ему нелегко дается работа творческого воображения, что он не справляется ни с образным составом своих произведений, ни с драматическим и романическим фабулированием. Ему, по-видимому, совсем не так легко облекать сказуемое им предметное содержание в эстетические образы и картины, объективировать помыслы в живые фигуры и следить за их имманентным развитием, за их поступками и судьбами. Хотелось бы прямо спросить – в порядке нащупывающего эстетического анализа – а что у таких писателей герои их произведений объективируются ли настолько, чтобы иметь пластически законченный душевно-духовный характер, совершать поступки и проходить убедительный для читателя лично-художественный путь?
Эстетическая функция образного фабулирования состоит у художника прежде всего в акте пластически зрелой телесно-душевно-духовной объективации – в убедительной и верной себе скульптурной лепке живого образа, героя или героини. Художник вылепливает из своего и чужого, исторического и фантастического пластелина – новое прометеево чадо, в котором он сам пребывает, и в то же время законченно его от себя отделяет и дает его образ как законченно-самостоятельную фигуру; и творческая воля и власть художника должны быть достаточны для того, чтобы выдерживать объективную самостоятельность героев, с одной стороны, а с другой – пребывать в героях, драматически творя изнутри своею волею их решения и их поступки. Фабулировать – творить фабулу романа – значит волевым образом приводить в движение и совершать имманентный закон художественно созданных образов.
Художественный анализ произведений Мережковского убедил меня в следующем: функция воли в его художественном акте чрезвычайно слаба. Это выражается прежде всего в безмерном прибегании к исторической фабуле, хотелось бы сказать, к биографии каждого данного исторического лица. Затем – в выборе художественно обрисовываемых героев: так, Юлиан Отступник или совсем не действует или из какого-то слепого упрямства пытается действовать в безнадежном направлении; Леонардо да Винчи совсем не совершает поступков; драматическая ситуация Александра Первого и заговорщиков-декабристов состоит в том, что они не умеют и не могут действовать; художественно воссоздать образ Наполеона Мережковский не сумел – вышла неубедительная и натянутая биография; Петр Великий – волевой титан – вышел у него отвратительным, свирепым зверем; а в эпопее крито-египетской – мы находим только пассивно страдающих героев и не способных к действию людей. Итак: в художественном акте Мережковского – воля представлена почти всегда безволием; волевые герои – свирепы и зверски; их почти нет – прочие безвольны.
Но и функция волевого отбора – у Мережковского-писателя – абсолютно не на высоте: протяженно-сложенность его романов свидетельствует отнюдь не о размерах его фабулирующей силы, а о неумении строго и четко выбирать только то, что художественно необходимо. Мережковский-писатель не имеет отцеживающей, отбрасывающей, конденсирующей волевой власти – его романы только выиграли бы от сокращения – в них плещется море художественно-ненужного – в них по крайней мере половина художественно-обходима и является литературным балластом. Поучительно сравнить его в этом отношении с Чеховым, у которого объективированные герои безвольны и беспоступочны – воли творимой нет, а субъективно-творческая функция отбора находится на чрезвычайной высоте – воля творящая исключительна.
* * *
Обратимся теперь к силе воображения у Мережковского. Художественное воображение Мережковского имеет свои, совершенно определенные границы. По своей основной установке Мережковский – человек чувственного опыта и чувственного воображения (экстравертированный субъект, прикованный к показаниям тела и материальным образам). Но всего замечательнее то, что прикованный к наружному, чувственному, материально-земному, он страстно, болезненно страстно интересуется и занимается – по крайней мере, умом, отвлеченной мыслью – теми проблемами, которые по силам только интровертированной душе, углубленной, ушедшей в свои колодцы и оттуда созерцающей мир по-духовному.
Как человек внешне-чувственный, Мережковский владеет только тем, что он видит – материальными обликами земного мира; его ослепляет, его чарует пространственно-пластический состав мира и образов; больше всего ему говорят скульптура, архитектура и живопись – и притом не в их тонком, глубоком, сокровенно-духовном значении, но в их выявленном, материально-линеально-перспективно-красочном составе. Внешнее внешних искусств – вот его стихия. Мережковский – мастер внешне-театральной декорации, большого размаха крупных мазков, резких линий, рассчитанных не на партер и не на ложу бенуара, а на перспективу подпотолочной галереи; здесь его сила; это ему удается. То, что он рисует – это как бы большие кинематографические стройки, преувеличенные оперные декорации, гигантские сценические эскизы, или макеты для взволнованных массовых сцен разыгрывающихся на фоне античных городов или гор средиземного бассейна. Этим он пленяет и завораживает своих читателей; он подкупает их силу воображения, выписывая им роскошные аксессуары итальянских, греческих, малоазиатских, египетских пейзажей, – почерпывая материал для них не столько в природе, сколько в обломках и остатках развалин и музеев.
И если попробовать расспросить его ценителей и почитателей о том, что же им собственно нравится у Мережковского, что именно так хорошо у него, то обычно получаешь два ответа: «грандиозно» и «красиво» – не глубоко, не значительно, не прекрасно, – а только грандиозно и красиво. И действительно, красочные картины декоративного ансамбля ему нередко и весьма удаются – ну, как у Семирадского, у Рубенса, у Паоло Веронезе, иногда у Тициана или Бронзино. Например: солдатский бунт в военном лагере Юлиана Отступника; парад легионов во время грозы; вакхическое шествие кесаря Юлиана со жрецами, с чернью и пантерами; процедура одевания герцогини Беатриче Моро во Флоренции; охота и хозяйство герцога Моро; полет ведьм, колдунов и оборотней на гору Брокен, постепенно превращающийся в языческую вакханалию; Саванарола во Флоренции, сжигаемый на костре; придворный бал и наводнение в Петербурге при Петре Великом и т. д.
Если читать это как бы издали, с галерки, или прищурясь, чтобы не придираться и не замечать деталей; если осматривать эти картины так, как озираешь театральные декорации – где важно только общее впечатление, взятое издалека, где нельзя и нелепо фиксировать в бинокль Цейса использованные лоскутья доски, куски картона и т. д. – тогда можно получить зрительно-фантазийное наслаждение. Но если надеть настоящие эстетические очки, то как только поставишь и не снимешь внутренние художественные требования, – вдруг видишь себя перед пустой и холодной стряпней, которая может лишь очень условно претендовать на значение; она никак не может сойти за главное или заменить его; она остается только декорацией – выписанной с преувеличенным, перенапряженным импрессионизмом и от времени до времени прерываемой аффектированной аллегорией или нарочитым, выдуманным безвкусием (см., например, «Петр и Алексей», т. IV, стр. 244). И когда вникнешь в такие картины – то видишь, что все это не более, чем эффективная декорация.
Экстравертированная природа романиста выражается в том, что он в своих описаниях держится за ткань внешних чувственных образов, их описывает, ими занимает свое и читательское воображение, а к душевно-духовной, внутренней жизни своих персонажей и героев подходит через внешнее. Читатель все время видит себя засыпанным конкретно-чувственными единичными деталями, внешними штрихами и подробностями, которые он в конце концов не может ни исполнить, ни использовать, ни оценить, и наконец начинает давиться и задыхаться. И все это всегда статически взятые, изолированные штрихи – навязывающиеся внешнему глазу, уху, обонянию, вкусу. Эти черточки, эти единичные мазки удаются Мережковскому особенно не тогда (как это бывает у Бунина), когда он описывает красоту природы, но тогда, когда он описывает человеческие мерзости – в уличной жизни, в кварталах черни, в человеческих болезнях, во внешнем виде отвратительных уродов и т. д.: уличные ссоры и драки, рев и вонь; визг и вопли, несущиеся из публичного дома; вой прокаженного старика, который жалуется на судьбу и скребет свои белые корки и т. д. Словом – выражаясь собственными словами Мережковского: «Зловонное дыхание черни – запах людского стада».
Вот пример такого описания: вот казнят брата кесаря Юлиана, кесаря Галла – предательски, потихоньку, наскоро, в палатке, чтобы солдаты его легионов не могли спасти его; голова его отрублена – надо ее унести: «Не за что было ухватить гладкую выбритую голову. Мясник сначала сунул ее под мышку. Но это показалось ему неудобным. Тогда воткнул он ей в рот палец, зацепил и так понес ту голову, чье мановенье заставляло некогда склоняться столько человеческих голов». Сцена в высшей степени характерная для кисти Мережковского – который всегда готов угостить себя и читателя отвратительными подробностями, душемутящими деталями, реалистическими совершенно ненужными тошнотворными описаниями – с тем, чтобы сейчас же истолковать их глупому читателю символически или аллегорически. И один читатель потрясается и приковывается, внешняя мерзость мира пробила наконец его носорожью впечатлительность; а другой читатель морщится от отвращения – «зачем это нужно, когда это в художественном отношении не необходимо?». Понятно, что такими описаниями легко поразить и разбередить душу читателя, но очень трудно описать и осветить внутреннюю жизнь своих героев.
Здесь поучительно сравнивать Мережковского не с мастерами и ясновидцами внутреннего опыта (Достоевским, Шмелевым), а с мастером чувственной живописи – с Буниным. Бунин – человек природы, естества, инстинкта и чувственного видения: он берет человека извне и с необычайной силою и наглядною точностью показывает через внешние проявления его – жизнь его инстинкта. Мережковский совсем не человек природы и живого естества. Напротив: трудно было бы найти другого такого беллетриста, который был бы настолько чужд природе, или даже противоприроден. Мережковский совсем не целен в своем внутреннем инстинктивном укладе – подобно Бунину. Напротив, он совершенно раздвоен, сломлен, он носит в самом себе некое темное лоно и любит объективировать его и тогда играть с ним; в этом преимущественно и проходит все его литературное творчество. Его любимый эффект состоит в том, чтобы описывать некий якобы мистический мрак, внезапные переходы из темноты к свету и наоборот; при этом подразумевается и читателю внушается, что там, где есть мрак, там уже царит жуть и страх; и где человеку жутко и темно, там есть уже что-то «мистическое».
Наподобие этого – творит и живет и сам Мережковский. Он носит в себе расколотую, расщепленную душу: мрачно пугающее и пугающееся воображение; и холодный, диалектически-самодовольный рассудок. И слишком часто читатель чувствует, что ведет его, Мережковского, – именно рассудок. Рассудок анализирует, расчленяет, противопоставляет: получается формальная диалектика – А и не А; Мережковский чувствует себя в своей тарелке, он успокаивается только тогда, когда он устанавливает дихотомию – две противоположные стороны, – как будто бы некое непримиримое противоречие; установив его, он начинает блуждать вокруг него, играть им, многозначительно подмигивая при этом читателю; он думает, что от этого противоположения родится что-то значительное, глубокое, мистическое, и сам начинает вести себя, как некий мистический жрец. Начинается диалектическое священнодействие; противоречия непримиримы – тело мира разрывается, трагедия и мрак, и вдруг луч света – жрец мистически подмигивает и дает знать, что дело поправимо, что А и не А – где-то в последнем счете суть одно и то же. «Мужчина или женщина?» – Противоречие. Разрыв. Мрак и ужас. – «Ничего». Мужчина есть женщина. Женщина есть мужчина. Тайна. Откровение. Исцеление. «Добро или зло?» – Противоречие. Разрыв. Трагедия мира. – «Ничего». Добро есть не что иное, как зло. Зло есть не что иное, как добро. Бог и диавол – одно и то же. Христос есть Антихрист. Антихрист есть Христос. Тайна мира разоблачается. Откровение. Примирение. Исцеление. «Бог или человек?!» – Бог есть человек. Человек есть бог. Мудрость. Глубина. Озарение.
Нужды нет, что у сколько-нибудь честно думающего и искренно чувствующего читателя – делается ощущение головокружения, корабельной качки, тошноты; и больше того: смуты, соблазна, отвращения. Нужды нет, что это противоестественно и противодуховно. Это Мережковского не смущает и не огорчает; напротив – тут-то он и наслаждается своим мнимым глубокомыслием, почерпнутым из соблазнительнейших сект и ересей Древнего Востока; тут-то он и упояется своими псевдомистическими играми. Натура раздвоенная и неисцеленная; натура сломленная и в самой сломленности своей ищущая сладостных утех, Мережковский выдумывает и вынашивает свои диалектические загадки, вываривая их сначала в рассудке, потом в живописующем воображении, приклеивая их или пытаясь вдохнуть их своим героям и их земной судьбе. Эти диалектические тайны – его гомункулы. Он и сам гомункулезная натура, – вечно выдумывающая свои рассудочные ужасы, для того, чтобы живописно изобразить их в эффектно-декоративных панно.
Вот главное затруднение его художественного акта, вот камень его преткновения: Мережковский экстравертированный живописец, у которого нет ни способности, ни мужества принять себя как такового, жить из цельного инстинкта, творить из него, раскрывая его – и не посягать ни на какое мистическое глубокомыслие; и в то же время он рассудочный выдумщик, который носится отвлеченной мыслью над водами непонятной ему интровертированной души и над ее проблемами и размышляет об этих тайнах и проблемах в отвлеченном, гомункулообразном порядке – выдумывает о них, никогда не поживши в них, и борется с безнадежной, непосильной задачей – разгадать и описать интровертированную жизнь гения не изнутри, а снаружи, по внешним деталям и по эффектным декорациям. Как только Мережковский пытается ухватить жизнь человеческого инстинкта и описать ее, перед нами встают раздвоенные натуры – мужчины, которые не могут быть и стать мужчинами, и женщины, которые не хотят быть женщинами; томящиеся фигуры – проблематические души – несчастные недотепы – противоестественные комбинации.
Томление этих безвольных душ с поврежденным инстинктом (как Юлиан Отступник, Леонардо да Винчи, фараон Ахенатон в «Мессии») – Мережковский пытается истолковать и использовать в религиозном смысле и направлении, и притом по схеме:
Христос или Антихрист
Отец или сын – в мистическом отношении…
И так выясняется, что Юлиан Отступник – Антихрист, и притом благородный Антихрист, привлекательный; что Леонардо да Винчи – сразу и Христос, и Антихрист; а фараон Ахенатон (явно гермафродитская натура) – Христос, у которого, однако, не хватает храбрости признать себя Христом.
Из всего этого возникает своеобразная, сразу и больная и соблазнительная, половая мистика; мистика туманная и в то же время претенциозная; мистика сладостно-порочная, напоминающая половые экстазы скопцов или беспредметно-извращенные томления ведьм. У внимательного, чуткого читателя вскоре начинает осаждаться на душе больная муть и жуть; чувство, что имеешь дело с сумасшедшим, который хочет выдать себя за богопосещенного пророка. Читатель начинает томиться подобно этим больным героям, – но по-своему: то отвращением, то тоскою, то скукою; жаль этих больных и отвратительно; и в то же время не веришь ни им, ни в них – ибо чувствуешь, что они – порождение искусственно выдуманной абстракции.
Беспомощно стоит Мережковский перед простою и классическою тайною человеческого инстинкта, как перед неразрешимою для него загадкою, и создает искусственную, мертвую, диалектическую схоластику. Ибо сущность схоластики состояла в том, что люди пытались отвлеченно умствовать о том, что им не было дано в опыте, так, как если бы это все-таки было дано им каким-то рационалистическим, априорным способом. Так Мережковский и остается беспомощно стоять перед тайнами человеческой души, в качестве умственного рассудочника.
Правда, там и сям ему удается остро и тонко подметить своим экстравертированным глазом точный и меткий внешний образ и художественно его использовать. От времени до времени у него всплывают такие сочно набросанные, обычно мимолетные, фигуры – меткие, зло очерченные, поверхностно намеченные типологические кроки; всплывают и навсегда исчезают – так, что потом они больше не появляются, и не знаешь, зачем он их показывал. Но как только Мережковский берется за большую фигуру и за сколько-нибудь более сложную психологию – так читатель видит себя как бы в пустом темном поле, на котором он с трудом и опасением различает и нащупывает темные дыры и ямы; спотыкаясь, скользя, почти на четвереньках он въезжает в них и видит, что художник, взявшийся ему это показать, сам в полной беспомощности, фонарь его не светит, он предал, покинул читателя, – хотя и продолжает делать мину знатока и говорить громким авторитетным голосом.
Если при этом у Мережковского имеется какой-нибудь исторически подлинный материал – как для Леонардо или Петра – тогда читателю позволяется сшить кое-как эти исторические лоскутья своим собственным воображением; материал вываливается, – и читатель беспомощно пытается выполнить вместо романиста, за него – невыполненный им художественный синтез. Если читатель пытается это сделать, тогда он скоро замечает, что романист своей работы предварительной просто не выполнил; мало того, что романист со всей своей априорно-рассудочной диалектикой просто мешает ему в этом деле: вдруг романист, следуя своей диалектической схеме, – все делит на противоположности, извлекает из души Леонардо да Винчи – безнравственного садиста (надо показать, что он-де антихрист); а потом вдруг Леонардо да Винчи предстает добрейшим и нежнейшим человеком, который все прощает, все понимает и живет в божественном (надо показать, что он Христос). И первое столь же неубедительно, сколь и второе; и то и другое – нехудожественная выдумка – схема вместо живой души – логические абстракции вместо гениального духа.
Если же подлинного исторического материала мало – как от Юлиана, Ахенатона – то все распадается на куски: Мережковский берет внешнюю историю Юлиановых поступков; подставляет под поступки соответствующие свойства – как схоластики делали: спит человек – значит, у него спательная сила (vis dormitiva), питается – значит, у него есть питательная способность (vis nutritiva), и т. д. – и приписывает эти свойства своему герою. Но живой синтез этих свойств, художественно законченная скульптура характера – не создается; нити тянутся к центру – и не встречаются в нем; центр остается пустым, под знаком вопроса; и герой распадается на куски, на отдельные художественно-психологически не связанные деяния, с которыми читатель не знает, что начать – ворох неожиданных черт, свойств, настроений – бессвязный агрегат состояний, слов и поступков.
Мережковский вообще не создает и не дает своему читателю – единую душевно-духовную скульптуру героя; зрело объектированный личный характер; пластику души, завершение индивидуальности; создание воображающего видения. То, что может дать внешнее наблюдение и умственное обобщение, – он дает. Но то, что должно дать художественное отождествление, – индивидуализация, персонификация, связующая множество в закономерное и необходимое единство, – он не дает совсем.
Великие люди, – а он вместе с Эмилем Людвигом любит их толковать и себя через них показывать – оказываются у Мережковского не людьми и не великими. Это какие-то пустые бочки, расставленные искусным фокусником, из коих можно вынуть все, что угодно, стоит только заранее вложить это туда; а на бочке написано – гений – такой-то! Всегда безнадежная попытка выдумать жизнь гения в отвлеченной умственной реторте и выдать этого гомункула за живую, глубокую, Богу предстоящую душу, – ибо гениальность всегда есть особое трепетное предстояние души Богу – так, что через это предстояние Господь входит в душу, обитает в ней и говорит из нее. Внимательное чтение, изучение и исследование привело меня к тому выводу, что Мережковский совсем не представляет себе, как думает, чувствует, любит, воображает, исследует гениальный и умный человек; что ему это в опыте не дано от природы, а приобрести это опытом он не смог и не сумел.
Мало того, живой процесс другой души – ему вообще не доступен, он знает только свою душу – отвлеченно умствующую рассудком и бесплодно-сладостно томящуюся инстинктом. Вот пример: в романе «Воскресшие боги» – он приводит сочиненный им самим дневник одного из учеников Леонардо – Джиованни Больтраффио. Этого Больтраффио он сам описывает как глупца, путаную убогую голову, маленького труса, не способного ни к какой самостоятельной мысли. И вот в дневнике этого глупого путаника Мережковский вносит, в качестве мыслей самого Больтраффио – все то, что на протяжении веков думали и рассказывали разные люди о Леонардо да Винчи – между прочим и умные люди, умные зрелые мысли, которых современник Леонардо совсем и не мог иметь – тем более этот глупец. Больтраффио, на самом деле, исторически не был глупцом, картины его обнаруживают и чувство формы, и мысль, и грацию. Мережковский делает из него глупца. Пусть. Но у глупца – психологически – неизбежно будут одни глупые мысли.
Однако психология, психика, целостный организм души совсем не интересуют Мережковского: он художник внешних декораций и нисколько не художник души. Душа героя есть для него мешок, в который он наваливает, насыпает все, что ему, Мережковскому, в данный момент нужно и удобно. Пусть читатель сам переваривает все, как знает. И это для Мережковского характерно, определяюще. Поэтому у него люди часто совершают поступки и произносят слова, которые не соответствуют ни их возрасту, ни их характеру. Автору это сейчас нужно – и это вставляется… Что? Нехудожественно? А ему нравится… Каждый герой становится как бы пустым портфелем, в который автор вложит – сортируя свои огромные материалы и бесчисленные выписки – то, что больше никуда не устраивается и не помещается. Однако для таких описаний, как церковный собор, происходящий в присутствии Юлиана Отступника – этот образ портфелей еще слишком невыразителен. Автор исчисляет там много ересей, такое множество, что он не может создать столько живых лиц по числу этих ересей. Тогда он делает следующее: он пользуется лицами, как карточками для каталога ересей; шел епископ такой-то – его ересь была вот в чем, шел священник такой-то – с такою-то ересью и т. д. Потом все они начинают на соборе галдеть и драться – каждый владеет якобы истиной; все срамят в побоище свою мнимую очевидность – и победителем остается Юлиан.