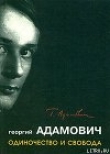Текст книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 60 (всего у книги 69 страниц)
Ю. ТЕРАПИАНО
ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ[207]207
Впервые: Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 22–32.
[Закрыть]
То, что я могу сказать здесь о Мережковском, будет, конечно, неполно и может коснуться только некоторых, наиболее интересных для нас сторон его творчества.
Мережковский многопланен, сложен в смысле своих концепций, а также в силу огромного количества историко-религиозных данных, которыми он постоянно оперирует («полководец цитат!»); он порой зыбок, потому что его прозрения в таких случаях опираются лишь на вспышки его личной интуиции, а не на какие-нибудь объективно доказуемые положения, но в то же время, несмотря на весь его «гностицизм» и книжность, – прост в основном: «Верую, Господи, помоги моему неверию!».
Он любил утверждать существование духовных реальностей, с негодованием и со всей силой своего темперамента нападая на равнодушных, потому что равнодушие, «мещанское благодушие» (для которого Бог, Бессмертие и Страшный Суд, как говорил он, «хотя, может быть, и правда, но, откровенно говоря, не интересны! Библия? Скучная книга. Библия, – для скучных людей!») хуже, чем самый яростный атеизм или явное богоборчество…
Тайна судьбы человеческой души, точнее – не одной «души», а «духо-плоти», и мучительная надежда на возможность преображения – тема Мережковского.
Такая постановка вопроса обнаруживает в нем, прежде всего, мыслителя христианского.
Именно в качестве христианина Мережковский отталкивается от всех нехристианских представлений о человеке и утверждает христианскую концепцию: человек не есть дух или лишь «душа», он есть целостность духа, души и тела, т. е. «духо-плоти».
Весь древний мир – не только эллинизм, но почти весь Древний Восток, не говоря уже об индусских воззрениях, – утверждал свое отношение к человеку в виде учения о преобладании души и духа над телом.
Истинный человек есть бессмертная духовная сущность, «высшее Я», а тело – только тень и временное одеяние этого «Я», – утверждал древний мир. Говорить о каком-либо бессмертии тела, – просто глупость, а мечтать о возможности воскресения – величайший абсурд.
Только в Египте – и то, вероятнее всего, в Древнем и Среднем царствах – предполагалась какая-то форма существования души в каком-то теле за гробом, в блаженных полях Иалу, куда направлялись праведники, оправданные Озирисом на загробном суде. Но чем больше развивалась египетская культура, тем сильнее становился скептицизм и тем отвлеченнее и спиритуальнее делались взгляды на судьбу человека за гробом. Только «Ка», двойник человека (или его двойники – их заупокойные египетские тексты насчитывают иногда до шестнадцати), оставался около мумии, погребенной в замурованной навеки гробнице. Высшие же начала человека, так же, как и в других спиритуальных концепциях древнего мира, – душа «Ба» и дух «Ху» – «возносились в небо». Египтологам, впрочем, еще до сих пор не ясно, как именно понимали египтяне погребальный ритуал, совершавшийся над покойником, обряды «воскрешения» мумии – открывания рта, ушей и т. д., после чего покойник считался «воскресшим во Озирисе», но во всяком случае это «воскресение» еще далеко от христианской идеи воскресения.
О преображении мира после Страшного Суда и о (предшествующем ему) воскресении умерших учат только две религии: зороастризм (маздеизм) и христианство. Обе эти религии возвещают полное преображение Земли и населяющих ее живых существ после Суда:
И будет новая земля
И новое небо…
С точки зрения научной, мессианство, понимаемое духовно, а не в виде посланного Иеговой политического и военного вождя еврейского народа, а также учение об эсхатологии, т. е. о конце этого мира и возникновении после Суда и всеобщего воскресения – были заимствованы евреями у персов.
Так или иначе, воззрение на человека как на духо-плоть и ожидание преображения мира – характерная особенность этих двух религий.
Поэтому совершенно неверно распространенное мнение, что Мережковский будто бы ставил знак равенства между всеми «заветами», подчеркивая во всех наличие одной и той же правды.
Только в смысле пророчеств о пришествии Сына он находится в согласии с учением древности, но в смысле учения о человеке – в полном разладе.
Представление индусов (а через них – орфиков и других эллинских тайных учений) о перевоплощении душ казалось Мережковскому не только не нужным, но даже еретическим, вредным. Он слышать не хотел о «перевоплощенцах».
В представлении Мережковского, судьба мира проходит через три основных этапа, через три зона: Отца – Бога-Творца, Бога Ветхого Завета; Сына – Христа, эон, длящийся и ныне; а затем должен открыться «Третий завет» – завет Духа, имеющий выявить полноту христианского откровения.
Идея «Третьего Завета» в первый раз сформулирована калабрийским монахом Иоахимом де Форье, предшественником Св. Франциска Ассизского.
Первый завет – жизнь под законом; второй – под благодатью – Царство Сына; и Царство Духа – жизнь в полной любви.
В понимании Мережковского, Христос, освятив плоть, посредством своего воскресения и победы над адом сделал возможным немедленное приближение «конца истории», лежащей в плоскости дурной бесконечности, а также и раскрытие нового эона – преображения мира, но люди в большинстве, даже иудеи, не поняли Его и не пошли за Ним, отдалив таким образом на неопределенное время возможность наступления Конца.
Таким образом, Мережковский был устремлен из прошлого, через настоящее, к будущему. Ненавидя и отбрасывая идею «плоской», по его словам, материалистической эволюции, он хотел наступления взрыва, переворота, духовной революции, – как сказано в предании, в одном из «логиа аграфа»:
«Если не перевернетесь (не изменитесь), не можете войти в Царство Божие».
Верил ли он? Думаю, что в Бога он всегда верил. Поэтому, вопреки репутации, установившейся за ним еще в России, Мережковский богоискателем не был, т. к. быть богоискателем означает искать Бога, т. е. еще не иметь Его, не верить в Него.
Но, веруя в Бога, Мережковский мучительно и напряженно искал Христа, которого хотел понять и познать Его, вместо того чтобы, подобно Савлу, ощутить Его на пути в Дамаск – позабыть хотя бы на время о разуме и отдаться чувству.
Мне кажется, именно поэтому в религиозных концепциях Мережковского столько напряженности и внутренней неразрешенности. У него везде – буря, и нигде нет тишины.
Поэт, критик, исторический романист, мыслитель… Вряд ли есть основание останавливаться на стихах Мережковского, хотя он начал как поэт. Было время, когда некоторые его стихи – «По горам, среди ущелий темных», «Леда» или самоутешение отвергнутого: «…Есть у меня и гордая свобода… И Рафаэль, и Данте, и Шекспир…» (не имея под рукой текста, цитирую по памяти) – читались на всех журфиксах и студенческих вечерах, читались с пафосом, с завыванием, с какой-то характерной в то время нечуткостью.
В эмиграции, в журнале «Новый Корабль» и еще кое-где, Мережковский напечатал несколько стихотворений, трогательных своим религиозным ощущением, но с точки зрения поэзии – слабых.
Зато Мережковский-критик до сих пор не устарел, и многие его критические статьи остаются в силе и по сегодня. Он первый, после долгого упадка нашей критики, поднял ее на европейский уровень, придал ей глубину, указал новые пути в смысле подхода к исследованию внутреннего мира поэтов и писателей.
«Вечные спутники», анализ творчества Толстого и Достоевского, «Гоголь и черт» и ряд других критических работ Мережковского по заслугам могут быть названы ценнейшими книгами.
Но все же критика не была главным призванием Мережковского, по существу он был писателем и мыслителем.
В смысле оценки Мережковского-писателя, автора исторических романов, между современниками до сих пор нет согласия. Одни критикуют его стиль и манеру изображать исторические персонажи, другие не согласны с философским содержанием его романов.
Между эпохой Мережковского и современностью есть глубокое расхождение, но особенно в тех кругах, где восстают на философию Мережковского, сказывается прежде всего упадок культурного уровня современности, по сравнению с уровнем дореволюционной России. Ответственность зачастую падает на слушателей, на читателей, уже не способных мыслить на том уровне, на каком мыслил (даже в эмиграции) Мережковский.
Сказанное не означает, что вся религиозная проблематика Мережковского, его понимание «Трех Заветов» и, особенно, учение о Царстве Духа должны быть приняты без критики, но все же духовное наследие Мережковского, его вклад в сокровищницу философско-религиозной мысли значителен.
От целого ряда вопросов, поставленных Мережковским, например, идеи об Иисусе Неизвестном, т. е. еще непонятом и непознанном, о предтечах – предшественниках будущего Завета Духа и т. д., нельзя отказываться с легкостью – ничего, мол, здесь нет нового и значительного.
Духовный путь Мережковского начался с его знаменитой трилогии. В начале ее, в «Юлиане Отступнике» и даже в «Леонардо да Винчи» Мережковский еще не знает окончательно, с кем он. С духом свободы? С древней языческой мудростью, как его герой, цезарь Юлиан? Или с какой-то новой, смутно ощущаемой, еще не вполне ему открывшейся истиной?
В «Леонардо да Винчи» этот вопрос еще более осложняется.
«Воскресшие боги» – языческая философия, языческая наука, языческое искусство выходят из-под спуда, из-под земли, и вместе с ними – кто? Кто «Он»: Ангел-Денница, Люцифер Светоносный, восставший на тьму и мрак Яльдоваофова мира, т. е. на творца этого низшего мира, «земли», по учению гностика Базилида? Кто Он – Антихрист? Просто дьявол, председатель средневековых шабашей, с которым борется инквизиция, соблазнившая Джиованни, ученика Леонардо да Винчи? Теза и антитеза – те самые «теза и антитеза», о которых Мережковский будет твердить «сорок лет», со всей ясностью появляются в «Леонардо да Винчи».
Помимо антитезы явной, люциферической, есть там и скрытая антитеза – колдовства, шабаша и черных месс.
Кассандра, олицетворяющая служительницу языческого света и знания, посланница «воскресших богов», вдруг превращается в ведьму и вместо Вакха служит «мэтру Леонардо», дьяволу, председателю средневековых шабашей.
Да и сам великий художник Леонардо (какое многозначительное совпадение имен, к тому же подлинных, а не придуманных Мережковским!) – человек странный, и недаром он так подозрителен для инквизиторов. Кто он? Антихрист? Просто неверующий гениальный ученый, предшественник атеистов нашего времени? Или же Леонардо – предтеча имеющего наступить некогда Царства Духа, провозвестник Третьего Завета?
Чей опыт самому Мережковскому ближе, с кем он? Откуда у него самого такие колдовские знания, верна ли идея о превращении античных богов в дьяволов, а вакханалий – в бесовский средневековый шабаш?
Следует отметить также, что с чисто литературной точки зрения «Леонардо да Винчи» является самой удачной книгой Мережковского во всей серии его исторических романов. Образы Леонардо, его учеников, герцога Мора, ведьмы Кассандры и других, а также общая атмосфера тогдашней Италии очень удались Мережковскому. Сам он тоже считал «Леонардо да Винчи» лучшим из своих исторических романов.
Писал он его в Италии, переезжая с места на место по следам Леонардо да Винчи. Впоследствии даже итальянцы удивлялись, как это иностранец мог так верно почувствовать самый дух Италии.
Загадочная личность Леонардо да Винчи, его двоящееся недоговариваемое отношение к Богу и восстающая из-под земли языческая красота и мудрость на фоне христианства в понимании Савонаролы, и полет Александра Борджиа, шабаши колдунов и ведьм, ужасы инквизиции и непрерывных войн – как нельзя лучше гармонировали с таким же не вполне определяющимся состоянием души самого Мережковского.
Небо вверху – небо внизу,
Звезды вверху – звезды внизу,
Что наверху – то и внизу,
Если поймешь – благо тебе! —
вспоминает Кассандра слова «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста.
А ученик Леонардо, Джиованни, мучается и никак не может понять, с кем его учитель – с Богом или с дьяволом?
Гибнет Савонарола, сжегший в числе прочих «суетных произведений мира сего» «Леду» Леонардо да Винчи, гибнет его покровитель, герцог миланский Моро, гибнет незаконченная статуя Сфорца в Милане, которую так и не успел отлить художник, отличавшийся чрезвычайной медлительностью, гибель угрожает «Тайной вечере», написанной на сырой стене. Сам Леонардо, после падения Моро, нигде не находит для себя места на родине, эмигрирует и умирает на службе у французского короля, уступив ему перед смертью «Джоконду».
Не столь удачным, как «Леонардо да Винчи», был третий роман трилогии – «Петр и Алексей». Здесь Мережковский, во-первых, увлекся примером большинства наших писателей, кроме Пушкина; Петр у него – в черных, излишне черных тонах, а сам Мережковский как будто предпочитает его реформам прежнюю Московскую Русь с ее историческим православием, и даже «старую веру».
Царевич Алексей, принесенный Петром в жертву новой России, вызывает большую симпатию у Мережковского; писатель передовой тогда, в ту эпоху, Мережковский сделался сторонником антипетровской реакции.
Как мы знаем, в промежутке между написанием «Леонардо да Винчи» и «Петра и Алексея» многое переменилось в самом Мережковском. После «Леонардо да Винчи» начинается его обращение к христианству, эпоха религиозно-философских собраний и затем «Религиозно-философского общества».
Трилогия в целом, несомненно, лучшее из всего, что было дано Мережковским в области исторического романа. Его последние произведения написаны менее вдохновенно, в них нет того метафизического воздуха, конфликта тезы и антитезы, Христа и Антихриста, которые составляют основу трилогии.
А ведь именно метафизика и поднимала трилогию над уровнем обыкновенных исторических романов!
За намек на участие Александра I в заговоре против Павла Мережковский подвергся неприятностям со стороны правительства, и это усилило в нем оппозиционные настроения. В дореволюционные годы и он, и Зинаида Гиппиус считались писателями, настроенными весьма либерально, и только после захвата власти большевиками оба они стали эволюционировать в обратном направлении. Но разлад с некоторыми левыми кругами дореволюционной России наметился у Мережковского еще задолго до революции. Причиной тому были его религиозно-философские концепции и особенно поворот к христианству, что в ту эпоху понималось, как подозрительная связь и кругами реакционеров и мракобесов. Этим и объясняется многое в нападках на Мережковского со стороны некоторых авторов.
Кроме того, некоторые были не согласны и с «богоискательством» Мережковского, вменяли ему в вину его якобы слишком литературное, поверхностное отношение к этим вопросам. Были и прямые измены друзей, например Андрея Белого, говорящего о Мережковском недоброжелательно и зло в своих воспоминаниях. Правда, Блок, вначале так же, как и Белый, бывший близким другом Мережковских, после тоже отошел от них, смущенный тем, что «они всегда говорят о несказанном» (т. е. делают предметом разговора за чайным столом то, о чем на людях нельзя говорить), но от личных выпадов против Мережковских, не в пример Белому, Блок воздержался.
Так же и в эмиграции Мережковского упрекали в холодности и книжности, в стремлении казаться пророком, в претензии быть духовным учителем, в неискренности, в скрытой несерьезности, в эгоизме, в отсутствии любви к людям и так далее, и так далее. Кое-что в этой критике, вероятно, попадало в цель, кое в чем Мережковский был действительно виноват – так, например, в нем была какая-то доля игры, но чаще всего, будучи сосредоточен на своих мыслях, он задевал тем, что смотрел «куда-то поверх собеседника», а это – обижало. Не стеснялся также Мережковский и в возражениях своим противникам на диспутах «Зеленой Лампы» – этого ему не прощали.
Однако, если мы вспомним стиль его эпохи, т. е. эпохи декадентства и символизма, с общей тогда для всех поэтов и писателей и даже обязательной позой – поэт – «маг», «священнослужитель красоты», «учитель»; то, что говорили и писали тогда и Вячеслав Иванов, и Валерий Брюсов, и Федор Сологуб, то Мережковский окажется среди них не таким уж «красующимся».
К тому же, если в разговорах «о несказанном» и была доля позы, то все же интерес к этим вопросам Мережковский сохранял всю жизнь, даже после революции, даже в эмиграции, когда эти темы уже перестали быть модными и «рентабельными», в смысле отношения читателей.
Подобно другим писателям, Мережковский сначала с энтузиазмом принял Февральскую революцию, но вскоре при виде начавшейся разрухи на фронте и в тылу его охватил ужас.
Дневники Зинаиды Гиппиус, тогдашние статьи Мережковского, их попытки найти в Керенском «настоящего человека» свидетельствуют об этом.
Еще и раньше, до революции, после 1905 года, Мережковский почувствовал верно и, можно сказать, пророчески страшную сущность грядущей русской революции и ее мировое значение. В предисловии к французской книге «Царь и революция», в 1907 году, Мережковский писал: «С русской революцией рано или поздно придется столкнуться Европе, не тому или иному европейскому народу, а именно Европе как целому. Мы горим, в этом нет сомнения, но что мы одни будем гореть и вас не подожжем, так ли это несомненно? Мы – ваша опасность, ваша язва, жало сатаны или Бога, данное нам в плоть. Вы еще от нас пострадаете… Еще Бакунин предчувствовал, что окончательная революция будет не народною, а всемирною. Русская революция – всемирная. Когда вы, европейцы, это поймете, то броситесь тушить пожар. Но берегитесь: не вы нас потушите, а мы зажжем вас».
После Октябрьского переворота Мережковские оказались в ожесточенной оппозиции советской власти. Известен разговор с Блоком Зинаиды Гиппиус. Она отказалась «общественно» пожать руку Блоку, стоявшему за сотрудничество с большевиками, пожала «только в личном порядке».
В воспоминаниях Андрея Белого, написанных значительно позже этой эпохи и содержащих немало угодничества перед властями предержащими Советской России, уход Мережковского в эмиграцию представлен как следствие того, что советская власть не пожелала признать Мережковского первым писателем России, что, конечно, есть ложь. Обычная, истерическая лживость Белого заставила его в то время клеветать не только на Мережковского, но и на Блока.
Многие за границей осуждали Мережковского за его увлечение Пилсудским, Муссолини и в самом конце жизни, в 1941 году, Гитлером. Если смотреть на Мережковского, считая его ответственным за его политические увлечения, то, конечно, здесь необходимо сурово обвинить его, как многие и делают. Но суд этот не прав, если принять во внимание психологию Мережковского. Он вовсе не склонен был безгранично восторгаться диктаторами и их политическими программами, а искал совсем другого. Он ощущал себя предтечей грядущего Царства Духа и его главным идеологом. Иными словами, в его представлении они должны были нуждаться в нем, а не он в них. Диктаторы, как Жанна д’Арк, должны были исполнять свою миссию, а Мережковский – давать директивы. Наивно? Конечно, наивно в плане истории, но в метафизическом плане, где пребывал Мережковский, «наивное» становится мудрым, а «абсурдное» – самым главным и важным; так верил Мережковский.
Муссолини, который на предложение Мережковского выступить немедленно в крестовый поход против большевизма – «предельно дьявольского зла в мире», ответил, что не Италии же, с ее ограниченной военной мощью, начинать борьбу с могучей советской армией, «в плане дурной бесконечности», как заявил потом Мережковский, «был прав, но в плане метафизическом – оказался маловером».
Так рассказывал на одном из «воскресений» у себя в доме Мережковский, вернувшись из второй, неудачной поездки в Италию.
«Я сначала подумал, что Муссолини – воплощение духа земли и провиденциальная личность, а он оказался обычным политиком-материалистом – пошляк!» – воскликнул Мережковский.
Таким же «обыкновенным политиком-пошляком» раньше оказался Пилсудский, а потом Гитлер. Все они думали об «истории», т. е. о «дурной бесконечности» и не умели видеть «конца истории». А Мережковский, который только и жил метафизикой, никак не мог понять, что другим людям она совершенно чужда, и в каждом новом очередном вожде подозревал такого же, как и он, метафизика.
Вот почему и в прошлом Мережковский так же увлекался Наполеоном, видя в нем «атланта с двумя душами – ночной и дневной». Промыслом соединенного с судьбами России.
В книге о Наполеоне Мережковский, быть может, хотел самому себе уяснить, каким должен быть «мировой вождь», и ради этого опыта готов был поступиться многим.
Мережковский соглашался терпеть «наполовину христианскую» идею Наполеона, не требуя от него, чтобы эта идея сделалась вполне христианской.
Последними историческими романами Мережковского являются «Тутанхамон на Крите» и «Мессия».
Открытие гробницы Тутанхамона, наделавшее столько шума, вероятно, явилось внешним поводом для обоих романов. Кроме того, образ Ален Хотена IV, или Ахенатона, объявившего культ единого бога Атона в конце 18-й династии Египта, дал Мережковскому возможность изобразить предтечу Христа.
Тутанхамон, вступивший на престол после Ахенатона, ставший на сторону жреческой партии, защищавший прежнюю веру, умер молодым человеком лет восемнадцати, Мережковский же изобразил его почему-то уже пожилым человеком.
«Тутанхамон на Крите» – последняя удача Мережковского в области исторического романа.
Он всегда умел как-то особенно хорошо ощущать средиземноморскую атмосферу, верно схватил в ней характерную черту – устремленность к движению, к полету, в отличие от египетской тяжести и монументальности, картины критской жизни у него прелестны. Зато «Мессия», действие которого происходит в Египте, – полная неудача.
Сам фараон Ахенатон и все другие египтяне (кроме критянки Джо) ему совершенно не удались, евреи вышли схематичными, и все они, рассуждая в духе героев «Петра и Алексея», похожи скорее на русских бояр и раскольников, чем на исторических египтян и евреев, если верно, что евреи были уже в то время «так давно» в Египте.
«Мессия» был последним историческим романом Мережковского. После него Мережковский открыл новый этап своего творчества книгой «Тайна Трех».
Для того, чтобы определить жанр таких книг, как «Тайна Запада. Атлантида – Европа», «Иисус Неизвестный», «Павел и Августин», «Франциск Ассизский», «Жанна д’Арк», «Данте» и еще не опубликованная «Св. Тереза Малая» (закончив которую, Мережковский скоропостижно скончался), – не существует еще точного технического термина.
Лучшей характеристикой каждой книги является ее основная идея: «духовный и моральный кризис как причина гибели древней Атлантиды, урок для нас». «Почему во время пришествия Христа не наступило преображение мира?», «Люди, которые были предтечами третьего Завета Царства Духа» – и так далее. Книги эти до сих пор еще не получили должной оценки и беспристрастного разбора их – это дело будущего.