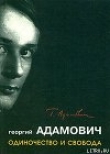Текст книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 69 страниц)
Еще в Сицилии мы узнали, что журнал «Мир искусства» – основан и с осени (если не ошибаюсь) будет выходить. И Д. С., и я должны были быть там близкими сотрудниками, – хоть журнал проектировался скорее художественный, нежели литературный. Впрочем, в первое время, он был столько же литературным, сколько и художественным.
Он уже выходил, когда осенью (1899 г.) мы вернулись в Петербург. Журнал, естественно, сблизил нас с «кружком Дягилева», – на этом кружке и на журнале мне надо остановиться.
Я не могу здесь говорить подробно о тех «новых» людях данного времени, которых мы встречали, но о которых у меня уже есть «подробная запись в моей книге „Живые лица“, – как о Розанове, Сологубе, Брюсове, Блоке и других. Многие из них по-своему замечательны, все характерны для эпохи конца и начала нового века, а равно и другие, другого слоя, с которыми немного позже пришлось нам столкнуться. Но об этих последних – речь впереди. Сейчас, когда я пишу, почти все, и замечательные, и просто любопытные, – забыты. Но будущая Россия вспомнит о них, – о Розанове, например.
Кроме нежеланья повторяться, – писать подробно о тех, о которых я уже писала, – я не желала бы отходить и от прямой моей темы, ибо я не пишу общих мемуаров, а лишь о жизни Д. С. Мережковского, которая вся проходила и прошла перед моими глазами. Но, конечно, и для этого мне приходится говорить и о тогдашней русской эпохе, и о людях, наиболее близко с нами соприкасавшихся, и о наших с ними взаимных отношениях.
Время было, по-моему, интересное. Что-то в России ломалось, что-то оставалось позади, что-то, народившись, или воскреснув, стремилось вперед… Куда? Это никому не было известно, но уже тогда, на рубеже веков, в воздухе чувствовалась трагедия. О, не всеми. Но очень многими, в очень многих. Во Влад. Соловьеве, умершем как раз накануне XX века, например. Но в нем, несомненно, имелась пророческая жилка. А человек позднейшего поколения и склада, Блок, – он весь был – как я о нем писала – ходячая „трагедия и беспомощность“. Но о Блоке и его предчувственной трагедии (не личной) говорено было много и другими.
Возможно, что среди людей эстето-художественного возрождения это не так замечалось, в кружке „Мира искусства“, например, – если его брать en bloc,[101]101
Целиком (франц.).
[Закрыть] но ведь и там, несмотря на первоначальную его сплоченность, люди все-таки были разные…
Я назвала этот кружок „дягилевским“, и название имело точный смысл. Без Дягилева вряд ли создался бы и самый журнал. Без его энергии и… властности. Дягилев был прирожденный диктатор. Скажу об этом ниже. Когда мы познакомились с участниками кружка (гораздо ранее возникновения журнала), он состоял из окружения Дягилева следующими лицами: во-первых – Д. В. Философов, двоюродный брат Дягилева, затем А. Н. Бенуа, Л. Бакст, В. Нувель и Нурок, который, впрочем, скоро умер и остался для нас поэтому загадочным. Остальные (главное ядро) были и далее на своих местах.
Редакция „Мира искусства“ помещалась тогда в квартире Дягилева, на углу Литейного и Симеоновского, – там были и первые „среды“. Позднее все это перенеслось в более пышное помещение на Фонтанке.
„Среды“ были немноголюдны. Туда приглашались с выбором. Кажется, это были тогдашние художественные и литературные „сливки“, – так или иначе – под знаком эстетизма, неоэстетизма. Все, на чем лежала малейшая тень или отзвук 60-х годов, было изгнано, как и слишком долго царившие в России идеи „общественные“ – с их узкими мерками. К людям прилагалась лишь мера таланта или хотя бы воли к освобождению от традиционных пут. Нельзя было там вообразить, например, какого-нибудь художника из „передвижников“,[102]102
Давние выставки картин, ежегодные, переезжавшие потом в разные города (передвижные) и обычно состоявшие из картин старых, признанных традиций художников. (З. Г.)
[Закрыть] а среди литераторов – писателя или поэта, давно „общепризнанного“ за гражданский уклон.
Но Розанов, мало разбиравшийся в художественном искусстве, Сологуб, и даже старый, но поэт Минский, отказавшийся от своих первых „гражданских“ стихов (их и забыли все, так они были плохи: „О родина моя, о родина терзаний“), – все бывали на средах постоянно.
Любопытный Розанов скучал там порою, он не умел участвовать в общем разговоре, умел лишь – все равно с кем – говорить интимно, – а с Сологубом не поинтимничаешь. Женщин же (с ними это ему больше удавалось) на „средах“, кроме знаменитой Дягилевской нянюшки, я не помню, их как будто совсем там не появлялось.
„Мир искусства“ был первым в России журналом эстетическим – в хорошем смысле. Он начал необходимую борьбу за возрождение пластических искусств в России. Возрождение литературы, даже как словесное искусство, не входило непосредственно в его задачу. Но при широте взглядов новаторов-создателей журнала не могла остаться в стороне и новая литература. Отсюда наша близость к этому кружку и его журналу. Мы в нем пользовались непривычной нам свободой. Не говоря о стихах, я помню две мои статьи, которые совершенно не подходили к главной задаче журнала (что признавалось и мною, и редакцией), были, однако, там напечатаны.
Длинное исследование Д. С. о „Льве Толстом и Достоевском“ было кончено, – и, разумеется, ни в каком тогдашнем русском журнале (из „толстых“, как их называли, т. е. „литературных“ ежемесячников) не могло появиться. Это было так ясно, что и попытки мы считали лишними. И вот серьезный, почти трехлетний, труд Мережковского впервые был напечатан на страницах „Мира искусства“. Эти широкие страницы часто были покрыты (тогдашнее новшество), поверх текста, прозрачными, иногда цветными рисунками того или иного художника. По тексту „Льва Толстого и Достоевского“ гуляли, помнится мне, и бредовые тени Гойя. Но это никого из нас не смущало и серьезного отношения редакторов к Мережковскому не изменяло.
Было там напечатано и письмо-статья Андрея Белого, весьма отвлеченное (первое его выступление в печати), – он никому, ни редакторам, был тогда неизвестен – даже по имени, – так как подписался просто „студент-естественник“.
Журнал тогда был в расцвете: Дягилев действовал с обычной энергией: вел журнал (сам в нем почти никогда не писал, зная, вероятно, что это не „его“ дело), устраивал попутно и всякие выставки, очень удачные. Лишнее, думаю, упоминать, что о „балетах“ тогда еще речи не было, это явилось у Дягилева гораздо позже.
Конечно, вопросы, которые главным образом занимали в последние годы века Д. С. и о которых осенью 1899 года, перед годом нашего отсутствия из Петербурга, Д. С. говорил с людьми, дружественно к нему относящимися, между прочим – и с людьми дягилевского кружка, – не были главными для них, и менее всего для самого Дягилева. Но для того, кто мог бы знать хоть немного общее положение культурного русского слоя в эти годы, было бы понятно, что все так называемые „новые“ группировки не могли быть чужды друг другу. Отсюда близость кружков, естественное скрещиванье путей, – хотя бы на краткое мгновенье, за которым шла часто и перегруппировка, и вливанье во все группы новых людей.
Идея петербургских Религиозно-философских собраний (о них я далее буду писать подробно) родилась, конечно, не в кружке „Мира искусства“, хотя в журнале, задолго до их открытия, была напечатана моя статья о смысле и желательности таких собраний. Но не только они, а даже то, что они привели нас к созданью собственного журнала, задачи которого весьма отличались от задач „Мира искусства“, не послужило к разрыву с „дягилевским“ кружком, только ослабило наше сотрудничество в журнале.
Как ни сплочен был этот кружок, но люди-то, тесно Дягилева окружавшие, были все-таки разные (что я уже заметила выше). Большинство, конечно, подходило Дягилеву, гармонировало с его идеями и задачами: редкая сплоченность не могла же объясняться только диктаторскими свойствами Дягилева. А сплоченность – действительно редкая: ведь даже на те собеседованья, осенью 99 года, когда поднялись впервые разговоры о религии и христианстве в частности, кружок являлся почти в полном составе. То же было и тогда, когда открылись Собрания. Там можно было, положим, встретить всех. Но Дягилеву, кажется, менее других было свойственно интересоваться тем, что делалось в зале Собраний, – однако он там бывал вместе с другими своими… не знаю, как сказать точнее: друзьями? приближенными? содеятелями? – все равно.
Конечно, ни Бакст (лично мы с ним очень дружили), ни Нувель (тоже наш приятель) не могли тоже иметь много связи с занимавшими нас вопросами: но Ал. Бенуа, например, считавшийся и считающийся только „эстетом“, отнюдь не был тогда этим вопросам чужд, – стоит взглянуть в старый наш журнал. А ближайший друг и помощник Дягилева, его двоюродный брат Д. В. Философов, сразу проявил самый живой интерес к этим вопросам и даже принимал участие в хлопотах по открытию собраний.
Мы этому, конечно, радовались. На кружок в целом, и на главу его – Дягилева – никто и не возлагал надежд в этом смысле. Слишком он был совершенен. Все диктаторы более или менее совершенны, – как prédestinés.[103]103
Предназначенные (франц.).
[Закрыть] A Дягилев, повторяю, был прирожденный диктатор, фюрер, вождь.
Я отнюдь не отрицаю диктаторов и диктатуры, напротив, я признаю, что диктатор может быть явлением провиденциальным, спасительным, во всяком случае – положительным (все равно в какой области и какие мы возьмем „масштабы“). Это не мешает нам, однако, относиться к диктатуре и ко всякому диктатору с каким-то внутренним отталкиванием. Дело, должно быть, просто во „власти“ одного над многими. Отсюда получаются нередко превосходные результаты, особенно если диктатор действительно талантлив. Их нельзя не признавать, не ценить. Но внутреннего отношения к диктатору это не меняет.
Такое отталкивание было у многих и у нас от прирожденного диктатора – Дягилева.[104]104
У З. H. это выразилось в форме эпиграммы. Привожу ее тем более, что она нигде не записана:
Курятнику петух единый дан.Он властвует, своих вассалов множа,И в стаде есть Наполеон – баран.И в «Мир искусстве» есть – Сережа. (В. З.)
[Закрыть] Без всякой враждебности (ведь мы смотрели со стороны), с признанием всех его талантов и заслуг, с уверенностью в его дальнейших успехах, но – со всегдашним чувством чего-то в нем неприемлемого: в его барских манерах, в интонации голоса, в плотной фигуре, в скорее красивом тогда – полном, розовом лице с низким лбом, с белой прядью над ним, на круглой черноволосой голове. Говорили, что он капризен и упрям. Но я не так вижу его. Он был человек по-своему сильный, упорный в своих желаниях и – что требуется для их достижения – совершенно в себе уверенный. Если эта самоуверенность слишком бросалась в глаза, – тут уж дело ума, в котором ему, при его хорошей образованности, не было никакой нужды, его заменяла разнородная талантливость и большая интуиция.
Его двоюродный брат, Д. Философов, обладая совсем другим характером, скорее пассивным, находился тогда вполне под его властью. В интерес, который Д. Философов проявил к вопросам, нас занимавшим, Дягилев, кажется, не очень верил, по крайней мере в серьезность такого интереса. Он нисколько не рассчитывал потерять такого верного, долголетнего своего помощника и не сомневался, что по уже намеченному дальнейшему пути они пойдут вместе. На всякий случай он хотел все-таки знать, что делается в новом углу, в нашем, где стал бывать его друг и спутник, а потому бывал и у нас, и сопровождал его на Собрания. Его мать, – не родная, но любившая его, как родного сына, Елена Валерьяновна, женщина удивительной прелести, с которой мы были близки (и Д. Философов тоже), бывала на Собраниях постоянно, говорили даже, что всю жизнь их и ждала.
Но мне пора перейти к этим собраниям и остановиться на них, так как они занимают довольно серьезное место в жизни Д. С. Мережковского, в его жизненном опыте, имевшем влияние на его последующую внутреннюю эволюцию, а кроме того, они имеют и объективный интерес, – для людей даже не русских, но интересующихся русской общественной жизнью того времени.
Осень и зима 1900–1901 гг., после нашего возвращения в Петербург, прошла вся внутренне – под знаком новых наших с Д. С. мыслей (о христианстве и церкви), а внешне – в работе в „Мире искусства“, в сближении с некоторыми из кружка (главным образом с Философовым), а также кое с кем из „духовного мира“. Последние – были завсегдатаями Розанова, – с ним мы тоже видались довольно часто. Эти лица из „духовного“ мира были не священники и не имевшие никакого официального положения в духовном ведомстве, а просто безобидные „церковники“, может быть, из старых его знакомых: он был женат на вдове священника (Первая его жена, которая его бросила и на которой он женился 19-тилетним мальчишкой, была лет на 25 его старше. Это не кто-нибудь иная, а известная любовница Достоевского, от которой он достаточно пострадал, а после него, и еще горше, пострадал и несчастный Розанов – от ее неистовства, – пока она его не бросила. Это – Полина в известном рассказе Достоевского „Игрок“. О ней, об ее историях с Достоевским и с Розановым у меня написано в статье о последнем.
Но к Розанову льнуло и православное духовенство, несмотря на его жестокие статьи по поводу христианства и Христа (см. „Темный лик“). С первого взгляда это кажется странным. Розанов ведь был „светский“ писатель при этом, – то есть „интеллигент“, слово, в духовном мире тогда „страшное“. Но, во-первых, был не интеллигент как прочие, „пугала из тьмы“, которые, мол, никакого Бога не признают, как и „благонамеренных“ журналов: он писал в „Новом времени“. Во-вторых (и это особенно для белого духовенства) чувствовалась в нем какая-то семейная теплота. А что он „еретик“ – не беда: еретик всегда может вернуться на правый путь. И он, Розанов, считался в духовном мире немножко enfant terrible,[105]105
Сорванец (франц.).
[Закрыть] которому многое прощалось. Так было и дальше, несмотря на его жестокие выпады на Собраниях против церкви, духовества, в особенности против монашества.
Д. С., между своим длинным исследованием „Лев Толстой и Достоевский“ и подготовительной работой к новому роману „Петр и Алексей“, писал более краткие статьи о целом ряде старых и новых, русских и иностранных писателей и деятелей, составивших целую книгу под названием „Вечные спутники“. Были ли эти более краткие „исследования“, хотя бы некоторые, напечатаны где-нибудь, кроме „Мира искусства“, я сейчас не припомню: но книга была целиком издана новым нашим другом П. П. Перцовым, поклонником Вл. Соловьева. Перцов вообще был первым издателем Д. С. Мережковского, как первым издателем-редактором нашего общего журнала, который стал выходить в 1901 году (с отчетами Собраний). Перцов был наш „содеятель“. Сам, как писатель не очень яркий, но человек с большим вкусом и большим умом.
Что касается книги „Вечные спутники“ – любопытно отметить, что тогдашнее ее появление не вызвало никакого внимания, если не считать всяких грозных нападок со стороны „либеральной“ прессы, хотя никакого „либерализма“, ни антилиберализма она не касалась: но это была одна из традиций – бранить Мережковского. Между тем в последние годы перед войной 14 года эта книга была особенно популярна и даже выдавалась, как награда, кончающим средне-учебные заведения.
Работа Д. С. не мешала нам сходиться в частные кружки для разговоров на ту же тему, как осенью 99 года, перед нашим путешествием. Приблизительно и участники их были те же. Но мне показалось (и Д. С. согласился, да и сам это заметил), что разговоры эти мало-помалу вырождаются в беспощадные споры, не очень даже оживленные, и что каждый из тех, кого мы считали „близкими“, думает больше о чем-то своем, личном, нежели о вопросе общем. Один из них, помнится, любил отвечать на те или другие предложения откровенным: „Да, но у меня свои задачи“.
Особенно чувствовался тут разлад с членами „дягилевского кружка“. Поэтому я предложила Д. С. поговорить отдельно с Философовым, как с несомненно более к нам близким, и устроить иногда разговоры только втроем. Это имело успех, и, помимо вечеров, где собирались и другие, мы виделись в определенный вечер у нас. У него, оказывается, у самого уже была эта мысль.
Так шла зима. Собственно с „Миром искусства“ у нас никакого охлаждения не было. Мы бывали там каждую „среду“, где так же было интересно и весело. Мы с Перцовым часто увлекались в то время „домашними“ пародиями, в прозе и в стихах. В них мы не щадили и самих себя, поэтому некому было обижаться. Да это вообще не было принято. В том же „Мире искусства“ имелась налево от передней маленькая комната, увешанная карикатурами „своих“ художников на „своих же“, т. е. на участников и сотрудников. И всех это лишь забавляло.
Дело, однако, шло к лету, когда все мы разъезжались.
Отмечу, что этой ранней весной Д. С. был болен воспалением легких, а я – сильным ларингитом, но к маю мы оба поправились. Надо было все-таки уезжать скорее на дачу – мы жили это лето под Лугой, с моей семьей, как всегда.
В самые последние дни перед отъездом я несколько раз видалась с одним из членов „дягилевского“ кружка,[106]106
С В. Ф. Нувелем. (В. З.)
[Закрыть] по его просьбе. Он хотел будто бы выяснить свою бóльшую близость к собственно нашим темам, чем мы это, видимо, считаем.
Из наших разговоров ничего, конечно, не вышло. Я убедилась только, что в дягилевском кружке Философов ценится не одним Дягилевым. Тот, наш приятель, с которым я говорила, был обеспокоен вовсе не нашими вопросами, а интересом, который Ф. к ним проявлял. Он точно хотел „спасти“ Ф. от них – и от нас. Я прямо сказала ему, что если это его „задача“, – то, во всяком случае, у Д. С. и у меня „другие задачи“, в которых Ф. не играет главной роли.
Мы, впрочем, не поссорились, даже переписывались летом, но из переписки тоже ничего не вышло.
Летом Д. С. много, как всегда, работал: подготовка к новому роману. О наших новых „вопросах“ мы не говорили, – их, конечно, не забывая.
В сентябре семья моя уехала в город, – у сестер начинались занятия: одна была на медицинских курсах, другая в рисовальной школе Штиглица, третья – в Академии. Мы остались в пустой даче вдвоем.
Мы возвращались как-то с прогулки, из лесу, на закате. (Я пользуюсь здесь старыми моими записями, дневниками, которые привезла в Париж в 1905 году и нашла их сохранными в нашей квартире, когда в 20 году мы вернулись сюда эмигрантами. Потому за точность рассказа о Собраниях – и далее – я ручаюсь. Сохранились у меня также и записные книжки парижские, годов 1907 – 08.)
Итак, возвращаясь осенью 1901 г. с прогулки, я спросила Д. С.:
– Что ты думаешь делать эту зиму? Продолжать вот эти наши беседы?
Он не очень решительно посмотрел на меня и неуверенно сказал:
– Да… я думаю продолжать. Собрать их всех и предложить высказаться определенно, чего они хотят – и чего не хотят. Там и посмотрим…
В этот день я ничего больше не сказала, но на другой, за завтраком, решила продолжать разговор:
– Разве ты не видишь, – отлично видишь, – что все эти беседы ни к чему нас не ведут. Говорим о том же, с теми же людьми, у которых у каждого своя жизнь, и никакого общения у нас не происходит. То есть внутреннего, настоящего. Даже с Ф., который нам ближе других и больше понимает главную идею. Разве не стоял все время между нами страшный и нерешенный вопрос: а какая она, эта идея, и вообще все это имеет отношение к жизни? Нашей, и не только даже нашей, а просто к жизни?
Д. С. сказал только задумчиво: „Да“. А я продолжала:
– По-моему, нам нельзя теперь говорить о далеком, об отвлеченных каких-то построениях, очень уж мы беспомощны. И ничего мы тут не знаем, – я, по крайней мере, чувствую, что чего-то очень важного мне не хватает. Мы в тесном крошечном уголке, со случайными людьми стараемся слепливать между ними искусственно-умственное соглашение, – зачем оно? Не думаешь ли ты, что нам лучше начать какое-нибудь реальное дело в эту сторону, но пошире, и чтоб оно было в условиях жизни, чтоб были… ну, чиновники, деньги, дамы, чтоб оно было явное, и чтобы разные люди сошлись, которые никогда не сходились и не сходятся, и чтобы…
Д. С. вскочил, ударил рукой по столу и закричал: „Верно!“ Я очень обрадовалась, мне хотелось договорить, что ведь это не помешает нам создавать и внутренние наши круги, если он найдет это нужным, – напротив… Но договаривать не пришлось, так как Д. С. все это сам уже понял во всем объеме, – вероятно давно понимал и знал. Мы в тот день ходили до вечера по осеннему лесу и только об одном этом и говорили.
Очень скоро вернулись мы в Петербург и тотчас принялись за дело.
Определенно мысль наша приняла такую форму: создать открытое, по возможности официальное, общество людей религии и философии, для свободного обсуждения вопросов церкви и культуры.
Конечно, мы не обманывали себя: самый проект таких собраний, такого общества, казался, на первый взгляд, неисполнимой мечтой. Надо помнить, в какое время, при каких условиях, все это происходило.
Прежде всего: ведь идея Д. С., или идея нашей группы, идея христианства, была, в то же время (как идея и Вл. Соловьева), идеей церкви. В открытом обществе мы, говоря „люди религии“, не могли не разуметь представителей данной русской церкви (исторической). Должна была, таким образом, произойти „встреча“ между ними и представителями русского (по тогдашнему слову) „светского“, т. е. не духовного, общества, даже так называемого „интеллигентского“.
Подлинность и святость „исторической“ христианской церкви никем из нас не отрицалась. Но вопрос возникал широкий и общий: включается ли мир-космос и мир человеческий в зону христианства церковного, т. е. христианства, носимого и хранимого реальной исторической церковью?
Для этого нам нужно было услышать „голос церкви“ (а как его услышать, если не из уст ее представителей?).
То, что церковь эта была лишь одна из христианских церквей, – мало что меняло. По существу в области главного вопроса все христианские церкви находились в одинаковом положении. Теоретически вопрос был предложен всем христианским церквам. Вопрос „о христианстве вселенском“, как говорил Вл. Соловьев. Практически же, несмотря на полную зависимость нынешней православной церкви от российского государства в то время, – он все-таки мог быть предложен только православию, благодаря его внутренней свободе по сравнению хотя бы с церковью римской.
Подобные Собрания, и такое откровенное высказыванье на них, православными иерархами, невозможны были бы, если б это была церковь не православная, а католическая. „И даже лютеранская“, – говорил тогда Д. С. Позднейшие его исследования христианских церквей укрепили в нем эти мнения – я их передаю в общем.
Однако, и внешние условия, закрепощение прав церкви государством (самодержавием) казались почти непреодолимыми препятствиями для устройства Собраний. Но тут помогла смешанность, текучесть и несколько разнообразный состав наших частных кружков. Люди, имеющие соприкосновение с духовными кругами, – которых мы узнали через Розанова. С некоторыми мы даже успели сблизиться (вне „дягилевского“ кружка). Мысль Собраний их заинтересовала. Они нащупали почву и указали нам, куда можно обратиться с первыми хлопотами о разрешении (пути официальные были, конечно, заказаны).
В то время царил всесильный обер-прокурор Синода, известный своей строгостью и крепостью – Победоносцев.[107]107
Обер-прокурор Синода – представитель государственной власти в церкви, главою которой считается сам самодержец-помазанник. (В. З.)
[Закрыть]
Вот к этому-то „неприступному“ Победоносцеву и отправились 8 октября 1901 г. пятеро уполномоченных членов-учредителей по делу открытия „Религиозно-филосовских Собраний в СПБ“: Д. Мережковский, Д. Философов, В. Розанов, В. Миролюбов и Вал. Тернавцев.
О Тернавцеве, сыгравшем в Собраниях немалую роль, я скажу ниже. А Миролюбов – был из далеких сочувствующих (и то, может быть, потому, что происходил из духовного звания, но это скрывал). Он издавал плохонький „Журнал для всех“, был типичный „интеллигент“ старого образца, но глупый, и в Собраниях, порою, немало причинял нам досады.
Вечером того же дня „уполномоченные“ (кроме Философова) посетили тогдашнего митрополита Петербургского Антония, в Лавре.
С этого времени на разрешение Собраний – получастных, со строгим выбором и только для „членов“ – можно было питать надежду. Надежда окрылила всех заинтересованных. И тогда-то началось наше настоящее знакомство с совершенно новым для нас „церковным“ миром – как бы некое сближение двух разных миров.
Да, это воистину были два разных мира. Знакомясь ближе с „новыми“ людьми, мы переходили от удивления к удивленью. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке, – все было другое, точно другая культура.
Ни происхождение, ни прямая принадлежность к духовному званию – „ряса“ – не играли тут роли. Человек тогдашнего церковного мира, – кто бы он ни был, – чиновник, профессор, писатель, учитель, просто богослов, и одинаково: умный и глупый, талантливый и бездарный, приятный и неприятный, – неизменно носил на себе отпечаток этого „иного“ мира, не похожего на наш обычный „светский“ (по выражению церковников) мир.
Были между ними люди своеобразно глубокие, даже тонкие. Они прекрасно понимали идею Собраний, значение „встречи“. Другим эта встреча рисовалась просто в виде расширения церковью проповеднической деятельности, в виде „миссии среди интеллигенции“.
Признаться, мы этому толкованию особенно и не противоречили, оно могло послужить в пользу разрешенья. Только бы разрешили, а там будет видно.
„Интеллигенция“ представлялась, конечно, духовному миру в виде одной компактной массы „светских безбожников“. Все оттенки от него ускользали. Не только ни о каких новых, по времени, формациях никто там не имел понятия (до открытия Собраний, во всяком случае), но не видели они даже особой разницы между Меньшиковым из „Нового времени“ и каким-нибудь типичным старым „интеллигентом“ из либеральнейшей газеты, для которого и сотрудники „Мира искусства“, и мы были „отщепенцы“! (Ведь религия – реакция. Да и все, что не на базе позитивизма, – эстетика, идеализм, всякий спиритуализм – реакция!)
Таким образом, если говорить о некоторой запоздалости, малого осведомления в мире „духовном“, то, по сравнению с вот этой частью тогдашней „интеллигенции“, остававшейся „на посту“, – мир духовный не мог назваться „миром невежества“. Оно и там, и здесь было одинаково.
„Миссия среди интеллигенции“… Как заманчиво прозвучало это для многих, – между прочим для одного весьма любопытного, как тип „хитрого мужичонки“, человека, чиновника особых поручений при Победоносцеве, Вас. Скворцова, редактора „Миссионерского обозрения“ – журнала, о существовании которого мы раньше и не подозревали, но который, когда начались Собрания, стал выписывать… даже „Мир искусства“.
Фигура интересная. Отчасти комическая, – над ним и свои подсмеивались, – но достоин он был не только смеха. Официальный миссионер, он славился жестокостью по „обращенью“ духоборов и всяких „заблудших“ в лоно православия. Вид у него был мужичка не без добродушия, но внутри этого „Висасуалия“ (по непочтительной кличке) грызло тщеславие: давно мечтал стать „генералом“ (дослужиться до „действительного“), а тут еще замечтал попасть в „среду интеллигенции“. Перспектива миссии уже не среди нижегородских раскольников – совершенно увлекла его. У него появился зуд „светскости“, и только заботила мысль – какие когда надевать надо галстуки, идя в „салоны“ обращаемых.
Уж, конечно, не Валентин Тернавцев (один из замечательных людей того момента) мог помышлять о Собраниях, как о „миссии“. На первом же заседании (давшем тон всем другим) он и высказался против этого взгляда.
На нем тоже лежал отпечаток иного, не „нашего“ мира. В этом смысле была в нем и „чуждость“. Однако, надо сказать, что именно он стоял тогда всего ближе к нашим идеям.
Так как Тернавцев сыграл в Собраниях большую роль, то я скажу о нем несколько слов.
Это был богослов-эрудит, пламенный православный, но происходил он не из духовного звания. Русский по отцу – итальянец по матери, и материнская кровь в нем чувствовалась. Все в нем было ярко – яркость главная, кажется, его черта.
Высокий, плечистый, но легкий, чуть-чуть расхлябанный, но не по-русски, а по-итальянски (как бы „с ленцой“), чернокудрый и чернобородый, он походил иногда на гигантского ребенка: такие детские у него были глаза и такой детский смех. Помню, как он пришел к нам в первый раз: сидел, большой и робкий, с мягкими концами разлетающегося галстука. Замечательна его талантливость, общее пыланье и переливы огня. Оратор? Рассказчик? Пророк? Все вместе. От пророка было у него немало, когда вдруг зажигался он заветной какой-нибудь мыслью. Мог и внезапно гаснуть, до следующей минуты подъема.
Самый простой рассказ он передавал образно, художественно, нисколько не ища образов: сами приходили. Был ли умен? Трудно сказать. Его талантливость, яркость, его прекрасный русский язык, тоже не вполне „интеллигентский“ (мы, смеясь, называли последний, с готовыми сухими фразами, – „является-представляется“), его фанатически-узкая трактовка некоторых идей, – все это заслоняло вопрос о его уме.
В Петербурге „кудрявый Валентин“ появился не так давно. Жена – скромная, незаметная полька (перешедшая в православие), она нигде не появлялась. Жили они с детьми, где-то в маленькой квартирке. Тернавцев нигде не служил.[108]108
Очень вдолге, лет через 12–15, когда мы уже совсем потеряли друг друга из виду, нам говорили, что Тернавцев служит теперь секретарем в Синоде, но ни облика своего, ни интереса к хилиазму не потерял. Здесь, в эмиграции, кто-то говорил Д. С., который его очень любил и признавал, что он в Сибири, весь белый, но хилиазму не изменил. Для незнающих, что такое хилиазм, – скажу, что это учение о царствии (Божием) на земле в течение тысячи лет (по откровению св. Иоанна). А если я напомню, что одна из главных идей, или стремлений, или воздыханий Д. С. Мережковского была «Царствие Божие на земле» Adveniat Regnum Tuum, понятными становятся и близость его к Тернавцеву, и его утверждение. (З. Г.)
[Закрыть] Был занят своей бесконечной работой, – исследование хилиастического учения (Апокалипсис).
В ноябре разрешенье было получено: собственно, полуразрешенье, попустительство обер-прокурора, молчаливое обещанье терпеть Собрания „пока что“. (Увлеченный „светскостью“ и „миссией“ Скворцов немало, кажется, этой удаче посодействовал).
Сочувственно отнеслось и высшее духовное начальство (менее властное). Узнав, что „Ведомство“ Собрания разрешает, митрополит Антоний (благообразный, с мягкими движениями, еще не старый, – он слыл „либеральным“) благословил ректору Духовной Академии, Сергию, еп. Ямбургскому, быть председателем, ректору Семинарии – арх. Сергию – вице-председателем. Дозволял участие всему черному и белому духовенству, академическим профессорам и пр. доцентам, разрешил даже студентам Духовной Академии, по выбору, Собрания посещать.
К этому времени уже многие из будущих участников успели перезнакомиться между собой. Мы знали молодых профессоров (двое наиболее часто посещали нас: Ант. Карташев и Вас. Успенский), священников, кое-кого из высшего (черного) духовенства. Доклад Тернавцева, написанный для первого заседания, „Интеллигенция и Церковь“, был нам хорошо известен.
Собрания открылись 29 ноября (1901 г.). Неглубокая, но длинная слева-направо „малая“ зала Географического общества, на Фонтанке, – переполнена. Во всю ее длину, прямо против дверей, по глухой стене – стол, покрытый зеленым сукном.
Еп. Сергий, молодой, но старообразный, с бледным, одутловатым лицом, с длинными вялыми, русыми волосами по плечам, в очках, – сидел посередине.[109]109
Прим. 1943 г. Это тот самый Сергий, который при большевиках сумел среди всех расстрелов, ссылок и гонений на духовенство не только сберечь себя, но даже сделать беспримерную карьеру. Как – мы в подробностях не знаем, а догадаться легко, хотя бы по его требованию к эмигрантской русской церкви, (уже будучи митрополитом и заместителем патриарха – первый, настоящий заместитель был сослан и погиб) – требованию признать «лояльность» Советской власти. Это было в 1929 году и, конечно, исходило от самой Советской власти, из желания ее создать среди зарубежья, хотя в ее услугу, кое-какую смуту. Некоторое время это волновало умы, тем более, что вся «либеральная» зарубежная пресса (для старых либералов-эмигрантов, ведь религия была по-прежнему реакция, в лучшем случае «quantité négligeable» (Незначительное количество – франц.),) горой стала за лояльность. К голосу этих журналистов примкнули даже голоса бывших марксистов, недавно сравнительно православных, христиан, как Н. Бердяев, например, или тоже недавнего православного Игоря Демидова, сотрудника Милюкова.
К счастью парижский митрополит, долго не решавший дела, выбрал полумеру, обратившись к грекам, и тем избег хотя бы кар и отлучений, какими грозил Сергий «верным» зарубежникам. Этот случай еще больше отдалил Д. С. Мережковского от «интеллигентов»-эмигрантов, которые войдя или не входя в Церковь, будучи или не будучи масонами и евреями, все равно не могли с полной непримиримостью к Советской власти относиться. А Сергий, между тем, по благословению Сталина (и по нужде) сделался, в самое последнее время, целым патриархом. (З. Г.)
[Закрыть]
Рядом – красивый и злой арх. Сергий, вице-председатель. Духовенство белое и черное преобладало. Черного было даже, кажется, больше. С левой стороны – ютились мы, „интеллигенты“, учредители и члены просто. В углу – гигантская статуя Будды, чей-то дар Географическому обществу, но закутанная (как и на дальнейших собраниях) темным коленкором.