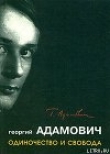Текст книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 69 страниц)
Три встречи устраивает Мережковский Юлиану и Арсиное. В первый раз они сходятся перед самым началом действий, на пороге открывающихся событий, когда, словом, автору нужно осветить светом своей идеи пока лишь стремления, замыслы Юлиана; во второй раз – когда часть пути уже пройдена, устранены все препятствия и Юлиан хочет уже приступить к творческой работе, к осуществлению своих грандиозных планов о возрождении эллинизма, и, наконец, в третий раз в лагере, во время персидского похода, когда вся жизнь Юлиана уже позади и в результате одни лишь разбитые иллюзии.
Но, близкие по авторскому замыслу, какие чужие они на деле! Начиненные мыслями, идеями, какие неестественные они, как люди; какие беспомощные в выражении обычных человеческих переживаний, близких и понятных нам чувств! Диалог, пожалуй, самая трудная, самая скользкая, но и в то же время самая соблазнительная, наиболее ценная форма. Это своего рода пробный камень для художника. Чем художник глубже, чем лучше знает таинственные законы человеческой души, чем острее его взор, тем охотнее он пользуется им и тем ценнее результаты. Нужно уметь улавливать какие-то внутренние зацепки между людьми, знать невидимые нити, их связующие, – знать всю сложность, всю спутанность человеческих переживаний, что возникают на почве взаимных отношений людей, чтобы удачно пользоваться диалогом. Великое ли познание от великой любви, как говорит апостол Павел, или, наоборот, великая ли любовь от великого познания, как думает Леонардо да Винчи – одно мы знаем: по отношению к человеческой душе любовь и познание приходят вместе, без первой немыслимо второе. Но любовь меньше всего рациональна; в сфере, которая победно поглотила самого автора, сковала его сердце, – в сфере рассудочной, она теряет весь свой аромат, разлагается, перестает быть любовью.
Каждый раз, по мановению авторской руки, Юлиан и Арсиноя сходятся для того, чтобы выкладывать друг перед другом свои очень умные мысли. Говорят они их, точно заученный урок, по очереди: сначала один говорит, затем другая. Во время первой встречи они оба находятся на одном полюсе, близко к нижней бездне, и, заключая союз между собою, оба пространно восхваляют эллинскую мудрость, иллюстрируя свою речь умными выдержками из книг, ссылками на знаменитых мужей древности. Во второй раз они уже на разных позициях: он длинно и бесстрастно, довольно таки скучновато, рассуждает, по Раскольникову, о великости земной правды, о крайнем утверждении своего «я», о власти над другими; она же, по «Подростку», что ли, – о высшем освобождении, о власти над собою. Здесь Юлиан в зените своей славы, и активность за ним. В третий раз он, уже побежденный, чувствует свою гибель, и тогда уже Арсиноя приходит к нему со своей правдой. И опять то же самое: говорят много, длинно и скучно. Для видимости они как будто перебивают друг друга – это автор пытается перейти на диалог, но крайне неудачно – и, когда оба кончают свои умные монологи, им вдвоем уже больше нечего делать и они сейчас же расходятся. Правда, эти сцены встречи самые неудачные в романе, но тем характернее он для нас, тем доказательнее делают наше основное положение: там, где у других художников высшая напряженность жизни, у Мережковского скука и вялость. Может быть, сам чувствуя это, Мережковский каждый раз, как бы спохватившись, вдруг начинает оживлять диалог: заставляет говорящих волноваться, меняться в лице, бледнеть, краснеть, сводить и разводить им руки в минуты отчаяния или бурной радости; вкладывает в их уста громкие слова, пышные фразы, – но уж лучше бы не пробовал: невольно вспоминается Марлинский или Кукольник. Впрочем, к чести Мережковского, надо сказать, что таких фальшивых мест у него немного – в эпосе, конечно. Он знает свой недостаток и охотнее пользуется ровным, спокойным, несколько однообразным, холодным тоном, точно протоколирует что то или, вернее, доказывает теорему.
Я позволю себе остановиться, для подкрепления своих выводов, еще хоть на второй части трилогии, которую иные считают самой удачной. На последних страницах «Юлиана» вещая Кассандра – Арсиноя пророчествует о грядущих веках человечества, предсказывает эпоху «возрождения». Почему она? Почему именно на ее долю выпало великое счастье предвидения будущего? Почему это только ей одной удалось проделать в жизни весь путь до конца: от «нижней к верхней бездне» и обратно? Была язычницей и утверждала свою плоть, потом стала христианкой и умерщвляла ее. Но как здесь, так и там не нашла полной правды, и из монашеской кельи снова вернулась к жизни, просветленная, с чаянием грядущего синтеза. Он придет – будущий сверхчеловек и примирит в себе обе правды: земную и небесную, Христа и Антихриста, Богочеловеческое и Человекобожеское. Он будет «неумолим и страшен, как Митра-Дионис во славе и силе своей, милосерд и кроток, как Иисус Галилеянин». Пророчество это символизируется следующим совпадением: мальчик-пастух заиграл на флейте вечерний гимн богу Пану, и в ту же самую минуту послышалось тихое торжественное пение вечерней молитвы старцев-отшельников. Звуки смешались: гимн и молитва слились воедино. Так намечает автор переход ко второй части трилогии, к «Воскресшим богам». И сбылось пророчество Кассандры – Арсинои. Пришла та пора, когда стали «откапывать святые кости Эллады, обломки божественного мрамора, и молиться и плакать над ними; начали отыскивать в могилах истлевшие страницы античных книг и, как дети, разбирать по складам древние сказания Гомера, мудрость Платона». Пришла эпоха «возрождения», и Эллада в первый раз воскресла для синтеза.
Есть чрезвычайно много общего в фоне, в доминирующем настроении автора, между «Леонардо да Винчи» и «Юлианом Отступником». Снова – в отражение еще большего влияния Ницше с его аморальностью, культом аристократизма – обычное противопоставление единиц, героев, пребывающих «по ту сторону добра и зла», глупой, тупой и рабской толпе. Снова на долю героев выпадает почетная роль единственных творцов жизни, а массе – покорно подставлять спины под удары господских бичей, быстро менять свои легковерные настроения, восторженно-шумно приветствовать, в качестве своего избранника, победителя последнего дня. События сменяются событиями. Сегодня правит Миланом сентиментальный, но жестокий похититель чужого престола герцог Моро, завтра обращает его в бегство сильный тиран Цезарь Борджиа, который в свою очередь также очень скоро изгоняется третьим. И долго и подробно описывается жизнь при их дворе: охоты, пиры, кутежи, казни, измены, легкомысленные похождения мужчин и женщин – все проходит перед читателем.
Но это лишь внешний слой жизни. Под ним течет другая струя, не менее бурная. Она и в религии, и в искусствах, и в науке, и в обычном житейском быту. Горят костры инквизиции; на них сжигаются упорные скептики, ведьмы, летящие на шабаш, и поганые идолы – статуи олимпийских богов, выкопанных из недр земли. Но одновременно с этим созидаются новые совершенные произведения искусства на те же античные темы, воздвигаются новые статуи руками таких гениев, как Леонардо, Микеланджело и Рафаэль. Черная магия, добывание жизненного эликсира при помощи чудесной алхимии – и тут же великие научные открытия и изобретения, имеющие вечную, премирную ценность. И так во всем. Все смешалось, зашаталось, тронулось и пришло в необычайное движение. Повеял дух возрождения, дух античности, культа жизни, начала крайнего утверждения своего «я» – и в этом великое значение этой чрезвычайно напряженной эпохи.
Но, как она ни пленяет Мережковского, он все-таки остается верным себе; и здесь ему все нужно и важно лишь постольку, поскольку оно уложится в определенную схему, сумеет оправдать его излюбленную идею. И снова получается, прежде всего, отражение борьбы не только двух правд, двух полюсов в мировой жизни, но и взаимно противоположных начал в его собственной душе. Вот увидел он на этом великом моменте новой истории сияние лучей своей святой отчизны, единственного смысла в жизни, аполлоновского начала. И хороши и вдохновенны те главы, где говорится о дивных обломках белого чистого мрамора, о белой «Дьяволице, воскресшей Венере, о глубоком претворении, в живописи и скульптуре Ренессанса, античного духа». «Это личный праздник Мережковского, личное его возрождение.[5]5
Эту мысль о личной как бы заинтересованности Мережковского в «эпохе Возрождения» высказывает Б. Грифцов. Слова в кавычках здесь и ниже – его.
[Закрыть]
Но еще сильнее власть разума, и снова он требует от него тех же прежних, широких логических обобщений; и померкли лучи, кончился праздник. Мережковскому ведь кажется, что „Возрождение не удалось: черное воронье, хищная стая галилейская, снова набросилась на белое тело возрожденной Эллады и вторично его расклевала“. Гибнут сокровища древности на костре, зажженном маленькими инквизиторами, гибнут и лучшие творения Леонардо, созданные в духе античности. Время от времени прорывается еще глубокое чувство грусти сквозь густую сеть сплетенных рассудком антитез и оставляет в читателе неизгладимое впечатление истинного лиризма. Но вскоре и это чувство гаснет, тон делается ровным, спокойным и холодным: опять нарочитость, надуманность, тенденциозность, опять все подчинено тому, что требуется доказать, – покорно воле автора, у которого имеются свои личные, искусству абсолютно посторонние цели. Так почти всюду художество подавляется философствованием».
Массы и отдельные личности-герои. Масса – стихия еще не тронутая; в ней в более или менее одинаковой пропорции смешаны, но не слиты воедино оба начала: христианское и языческое; свет сознания еще не коснулся ее, еще не провел между этими началами ясной разделяющей грани. Танец вокруг очистительного костра, зажженного во имя Иисуса, незаметно для нее самой, для массы, переходит в языческое радение, в настоящую вакханалию. Добро, любовь к другим, самым причудливым образом смешиваются со злом, с любовью к себе, с разгулом злых и грубых инстинктов.
В отдельных лицах, в центральных фигурах, тоже находятся в смешении оба эти начала, но все же в каждой из них намечается или резкий уклон в одну какую-нибудь сторону, или упорное стремление к примирению, к совмещению обоих начал. Так, Цезарь Борджиа или Маккиавели – больше язычники, Савонарола или монах Бенедета – христиане, а такие, как ученик Леонардо, Джиовани, – вечные мученики этой внутренней раздвоенности. Если представить отношение людей к Богу – как представляет себе в одном месте Пьер Безухов – в виде безграничного количества капель, стремящихся из центра, в котором Бог, на поверхность шара, где каждая из них хочет расшириться до последних своих пределов, но не для того, чтобы «в наибольших размерах Его отражать», а чтобы сравниться с Ним, согласно воле Умного Духа – Антихриста, то во второй части трилогии Мережковского масса как бы посредине этого пути, а отдельные лица ближе то к одному, то к другому пункту. Один только Леонардо ухитряется как-то одновременно быть в обеих точках, в одно мгновение проделывая весь путь между ними, а потому все знает, все понимает и все прощает. Отсюда и весь незатейливый план произведения.
Нужно показать, что возможен синтез, и его воплощает Леонардо. Такова задача. Как же ее решить, каким методом? Очень просто. Путем отрицательных параллелизмов: Леонардо не как все. Люди обыкновенно так поступают, что-то делают, а он – иначе. Тут в развитии действий не нужно никакого единства, никакой органической последовательности. События могут быть размещены в любом порядке, хотя бы в хронологическом;
важно только одно: чтобы каждый раз, как deus ex machina, появлялся Леонардо и им противостоял. И в этом уже огромный недостаток романа, вытекающий именно из нарочитости, надуманности Мережковского. Вот перед вами настоящее волнующееся море, пестрый калейдоскоп всевозможных течений и событий из самых разнообразных областей. Здесь и политика, и наука, и алхимия, и черная магия, и разные искусства, и религия – словом, все, где и в чем только ни проявлялась тогда живая человеческая душа. Но существует ли между ними доподлинная органическая связь – не в жизни, конечно, а в романе? Нужны ли они все для движения действия вперед, для естественного хода событий? Ответ может быть только отрицательный. Это отдельные эпизоды, ничем между собою не связанные, главы, может быть, занимательно написанные, но которые, однако, отнюдь не пострадают, если почему-либо переменишь их порядок и первая очутится на месте последней. Ибо, повторяю, они созданы только в качестве иллюстраций к главной мысли Мережковского, которую должен символизировать Леонардо.
Мыслимо примирение обоих начал; на вершинах человеческого творчества интуитивно ощущается, что «небо вверху, небо внизу», «все, что вверху, то и внизу»; познание и любовь сливаются воедино, постигается великая сущность «amoris fati». Леонардо и есть этот синтез. Доказательства? Вот перед вами сцена, где выкапывают из подземелья древних богов и богинь. Иные радуются, восторгаются вечной красотой, великим совершенством античного творчества. Для других они – поганые идолы, которые должны быть разбиты, уничтожены. Но все волнуются, переживают сильные эмоции. Один только Леонардо спокоен: он измеряет малейшие изгибы на теле этих статуй, изучает на них светотени, разлагает искусство на геометрию. А он ли не любит, не восхищается? Он ли не участник в празднике возрождения? Конечно, вывод один: Леонардо – сверхчеловек, и для него законы несовместимости противоположных переживаний не писаны.
А вот перед вами другая сцена. Савонарола произносит пламенную проповедь о близкой кончине мира. Масса заражена безумным животным страхом; лица у всех искаженные; фанатизм достигает последних пределов. Ужасные вопли, истерические рыдания смешиваются в сплошном зверином реве. Нет сил устоять перед мучительным гипнозом толпы. Но Леонардо спокоен; он только наблюдает, изучает и зарисовывает эти безумные, искаженные лица. Но и это еще не верх бесстрастия. У Мережковского имеются еще гораздо более, как ему кажется, убедительные сцены. Армия маленьких инквизиторов-детей собрала все драгоценности древнего искусства, все статуи и картины и нового времени, созданные на античные темы, из них сложила костер и подожгла. На самом верху очутилось дивное произведение Леонардо – его любимая картина «Леда». Что может быть горестнее для творца, чем гибель его творения? Но Леонардо и здесь спокоен и бесстрастен. Или следующее. Французский король проходит через Италию. На площади, где стояла статуя Леонардо, расположились солдаты. Играя, они стреляют в статую и разрушают ее. У Леонардо была возможность предотвратить гибель и этого любимого произведения: ему нужно было сказать только слово, но он его не сказал – в жизни он беспомощен, как всякий, кто не от мира сего.
Леонардо вне политики или партий, вне обычных житейских интересов, обычных людских треволнений. Это тоже, конечно, по Ницше. Ему абсолютно безразлично, кому служить своим гением, для чего и для кого создавать. Вот он на службе у герцога Моро. Творит и великое и малое, и полезное и вредное, – не все ли равно, лишь бы творить. Моро сменяет Цезарь Борджиа; он и ему служит с той же верностью, с той же беззаветностью. Цезарю хочется завоевать родину Леонардо, Флорентийскую республику; он ему и в этом помогает. Зовет его на службу отец Цезаря, грешный папа Борджиа, после него французский король – он и от них не отказывается. И в самом деле, не все ли равно, где и в чем искать отражения лика Primo Motore – неумолимых законов природы, божественной необходимости, которая сливается для него с божественной любовью? Sub specia aeterni воспринимает Леонардо все в жизни, и, конечно, с этой точки зрения отдаленный грохот орудий и тихий лепет вечернего ветерка равнозначны.
То же с нашими категориями этического и эстетического характера. Для Леонардо не существует наших обычных делений на высокое и низкое, красивое и безобразное, доброе и злое. Предполагается заранее, что он единственный вмещает в своей душе обе правды, примирив все противоречия, сняв все наши антитезы, отменив наши «человеческие, слишком человеческие» ценности. Чтобы это проиллюстрировать, тоже, конечно, нужно придумать целый ряд эпизодов. И вот посвящаются целые главы тому, как Леонардо ухитряется одновременно и с одинаковым увлечением и благоговением – опять-таки перед тем же ликом Primo Motore – рисовать божественных Мадонн и отвратительных, безобразных старух; наблюдает за игрой невинных жизнерадостных детей и за гнусными ужимками грязных уродов-карликов; заканчивает Лик Христа на знаменитой картине «Тайная вечеря» и устраивает Дионисово ухо в замке жестокого властелина; разрабатывает проект оросительных каналов для превращения пустыни в цветущую долину и готовит модели дальнобойных орудий – и т. д. и т. д. Так, в сущности, и написан весь роман. Из этих и им подобных отдельных эпизодов и составлена эта огромная двухтомная книга, и если есть между ними какая-нибудь связь, то лишь постольку, поскольку все они должны иллюстрировать черты одного и того же человека; не претворять и не воплощать их, а именно иллюстрировать – и почти всегда по контрасту. Это какая-то огромная, беспредельная антитеза: жизнь, как она есть, со всеми своими страстями, тревогами, печалями и радостями, со всем богатством и разнообразием живых эмоций – и Леонардо. И эта большая антитеза распадается на множество меньших, частных антитез: политика и Леонардо, религия и Леонардо, живопись и Леонардо, наука и Леонардо – и т. д. и т. д. Первые члены антитезы живут сами по себе, но им всем противостоит одна и та же личность – и в этом их единственная связь.
Около Леонардо группируются ученики. Одни его любят, другие ненавидят, третьи его боятся, но понимать его никто не понимает. Это тоже нужно для оттенения синтетической всеобъемлемости его души. Вот, например, Джиовани Бельтрафио, более других пострадавший от соприкосновения с ним. Мережковский навязывает ему роль вечного спутника Леонардо. И понятно почему. Сразу выясняется сущность синтеза на разительном контрасте, как они оба воспринимают окружающую жизнь: Джиовани благодаря своей раздвоенности, неспособности вмещать в своей душе обе правды, постоянно волнуется, колеблется, страдает, мучается, Леонардо же величаво спокоен и бесстрастен.
О, Небо, дай мне быть прекрасным,
К земле сходящим с высоты,
И лучезарным, и бесстрастным,
И всеобъемлющим, как Ты…
Так молит Мережковский в одном из своих стихотворений. Таким именно бесстрастным, к земле сходящим с высоты, представил он Леонардо. В дневнике Джиовани Бельтрафио есть следующая запись со слов учителя: «Мастер, у которого руки узловатые, костлявые, охотно изображает людей с такими же узловатыми, костлявыми руками, и это повторяется для каждой части тела, ибо всякому человеку нравятся лица и тела, сходные с его собственным лицом и телом». Этот закон, по-видимому, еще правильнее для души: всякому человеку нравится душа, сходная с его собственной душой. Взял Мережковский свои собственные черты: свою исключительную способность к созерцанию, свое бесстрастие, свою рассудочность, сгустил их, усилил до крайних степеней, до сверхъестественных размеров, возвел их в апофеоз, в идеал – и получился образ Леонардо. Одинокая вечерняя звезда на далеком небе – вот символ, данный ему Мережковским. Он тоже одинокий, далекий, слишком рано спустившийся к земле с высоты. Мережковскому кажется, что в нем живой синтез, слияние в гармонии всех антитез. На самом же деле только смешение, механическое их соединение. Просто автор убил в нем живую человеческую душу, заморозив ее на той беспредельной высоте, где царит «великая божественная тишина», – превратил его в мертвую машину, проделывающую самые противоположные вещи, произносящую логически абсолютно непримиримые мысли – и думает, что это синтез.
Леонардо величаво спокоен. В сущности, ему не к чему стремиться: он – идеальное претворение высшей идеи Мережковского. Зато другие, как Джиовани, всегда мечутся, всегда – в стремлении. По указанию автора, они постоянно путешествуют из одной бездны в другую, от Христа к Антихристу, от Бога к Дьяволу, от крайнего отрицания личности к крайнему ее утверждению и, конечно, по начертанному плану, ad majorem gloriam главной идеи Мережковского.
Впрочем, в Леонардо все-таки имеются живые человеческие черты, но они появляются в конце произведения и именно тогда, когда он уже перестает быть символом. Мережковский опять как бы спохватился, понял, что ли, что его Леонардо не более как призрак, пустая аллегория, и он отступил от своей схемы и наделил его своей скорбью, своей неутолимой жаждой любви, людской близости, своим одиночеством и – здесь эта черта уже ярко сказывается – своим страхом перед концом, перед смертью. И как там, где Мережковский рисует неудачу возрождения, гибель драгоценной для него красоты, единственного смысла в его жизни, так и здесь он действительно освобождается порою от самого себя, от власти своих схем и созидает художественные страницы. Но это уже не Леонардо, а слабый, немощный, одинокий, страдающий человек, как все. Впрочем, Мережковский и тут не выдерживает долго. Уже носятся перед нами контуры последней части трилогии: «Петр и Алексей», уже постиг он свою новую истину, что «соединение Христа с Антихристом – кощунственная ложь, а правда в царстве Третьего Завета, во Втором Пришествии, предвещенном Иоанном, сыном Громовым». И как тут не соблазниться о Леонардо? Как не устроить встречу ему с кем-нибудь из русских, сблизить последнее русское возрождение, которое должно быть, с тем, которое было? И снова тускнеют чувства, замирает жизнь сердца, и длинно и вяло рассказывается о некоем русском иконописце Евтихии, очутившемся в русском посольстве при дворе французского короля, о его иконах, которые должны были поразить Леонардо своим сходством с его замыслами, о том, как Евтихий рисовал их, какими примитивными средствами пользовался и как, однако, проникал бессознательно в какие-то бездны.
В «Петре и Алексее» Мережковский еще ниже спустился с высот художественного творчества – сразу на несколько ступеней. Здесь нет даже и тех невольных светлых прорывов, которые были еще в предыдущих частях; тут все заранее размерено, рассчитано, одно к другому подогнано, точно он обо всем справлялся, подобно Евтихию, в каком-то «Подлиннике, единственно верном источнике изящного познания истинных образов». Петр – властный герой, грозный Митра-Дионис, противостоящий народу;
Алексей – кроток и милосерд, как Иисус Галилеянин, и весь в народе и с народом, который отождествляется с Телом Христовым, с Церковью. Трагедия между отцом и сыном есть трагедия полярности Плоти и Духа. Пока Плоть сильнее и Петр побеждает; но в грядущем, в царстве Иоанна сына Громова, Плоть и Дух сольются воедино, Плоть станет святой, духовной. Это уже предчувствует Алексей, к которому перед самой смертью является св. Иоанн в образе светлого старика. Об этом же было видение и Тихону, выходцу из народа, который, подобно Джиовани из «Воскресших богов», тоже всю жизнь свою терпит муки раздвоения, мечется, ищет абсолютной правды, колеблется между обеими безднами: в данном случае главным образом между наукой и религией, пристает к самым разнообразным сектам и толкам и нигде не находит успокоения. Так уже ясно проводится идея Третьего Завета, третьего и последнего откровения Св. Духа, которое должно объединить, слить воедино оба прежние откровения: Бога Отца и Бога Сына. В Петре – черты грозного Бога Саваофа; в Алексее – любовь и всепрощение Сына, и в этом его близость с русским народом-Богоносцем, который, кроме того, еще бессознательно исповедует религию Мережковского, религию конца.
В таком же духе, и с той же проповеднической целью и так же надуманно и размеренно написаны первые две части из второй трилогии – «Павел I», «Александр I» и «Декабристы» (последних еще нет в печати), которые исследуют борьбу этих же двух начал: правды земной и правды небесной в ее отношении к будущим судьбам России. Нет никакой надобности остановиться на них. Знакомые с писаниями Мережковского знают, что последние его художественные произведения гораздо хуже первых, что в них еще сильнее, ярче проявляются выше отмеченные нами коренные его дефекты.
Но исчерпывается ли на этом наша оценка? Имеем ли мы право произнести окончательный суровый приговор над его эпосом? Или сказать, вместе с большинством, еще суровее: Мережковский – не художник? Я уже не говорю о тех истинно вдохновенных страницах, где Мережковский рисует гибель Эллады, грустит о разрушенных храмах, поверженных статуях; или о тех, проникнутых невольно пробивающимся глубоким чувством ненависти, где он описывает нелепые по своей бессмысленности, жестокие по своим результатам вселенские соборы. Не говорю также и про те главы, которые посвящены закату жизни Леонардо, его томлениям перед столь пугавшим его концом – здесь, повторяю, Мережковский сказался истинным художником, сумевшим заразить нас остротой и болью своих переживаний.
Но если даже взять его первую трилогию в целом со всей ее геометрической планомерностью, тенденциозностью, надуманностью – нужно ли, смеем ли мы ее отвергнуть как произведение безусловно антихудожественное? И тут прежде всего приходит на ум такая мысль. Эпос – это область, где законнее всего стремление художника сделать «интимное всеобщим», где громоздкость композиции, широта картины, сложность плана требует ясности созерцания, требует напряженной работы именно холодной мысли, разума. Не действуют ли в нем, в эпосе, еще и другие законы эстетики, совсем не похожие на те, что в лирике? Не получаем ли мы там какие-то своеобразные эмоции, в чем-то и чем-то напоминающие правильность линии, прелесть симметричности в архитектуре? И в этом смысле, в самом деле, в каждом совершенном эпическом произведении, как, например, «Война и мир», имеется, безусловно, кое-что из эстетики геометрии. Мы, может быть, ясно не сознаем этого – тому мешают, пожалуй, глубина и яркость отдельных образов, богатство самых сложных, самых запутанных иррациональных человеческих переживаний: они-то и пленяют нас прелестью тайны, делающейся явной, властно приковывая к себе, к своей иррациональности, все наше внимание, – но смутно мы все же ее чувствуем, эту эстетику геометрии. Может быть, в этом и кроется одна из причин удивительного спокойствия, тишины, что ли, у Толстого и необычайной встревоженности у Достоевского: у него она – эта эстетика геометрии – безусловно отсутствует.
Так вот: когда читаешь трилогию Мережковского, эти мысли неустанно преследуют вас. Да, верно: часто останавливаешься на страницах его романов с возмущением: «Нет, неправда! Люди совсем иначе переживают вещи; какое-то мертвенное бесстрастие – стынешь от холода; сочинено, явная надуманность». Все это так. Но почему-то, вопреки всем этим вопиющим недостаткам, вы ловите себя на том, что в целом осталось впечатление какой-то значительности, своеобразной красоты, суровой строгости. Тут именно что-то напоминает красоту архитектуры, красоту правильных линий. Правда, эта красота слишком спокойная, бесстрастная – опять-таки умственная, рассудочная, что ли. Но все же кpасота, а не одна только красивость.
И еще спрашиваешь себя вот о чем: несомненно, Мережковский часто грубо нарушает самые элементарные требования правдоподобия; его бесплотные символы нередко перестают даже быть символами, превращаются в простые аллегории; неужели он сам этого не замечает? неужели не видит, не чувствует всю ложь, всю неестественность многих своих сцен, ну хотя бы таких, как нападение толпы на дом Леонардо и состояние последнего при этом: чернь неистово вопит, от ударов топора дрожат стены – вот сейчас ворвется она и все уничтожит, а он себе сидит спокойно и бесстрастно заносит в свой дневник слова: «О, дивная справедливость твоя, первый Двигатель! Так все благо, все от тебя…?» А ведь они нередки; таких сцен надуманных, сочиненных ad hoc, для того чтобы сыграть роль надписи: «се есть лев, а не собака», у Мережковского, увы, слишком много. В чужом глазу и сучок увидит, а в своем и бревна не заметит. И вот является мысль, не сознательно ли Мережковский пренебрегает правдоподобием? Не хочет ли он взывать к воображению читателя: пусть тот сам заполнит содержанием незатейливые намеки, добавит то, что умышленно упущено автором (было же одно время такое течение, в особенности в области театра). Мережковский, конечно, мог пойти здесь по линии наименьшего сопротивления, повинуясь в большинстве случаев силе своей рациональности: благо некогда казалось, что эта линия не только не противоречит заветам символизма, но непосредственно вытекает из него, намеренно оправдывается им. Это, само собой разумеется, Мережковского не оправдывает; скорее даже наоборот: усугубляет его вину перед собой и перед читателем, но зато еще больше должно предостеречь нас от окончательного сурового приговора над ним как над художником: в некоторых самых грубых своих погрешностях он мог быть, благодаря своеобразному отражению известных литературных течений, ниже своего дарования.
В специфических особенностях душевной организации Мережковского его слабость, но там же и его своеобразная сила. Именно потому, что он такой ярко выраженный рационалист, что он всюду замечает одно только общее, прекрасно укладывающееся в схемы, но не видит тех частностей, тех ярких выпуклостей, тех тонких нюансов и деталей, которые присущи всему индивидуальному, единый раз бывающему – именно поэтому он так хорошо умеет «освещать эпоху, ясно улавливает ее противоречивые течения, полностью выявляя тот круг идей, около которых и ведется ожесточенная борьба». «Сопоставлять же и критиковать идеи, разбирать их источники, исходные пункты прошедших и грядущих, умственных и нравственных переворотов» – такого рода творчество, если оно уж совершается в форме романа, может быть, и нуждается в ясной и очень несложной композиции, и это тоже несколько оправдывает известную скупость эмоциональных красок[6]6
На этих соображениях можно было бы остановиться подольше, углубить их, но пусть это делают те, кто стоят на точке зрения первой из указанных нами (в конце первой главы) двух правд, двух возможных отношений к творчеству Мережковского. Я же только рисую его облик и лишь попутно оцениваю его как писателя.
[Закрыть]
…Остается еще вопрос об идейном содержании трилогии, о миpовоззрении, которое и двинуло Мережковского на освещение жизни этих отдаленных веков человеческой истории. Об этом мировоззрении потом, в следующих главах; здесь же пока нужно сказать следующее: пусть многие с ним не соглашаются; путь спорят по существу с такого рода пониманием истории, но оно захватывает читателя. Это потому, что редко кто обладает таким искусством, как Мережковский, приближать к нам даль магической старины, отождествлять чаяния, тревоги, мысли и чувства самых различных эпох с нашими, современными. И надо сказать правду – Мережковский умеет быть убедительным. Для этого в его арсенале достаточно фактов, цитат из всевозможных областей: истории, археологии, схоластики, старинной живописи, дневников, и он очень искусно пользуется ими. Берет он только самые яркие моменты в истории мира. Между ними вековые прорывы – промежутки. Мы присутствуем в романах Мережковского всегда при разгаре или у разрешения кризиса, но не видим процесса его нарастания. И все же ясна историческая перспектива, и мы сами как будто пополняем подземную кропотливую работу невидимых стихийных сил. А затем, если снять с основной точки зрения Мережковского ее мистический налет – и это легко сделать, ибо мистицизм, как мы увидим ниже, Мережковскому очень мало свойствен, – то его нанизывание мировых событий на ариаднину нить борьбы двух начал: индивидуального и общего или, как он их называет: языческого и христианского, телесного и духовного, должно казаться нам традиционно близким. За такое толкование половина, по крайней мере, истории русской мысли и – есть, конечно, основание думать – наиболее творческой, наиболее оригинальной, наиболее русской. Mutatis mutandis, эта философия истории имеется в более или менее выявленном виде не только у славянофилов, у Достоевского, у Толстого, отчасти даже и у Владимира Соловьева, но и у некоторых западников. Не говорю уже про Герцена – тот уже прямо взглянул на Запад глазами завзятого славянофила, но даже и Белинский не так уж был далек от нее: признавал же он в последние годы своей жизни, что развитие Европы шло по линии личного начала, а России – по линии общего (см. статьи: «Русс. литература за 1846 и 1847 гг.»); близко – по духу, по концепции своей – Мережковский подходит также к Чаадаеву: к нему, может быть, ближе, чем к кому бы то ни было.