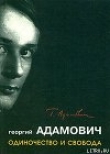Текст книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 64 (всего у книги 69 страниц)
Разумеется, возможен и третий выход: нисколько не заботясь о читателях, прямо высказывать все, что ты думаешь. Но, в настоящее время, кроме А. Чехова, нет ни одного человека, который бы имел достаточно внутренней веры, религиозности, чтобы не побояться принять такое предложение. Все глубоко убеждены, что если открыть глаза на действительность, если захотеть говорить правду – то в результате получится одно отчаяние. А читатель требует во чтобы то ни стало от писателя «положительных» идеалов. Тут с одной правдой далеко не уйдешь:
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.
IV
В силу своего недоверия к действительности (к действительности в самом широком смысле этого слова: не надо забывать, что Достоевский называл себя реалистом – и с полным правом) Мережковский перенес, как сказано, спор с религиозной на моралистическую почву и вместо Бога предлагает нам под именем «всемирного объединения» идеализм. Отсюда и его в своем роде беспримерная нетерпимость по отношению к гр. Толстому. Как известно, идеализм, добившийся «общеобязательных» суждений, был всегда деспотичнейшим учением – даже в устах тех лиц, которые в силу своего зависимого общественного положения, совершенно искренно мечтали о свободе мысли и слова. Если идеалисты и готовы уничтожить всякого рода внешние стеснения – они никогда не откажутся от права нравственного суда и осуждения. Г-н Мережковский являет тому превосходный пример. Вполне либеральный по натуре и своим симпатиям, он, соображая, что гр. Толстой не признает и никогда не признает высказываемые им суждения общеобязательными и единственно истинными, в буквальном смысле слова, иногда смешивает с грязью великого писателя земли русской. И притом – действует bona fide,[235]235
Чистосердечно, доверчиво (лат.).
[Закрыть] т. е. решительно не испытывает ни малейших признаков угрызения совести или даже чего-нибудь похожего на угрызения совести. Наоборот, так как он убежден, что действует во имя великой идеи и, так как для идеи, вообще говоря, ничем не жаль пожертвовать, то он, по-видимому, даже чувствует известное нравственное удовлетворение: маленький Давид, сильный только правдой, побивает огромного Голиафа. История интересная: она лишний раз может выяснить нам, чего добивается мораль или идеализм, когда они начинают настаивать на общеобязательных суждениях.
Г-ну Мережковскому не нравится в гр. Толстом то, что он в нем называет рационализмом, поклонением здравому смыслу, ибо в рационализме он видит помеху свободному движению мистической мысли. Это, разумеется, вполне естественно. Читатели, которые следили в прошлом году за «Миром Искусства» или знают мою более раннюю книгу «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» ни на минуту не заподозрят во мне сторонника толстовской морали и ее главной идеи – «добро – есть Бог». Но из этого только следует, что на людях, не желающих превращать Бога в отвлеченное понятие, лежит обязанность доказать свою правоту. И, разумеется, г-н Мережковский, как человек достаточно образованный, превосходно знает, что onus probandi[236]236
Время доказательств (лат.).
[Закрыть] – лежит на нас, а не на сомневающихся скептиках. Но, вместе с тем, г-н Мережковский достаточно искушен в этих делах, чтобы брать на себя подобного рода onus и, так как при том он считает, что от читателей нужно всячески скрывать внутренние сомнения писателей и что суть не в том, насколько ему действительно удастся поразить Голиафа, а в том, насколько удастся убедить публику в одержанной победе, то он, не делая даже попытки вдуматься в смысл толстовского рационализма, поднимает вопрос о нравственных качествах своего противника. А в таких случаях, как известно, всегда оказывается правым тот, кто успеет первым рассердиться, раскричаться и даже, как мы сейчас увидим, ударить – не в переносном, а почти в буквальном смысле этого слова – ударить врага… Читатель, вероятно, помнит еще ту сцену в «Братьях Карамазовых» у Достоевского, в которой изображается, как старый лакей Григорий побил молодого лакея Смердякова за то, что этот последний во время урока не побоялся указать на замеченные им в словах Св. Писания противоречия. На месте Григория другой учитель, более толковый и терпеливый, вероятно, умел бы ответить своему ученику и смирил бы строптивого спорщика. Но неуклюжая мысль бывшего дворового человека растерялась при первом возражении, и он наградил мальчика полновесной пощечиной. Тут есть много любопытного, но во всяком случае, мы несомненно находимся в области комического, и пример Григория нас менее всего может соблазнить к подражанию. Григорий первый раз в жизни услышал возражения от Смердякова: но для нас возражения ведь не новость. Г-н Мережковский, как это ни невероятно, соблазнился: ему во что бы то ни стало захотелось приобресть общеобязательные суждения – хотя бы по способу Григория. «Вот славная пощечина!» – восклицает он и считает, что «рационализм», а с ним и гр. Толстой окончательно раздавлены, и что яснополянские сомнения отныне не должны приниматься в соображение. Моралисты так всегда поступали. Как только они замечали свое бессилие, они тотчас же начинали возмущаться и негодовать, что осквернены их светлые идеалы, что погублены надежды и т. д. Если же негодования оказывалось недостаточно, они иной раз не брезгали обращаться и к «пощечине» – к поддержке организованной или неорганизованной внешней силы. И раз вступивши на этот путь, г-н Мережковский считает, что сделал все: ему остается только придумывать различные вариации на тему о смердяковской пощечине. Что бы ни сказал Толстой – г-н Мережковский вспомнит Смердякова. Под конец, так как и Ницше ему мешает, он начинает поносить и Ницше, забывая благодарность, которой мы обязаны учителям своим. Приведу один-другой пример вариаций г-на Мережковского на тему о Смердякове, так как «своими словами» мне никогда не удастся должным образом объяснить, что, собственно, он предпринял. Выписав из «Бесов» фразу Ставрогина, оканчивающуюся словами «я точно заражен смехом», и желая доказать, что смех Ставрогина неуместен, г-н Мережковский пишет: «Это-то и есть наш современный и будущий, западноевропейский и русский всемирный демон – отец нашей „лжи“, нашей середины, нашего мещанства, нашей позитивной, либерально-консервативной, смердяковской, толстовской и ницшеанской пошлости (курсив мой. – Л. Ш.) – самый „маленький и гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся“, и в то же время, самый великий, с каждым днем растущий, наполняющий собою мир, и, однако, еще никем не узнанный (!), невидимый бес».[237]237
Религ. Л. Толстого и Достоевского. С. 351.
[Закрыть] Или еще по поводу идеала великого инквизитора: «„В идеале великого инквизитора“, в „тысячемиллионном стаде счастливых младенцев“, поросят эпикуровых, учеников Карла Маркса, у которых пар вместо души – бесчисленных маленьких, успокоенных под властью Зверя, Карамазовых и Смердяковых, даже не в зверином, а в скотском царстве, противоставленном царству Божьему, в страшной социал-демократической Вавилонской башне, „хрустальном дворце“ всемирной сытости – не сказывается ли эта именно, угаданная Смердяковым глубочайшая сущность Ивана – любовь к „спокойному довольству“ во что бы то ни стало, любовь к беспочвенной середине? – Сущность всей нашей европейской и американской белолицей китайщины, грядущего „серединного царства“ с его „бесчувственной космополитической мразью“, сущность нашего современного позитивного и буржуазного Черта, бессмертного Чичикова, купца „Мертвых душ“ и купца Брехунова, душа барина помещика Нехлюдова, Ростова, да и самого Л. Н. Толстого (опять мой курсив. – Л. Ш.) и душа лакея Лаврушки, барина Карамазова и лакея Смердякова».[238]238
Там же. С. 391.
[Закрыть] Эх, угораздило написать человека! Положительно, по мне должно быть стыдно чувствовать себя таким благородным и возвышенным! И этот огромный период à la Ницше… А ведь я бы мог выписать десятки, чуть ли не сотни таких периодов, в которых Толстой, Ницше, а подчас и сам Достоевский оказываются пошляками, Смердяковыми, лакеями, Чичиковыми, «поросятами, у которых пар вместо души» и т. д. И этот тон настолько доминирует в книге, что остается впечатление, будто Мережковский ни о чем больше не говорил. В сущности, впечатление не совсем правильное. Г-н Мережковский не только разносит Толстого и Ницше: он не забывает и свой синтез. Толстого и «рационализм» ему нужно только устранить, чтобы, как указано выше, открыть путь своей мистической идее.
Кстати, о слове «мистический». Скажу откровенно: не люблю я этого слова и дивлюсь тому, что г-н Мережковский так часто пользуется им. Правда, когда-то, по всем видимостям, это было хорошее, живое, значительное слово. Но, походив долго по рукам, оно от частого употребления совершенно выветрилось и в нем, как в потертом золотом, давно уже нет драгоценного металла – остались только надпись, да лигатура, и в настоящее время ему та же цена, что и фальшивой монете.
V
Лучшие страницы второго тома – это те, которые посвящены Достоевскому. Достоевского г-н Мережковский слушает и внимательно слушает, редко стесняет его свободу и только иногда исправляет и дополняет. Без исправлений и дополнений моралисты, как известно, обойтись не могут: они стремятся к «совершенству» и знают – одни во всем мире – что такое истинное совершенство. Уже в первом томе, где г-н Мережковский, держась метода Ницше, умел счастливо избегнуть ницшеанских идей, он иногда, в интересах синтеза, то вытягивал, то укорачивал разбираемых им писателей. Тем более – во втором, где вся почти задача сводится к синтезу. Так, на с. 397 он пишет: «Понимает ли, по крайней мере, сам Достоевский, что другого черта вовсе нет, что это подлинный, единственный сатана, и что в нем постигнута последняя сущность нуменального „зла“, насколько видимо оно с нашей планеты категориям нашего разума и переживаемому нами историческому мгновению? Кажется, Достоевский это лишь пророчески смутно – сознавал, но не сознал до конца. Если бы он сознал, то был бы весь наш, а таков, как теперь, он почти наш…» (курсив мой. – Л. Ш.). И еще на с. 445: «Да и здесь, на этих высочайших крайних точках западноевропейской и русской культуры, в Кирилове и Ницше, так же, как, может быть, отчасти и в самом Достоевском и наверное во Льве Толстом, все еще господствует „дух времени“, страшный демон середины, непроницаемой, нейтрализующей среды между двумя полюсами („две нити вместе свиты“), наш демон, наполнивший собою мир, самый великий и самый гаденький золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся, дух, смешивающий и смеющийся, дух русского лакея Лаврушки и всемирного лакея Смердякова». Не мог удержаться г-н Мережковский – даже Достоевского принялся стыдить! И как только не пришло ему в голову то простое соображение, что лучше «не понимать» и быть вместе с Достоевским, Толстым и Ницше, чем «понимать» и остаться в стороне от них. И что, с другой стороны, если Смердяков и Лаврушка попали в такую почетную компанию, как Толстой, Достоевский и Ницше, то тем самым они настолько возвысились, что, пожалуй, теперь и не стыдно быть на них похожими – в конце концов не только не стыдно, но даже лестно.
Жаль, страшно жаль, что г-н Мережковский уступил традициям и погнался за объединяющими идеями! Я не говорю уже о первом томе, но даже во втором встречаются превосходные страницы о Достоевском. Считаю своей приятной обязанностью сделать здесь из его книги большую выписку о Раскольникове, как потому, что мне хочется воздать должное г-ну Мережковскому, так и потому, что это даст возможность читателю оценить все преимущества ницшевского психологического описательного метода пред навязчивым и беспощадным общенемецким морализированием… «Раскольников испытал подобное тому, что должен был бы испытать человек, который вдруг потерял бы ощущение веса и плотности своего тела: никаких преград, никаких задержек; всюду пустота, воздушность, беспредельность; ни верху, ни низу; никакой точки опоры; оставаясь неподвижным, он как будто вечно скользит, вечно падает в бездну. После „преступления“ Раскольников испытывает вовсе не тяжесть, а именно эту неимоверную легкость в сердце своем – эту страшную пустоту, опустошенность, отрешенность от всего существующего – последнее одиночество: „точно из-за тысячи верст я смотрю на вас“, – говорит он своей сестре и матери. Он еще среди людей, но как будто уже не человек; еще в мире, но как будто уже вне мира. Ему легко и свободно. Ему слишком легко, слишком свободно. Страшная свобода. Создан ли человек для такой свободы? Может ли он ее вынести, без крыльев, без религии? Раскольников не вынес. И как могли, как могли подумать, как до сих пор еще думают все, что он оправдывает себя, потому что боится вины своей, боится „угрызений совести“. Да он их только и жаждет, только и ищет сознания вины своей, раскаяния, как своего единственного спасения».[239]239
Там же. С. 128.
[Закрыть] Вот как надо писать, вот как надо думать, искать, смотреть! Вот где виден истинный и достойный ученик Ницше! И ведь обошлось без синтеза. Разумеется, читатель, который ищет метафизических, нравственных и иных утешений, взвоет, может быть, даже взревет от негодования, прочитав эти строки – и отвернется от писателя, который столь бесстрашно говорит правду о жизни; но нужно уметь выдержать негодование и даже презрение толпы, нужно уметь, сохранив все возможное спокойствие, ответить воющим, ревущим и негодующим читателям: за метафизическими, нравственными и иными утешениями извольте обратиться к немцам, к толстым, многотомным немцам. У них этого добра – хоть отбавляй, особенно у Канта, специально занимавшегося изготовлением таких вещей, как «постулаты» свободы воли, бессмертия души – и даже Бога! К сожалению, г-н Мережковский, вместо того, чтобы отсылать к Канту ищущих идеалов читателей, сам идет к нему на поклонение. Я знаю, что г-н Мережковский никогда не уделял слишком много внимания вопросам теоретической философии, и я не стану, конечно, требовать от него обширной философской эрудиции и основательного знакомства с деталями Кантовской системы. Если бы даже он допустил какую-нибудь ошибку, я бы не поставил ему этого в упрек. Но он оберегся от ошибки – зато сделал худшее. Он повторил общее место о заслугах Канта и сознательно присоединил свой голос к огромному хору хвалителей и почитателей кенигсбергского философа.
Повторяю: он знал, что он делает; он не мог не знать, что, становясь на сторону Канта, он зажимает рот Раскольниковым, Карамазовым, Достоевским, Толстым, Ницше, и прерогативу свободного слова делает исключительным достоянием немецких идеалистов. Вот его подлинные слова, в значительной степени являющиеся итогом всей книги: «одно из двух: надо или опровергнуть Канта, или принять его и, в таком случае, согласиться с ним, что область, доступная исследованию нашего разума, есть только область явлений, область чувственного опыта, происходящего во времени и пространстве; Бог – вне явлений, вне пространства и времен; а следовательно и вопрос о бытии или небытии Божием находится вне области, доступной исследованию разума. „Бог необходим“ – это не разумная, не опытная, а мистическая посылка, не опровергаемая и не доказуемая разумом. Разум не утверждает и не отрицает, он только говорит: „я не знаю, есть ли Бог или нет его“».[240]240
Там же. С. 440.
[Закрыть] Г-н Мережковский так рассуждает не потому, что он лично проверил, насколько Кант и его критицизм действительно неопровержимы: ему, вероятно, некогда было заниматься этим. Вероятно, он никогда даже и не поинтересовался допросить, как следует, знаменитого философа, для какой собственно надобности потребовалось ему принизить права человеческого «разума». Г-ну Мережковскому в настоящую минуту нужно было лишить права голоса Ницше (см. 441 страницу), и он наскоро заключил союз с Кантом, позабывши, что Кант есть, был и будет основателем того идеализма, к которому обратились столь презираемые им бывшие марксисты. Кант не только не может поддержать человека, ищущего Бога, но своими «постулатами» он в зародыше убивает всякую надежду на возможность найти Бога. «Разум не утверждает и не отрицает бытия Божия» – это прежде и после всего значит, что нам до Бога нет и не должно быть никакого дела, – а раз так, то никакие мистические посылки уже не спасут ничего. Мы можем доказать незыблемость научных принципов, мы можем обосновать вечную мораль – ограничимся этим, а с Богом – как будет, так и будет; это дело чистого случая или, как говорит Кант, веры. Не нужно, однако, смешивать Кантовской веры с религией: они ничего общего между собой не имеют. Позитивизм ведь тоже не отрицает веры, даже веры в Бога! В конце одной из глав своей логики Милль, несомненный позитивист, поместил небольшое примечание, приблизительно строк в двадцать, в котором он со свойственною ему ясностью и убедительностью (beleidigende Klarheit[241]241
Оскорбительная ясность (нем.).
[Закрыть] – говорит Ницше) высказывает ту мысль, что позитивизм не исключает веры в Бога. Мне жаль, что у меня нет под рукой его книги, и я не могу привести этого места, никогда, насколько мне известно, еще не оцененного по достоинству. Но за смысл я ручаюсь. Здесь, впрочем, форма дело второе: главное, что Бог, о котором в тексте книги никогда не упоминается, попал в примечание. Это характерно и многозначительно: г-н Мережковский наверное со мной согласится. Но еще интереснее, что ведь Кант сделал то же, что и Милль. Его постулат Бога – есть тоже Бог «в примечании». Все нужно доказывать (напр., закон причинности, нравственный закон), в Бога же можно верить, ибо в конце концов не так и важно – существует ли Он на самом деле или не существует: главное, чтоб Его не оспаривали. В этом смысле и значение критицизма, как и миллевского позитивизма. Нужно было сосредоточить все внимание и весь интерес на мире явлений (и не всех, а только некоторых явлений, не возмущающих душевного спокойствия человека), нужно было придать прочность научным положениям и моральным принципам, которым стал угрожать английский скептицизм – и Кант прибегнул к гениальнейшей из возможных уловок. Увидев, что борьба невозможна, что выдержать напор нового течения – безнадежная затея, Кант решил пригнуться, в расчете, что вихрь пронесется над ним, не задев его. И расчет его оказался математически верным.
Кант спасся от скептицизма! – Стоило на мгновение проснуться от «догматической дремоты», чтобы потом иметь право спокойно, в сознании полной безопасности, уснуть на всю жизнь! Наука и мораль обеспечены, в мире явлений, соприкасающихся с философами, беспорядка не будет – ну, а дальше? Дальше – кому охота заглядывать так далеко! И по настоящий день, как только Раскольниковы, Толстые, Достоевские и Ницше начинают бить тревогу – им в ответ тотчас раздается стройный хор вышколенных голосов: назад к Канту, Кант защитит. Кант уймет бунтовщиков! И если бы Кант прочел приведенные мною выше рассуждения г-на Мережковского о Раскольникове или иные места из первого тома «Толстого и Достоевского» он, разумеется, счел бы себя обязанным погрозить пальцем и напомнить о мире явлений, синтетических суждениях a priori, антиномиях, категорическом императиве, Ding an Sich[242]242
Вещь в себе (нем.).
[Закрыть] и т. д. Но г-н Мережковский и сам спохватился. Ему понадобились положительные выводы, идеалы, логика, мораль, мировоззрение – а в таких делах без гениального Канта, разумеется, обойтись нелегко.
VI
А теперь спросим, наконец, в чем же последний синтез г-на Мережковского? У него на этот вопрос есть очень определенный ответ: в чем другом, а в неясности его упрекнуть нельзя. Уже с начала 5-й главы он приводит стихотворение З. H. Гиппиус – «Электричество», стихотворение, которое ему кажется до такой степени полно и удачно выражающим его основную мысль, что он, заключительные его строки цитирует до десяти раз. Стихотворение небольшое, и я его приведу целиком, ввиду той значительной роли, которую оно играет в книге г-на Мережковского.
Две нити вместе свиты,
Концы обнажены.
То «да» и «нет» не слиты,
Не слиты – сплетены.
Их темное сплетенье
И тесно и мертво;
Но ждет их воскресенье,
И ждут они его:
Концы соприкоснутся,
Проснутся «да» и «нет»,
И «да», и «нет» сольются,
И смерть их будет свет.
Как видит читатель, стихотворение едва ли может быть названо удачным. Оно схематично отвлеченно – в сущности, рифмованное переложение параграфа из элементарной физики. В том же 5 номере «Мира Искусства», в котором появилось «Электричество», напечатана еще одна вещь З. H. Гиппиус– «До дна». «До дна» – прелестное, истинно поэтическое и глубоко правдивое стихотворение. А г-ну Мережковскому оно не понадобилось: в нем нет принципов, общих выводов, синтеза. Там, непосредственно за такими, как будто бы подающими надежду стихами, как:
Люблю я отчаяние мое безмерное,
Нам радость в последней капле дана
следуют два других, исполненных столь человеческой, презирающей синтез, горечи:
И только одно я здесь знаю верное:
Нужно всякую чашу пить до дна.
Это – очевидное противоречие, невыдержанность, – а с тех пор, как немцы установили, что противоречий быть не должно, г-н Мережковский теоретически не выносит непоследовательности, а потому не слушает и не слышит человека, так мало «знающего», как автор стихотворения «До дна». И заглушив в себе природную эстетическую чуткость, г-н Мережковский бесконечно повторяет «Электричество», не соображая, что при многократном чтении даже неопытный читатель может догадаться, что «электричество» – слабая вещь. По содержанию «Электричества» уже видно, каких «выводов» добивается г-н Мережковский. Подобно всем идеалистам, и он убежден, что звание писателя обязывает его сделать знаменитое salto mortale,[243]243
Смертельный прыжок (ит.).
[Закрыть] – перескочить через всю жизнь к светлой идее. Но salto mortale поражает только у акробатов. Здесь на самом деле отчаянный прыжок заставляет биться человеческие сердца. Мы боимся за смелого гимнаста и со стесненным дыханием следим за его движениями. В области же мысли прыжки – самый безопасный, а потому мало на кого действующий прием. И даже обещание света, кажется, никого уже не прельщает. Боже, сколько раз нам уже говорили об этом свете, и как бы нам хотелось, чтоб хоть на время прекратились светлые разговоры!
И ведь чтоб добиться света, вовсе не нужны мистические «посылки». Как превосходно на эту тему говорят позитивисты – хотя бы тот же Тэн, на которого ссылается по поводу Наполеона г-н Мережковский. Посмотрите, какой пышной тирадой заканчивает он свою последнюю главу «истории английской литературы»… «Кто не чувствует восторженного удивления при виде колоссальных сил, находящихся в самом сердце всего существующего, которые беспрерывно гонят кровь по членам старого мира, распределяют массу соков по бесконечной сети артерий и раскидывают по поверхности вечный цвет юности и красоты? Наконец, кто не почувствует себя выше и чище при открытии, что этот ряд законов примыкает к ряду форм, что материя переходит постепенно в мысль, что природа заканчивается разумом и что идеал, около которого вращаются после стольких заблуждений все человеческие стремления, есть та же самая конечная цель, в виду которой работают, невзирая ни на какие препятствия, все силы вселенной?»… Чем это не «свет»? И какое блестящее, вдохновенное, великолепное красноречие!
Но, слушая его, хочется, вместе с Верленом, крикнуть вдогонку окончившему свое дело и удаляющемуся на покой Тэну: Prends l’eloquence et tords lui son cou![244]244
Риторике сломай ты шею! (фр.)
[Закрыть] Не нужно, не нужно нам всего этого…
Нельзя не упомянуть, хотя вскользь, о предисловии г-на Мережковского. Это не предисловие, а большая статья в 4 печатных листа. Странно оно начинается, странно и кончается. Автор, по-видимому, задался державинской задачею:
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить.
«Довольно, – пишет г-н Мережковский, – мы говорили – надо делать: русская литература есть великое слово России, за словом – дело, и дело России должно быть достойно ее великого слова. Начнем же делать».
Что делать? К сожалению, прямого ответа на этот вопрос нет, и мне во второй раз приходится догадываться. По-видимому, г-н Мережковский приглашает нас, писателей, вмешаться в общественные дела России. Если моя догадка справедлива, – а ни в каком ином смысле я не могу понять его слова – то, собственно говоря, он запоздал, и сильно-таки запоздал со своим призывом.
Вот уже более полустолетия, как наша литература только и делает, что занимается общественными делами, и если ее можно в чем упрекнуть, то разве в том, что она чересчур усердствовала в этом направлении и вносила общественно-политическую точку зрения решительно повсюду, даже в те области, где она была совершенно неуместна.
Но это дело второе. Гораздо интереснее, что г-н Мережковский, по-видимому, уже в самом предисловии делает попытку вмешаться в общественные дела.
Обсуждая вопрос о так называемом «отлучении от церкви» гр. Толстого, г-н Мережковский начинает подавать советы св. Синоду. И к моему удовольствию (почему к удовольствию – об этом ниже), его первый опыт оказывается совершенно неудачным. Он, напр., предлагает такую меру: разрешить гр. Толстому печатать в России все свои «богословские» произведения.
Вот эта аргументация: «Свобода мысли и слова никому в России в настоящее время так не нужна, как именно русской церкви, между прочим, и для борьбы с Л. Толстым. Если даже безоружность его, вследствие цензурных запрещений, есть только предлог, то насколько все-таки выгоднее было бы для церкви, чтобы и этого предлога не существовало: ведь мнимая безоружность и есть главное оружие Л. Толстого, кажущаяся беззащитность – настоящая крепость, в которую этот Голиаф спасается от камня Давидова. Нужно отнять у него оружие, выманить его из этой крепости, ибо церкви нужна победа не лукавая, открытая, а, следовательно, и борьба открытая и т. д.». Увы! все эти соображения слишком элементарны и едва ли на кого подействуют. Любому священнику или начальствующему лицу они уже давно и очень хорошо известны, и если все-таки гр. Толстому не разрешают печатать его сочинения, то вероятно для этого имеются очень и очень серьезные основания, которых не знает и не умеет угадать г-н Мережковский. Правда, может быть, г-н Мережковский пустился на хитрость: он думает, что, если назвать Толстого безопасным, то удастся выманить у власть имеющих лишнюю прерогативу. Но это такой избитый способ, им так часто пользовались либералы в своей борьбе с консерваторами, что им уже никого не обманешь и ничего не выманишь. Г-н Мережковский в своем предисловии хлопочет не только о привилегиях для гр. Толстого, но еще о многих вещах. И приблизительно с таким же искусством. И я очень рад, что он оказался плохим политиком. Это значит, что он скоро вернется обратно в свою родную стихию – литературу. А раз еще вернется – то наверное убедится, что здесь еще многое, многое осталось сделать, и что при всевозможных обстоятельствах всегда найдутся люди, которых, в силу их характера и дарования, дело и борьба мысли будет занимать больше, чем политика. Ибо и в литературе есть дело, есть страшная борьба, более опасная и кровавая, чем борьба политическая и общественная…
Подведу итог сказанному: идеи г-на Мережковского – хорошие, благородные, возвышенные идеи – не хуже, может быть, лучше других идей, обращающихся ныне в обществе. Беда в том, что идеи не нужны. De la musique avant toute chose – et tout le reste est littérature.