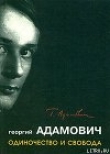Текст книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 69 страниц)
Днем мы ходили гулять, вдоль ручья, который шумел и прыгал по камням, и Д. С. говорил, глядя, как водяные пауки стараются удержаться изо всех сил, чтобы не быть унесенными, работая ножками:
– Зина! Они против течения! Они совсем как мы с тобой!
Ручей поворачивал, успокаивался, тихонько журчал, убегая, и Д. С. опять говорил, но уже ни к кому не обращаясь:
– Лепечет мне таинственную сагу про чудный край, откуда мчится он, – и внезапно останавливался и начинал вспоминать, как они когда-то жили под Лугой (где у Карташева болел живот), так что нетрудно было догадаться, что «чудный край» для него мог быть только один на свете.
Она сказала мне после его смерти, что они не расставались никогда и пятьдесят два года были вместе, и на мой вопрос, есть ли у нее от него письма, ответила: какие же могут быть письма, если не расставались ни на один день? Помню, как на его отпевании в русской церкви на улице Дарю, она стояла, покачиваясь от слабости на стройных ногах, положив руку на руку Злобина, и он, прямой и сильный, и такой внимательный к ней, неподвижный, как скала, стоял, и потом повел ее за гробом. И как года через полтора на деньги французского издательства был на могиле Д. С. поставлен памятник, с надписью: «Да приидет Царствие Твое!» и каждый раз, когда я бывала на его могиле, я слышала его голос, слегка картавящий на обоих «р», восклицающий это заклинание, в которое он вкладывал особый, свой смысл. <…>
А. БАХРАХ
ПОМЕРКШИЙ СПУТНИК[88]88
Бахрах А. По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж, 1980. С. 28–32. Бахрах Александр Васильевич (1902–1987) – критик, мемуарист.
[Закрыть]
Вспоминаю, как, будучи еще гимназистом старших классов, я получил на Рождество в подарок от моего деда собрание сочинений Мережковского, заключенное в огромную коробку из претолстого картона. Я и сейчас вижу ее перед глазами. Кажется мне, что она вмещала свыше 20 томов. Я почти захлебывался от радости, потому что перед Мережковским преклонялся. Его трилогию «Воскресшие боги» я успел прочитать еще до получения подарка, а его «Вечные спутники» были как бы моей настольной книгой.
Затем, как видится на отдалении, «пролетел» совсем куцый отрезок времени, и все вверх тормашками перевернула революция. Из полуголодного Петербурга, с превеликими трудами получив «заграничные паспорта», с родителями устремились мы в сытый «гетманский» Киев, а через некоторое время очутились в эмиграции. И вот в Париже, весной 21-го года, на каком-то многолюдном собрании, приуроченном к едва завершившимся кронштадтским событиям, довелось мне впервые увидеть самого Мережковского. Выступал он среди прочих ораторов, из которых запомнился мне только степенный Карташев и сморщенный Бурцев.
Мережковский, маленький, тщедушный, красногубый, в своем выступлении точно острыми шпагами пронзал невидимых противников. Речь его была способна взволновать, хотя в его как будто заранее заученных жестах и модуляциях голоса был приметен легкий налет театральности. Но кому это мешало!
Тогда он, кажется, впервые во всеуслышание словно прожжужал так пришедшийся по вкусу аудитории и сопровождаемый громом аплодисментов лозунг – «Мы не в изгнании – мы в послании». Собственно, все его выступление было развернутым комментарием к этим эффектным словам. Не знаю только, вспомнил ли он, сойдя с трибуны, свои собственные строки, одни из немногих запоминающихся из его поэтического наследия: «Дерзновенны наши речи, / Но на смерть обречены…».
Потом издали мог видеть чету Мережковских. Каждый день в определенный час их можно было встретить в одной из аллей, ведущих к Булонскому лесу. Если было прохладно, он устремлялся быстрыми шажками, словно стараясь вынырнуть из необычайно длиннополой шубы отнюдь не парижского покроя. Издали казалось, что Гиппиус в каком-то экстравагантном туалете – одеваться со вкусом она никогда не умела – словно одергивает своего супруга и удерживает его стремительность.
А познакомился я с ними позже в самом изысканном из парижских литературных «салонов», у милейших Ц. Как иногда бывает, несмотря на еще не стершийся пиетет к «спутнику» моих юношеских лет, с первого взгляда, с первого незначащего рукопожатия я ощутил в нем что-то для меня неприятное, даже в каком-то смысле отпугивающее. Вероятно, из-за этого первого, и, в конце концов, совершенно необоснованного впечатления, я так и не стал посетителем его «воскресников», точнее журфиксов его жены, так как на них «хозяйкой дома» была она и только она. Сам Мережковский был почти на правах гостя.
В знаменитой в анналах русской литературы квартире на «рю де Колонель Бонне» мне случалось побывать не больше двух-трех раз, но я запомнил, что эта квартира резко отличалась от жилищ всех других русских литераторов Парижа. Да это и немудрено – Мережковские снимали свою квартиру с «доисторических» времен, довольно безалаберно обставили ее в стиле модерн с ирисовыми разводами и – случай почти единственный – после революции прибыли в Париж с ключом от входной двери в собственную квартиру.
Но дело было, конечно, не в устаревшем к тому времени «югендштиле». Мне было как-то почти неловко наблюдать сидевших вокруг чайного стола гостей, в большинстве моих приятелей, которые здесь точно преображались, пыжились, чтобы «прыгнуть выше головы» и щегольнуть каким-нибудь «неизданным» парадоксом. Впрочем, то, что говорилось, едва ли могло вдохновлять Мережковского; можно было подумать, что и за чайным столом, среди гостей, он продолжает думать о своем и только о своем, и едва ли кто-либо из присутствующих ему по-настоящему близок.
Мне была не по душе и направленная на меня лорнетка хозяйки дома, которая своими прищуренными глазами словно хотела разглядеть своего собеседника насквозь. Впрочем, вероятно, я пристрастен – делала она это без всякого умысла, просто по близорукости, которую часто преувеличивала, как преувеличивала свой дурной слух. Недаром Бунин говорил, что у нее все с расчетом, что просто она ничего не делала, просто не писала даже дневник, всегда с каким-то затаенным вторым… десятым смыслом.
Всегда ли? Адамович не раз говорил, что провести вечер с Гиппиус с глазу на глаз бывает на редкость «уютно и питательно», когда не надо говорить о высоких материях, а можно поболтать о том, о сем, вспоминать старое или посудачить о «младом племени» воскресных сборищ. Всего этого Мережковский не терпел. Он был книжником, вероятно, не мог бы отличить клен от дуба или рожь от овса. Его мир замыкался полками его библиотеки, а собственные его книги были нафаршированы умело подобранными цитатами из малодоступных источников, которые он талантливо скреплял «междуцитатными мостиками», так или иначе вставляя между строк разговор о «двух безднах» – бездне вверху и бездне внизу. Ирония была ему чужда, анекдотов он не выносил да едва ли был способен понять их соль. Он разгорался только при обсуждении какой-нибудь метафизической темы, тут он мог даже вспыхнуть. Недаром Блок говорил о нем как об «отвлеченном» человеке, а с годами эта отвлеченность только крепла.
В Париже нельзя было восстановить некогда нашумевшие «религиозно-философские собрания», не было епископа Сергия, чтобы на них председательствовать, придавая им вес, не было Победоносцева, чтобы их запретить. На худой конец, была придумана «Зеленая лампа», но ее пушкинское название никак не вязалось с ее сущностью. В переполненном преимущественно дамами зале на заседаниях «Лампы» говорили о «смысле жизни» или, лучше сказать, о вещах, о которых лучше думать, чем наспех ораторствовать.
Вероятно, вся личная неудовлетворенность Мережковского происходила от того, что он всегда был чрезмерно одинок; приобретал знакомых, но едва ли имел друзей. Он не переставал твердить о «безднах», а едва ли многие хотели заметить, что эти бездны скрыты в нем самом.
Теперь, на известном расстоянии, когда оба они отошли в лучшие миры, я все яснее понимаю негодование Бунина, вызванное весьма настойчивыми предложениями четы Мережковских подписать нотариальное (непременно нотариальное) соглашение о дележе шкуры неубитого медведя, сиречь о дележе нобелевской премии, ежели паче чаяния шведский золотой дождь прольется на одного из них. Бунин не совсем зря говорил, что от «витания в небесах» до хождения к нотариусу шаг невелик!
А ведь теперь становится все более очевидным литературный рост Бунина и угасание Мережковского. Даже может показаться странным, что когда-то их ставили, так сказать, на одну доску и в литературной «табели о рангах» причисляли к одному разряду.
Конечно, нельзя зачеркнуть роль Мережковского в культурном возрождении России начала века, роль вполне замечательного «культуртрегера». Нелепо забывать значение этого «запойного игрока в символы», как о нем очень метко сказал Розанов. Достаточно просмотреть статьи или письма того же Розанова, Блока, Белого, Бердяева, Шестова, Ремизова, любого представителя «серебряного века», чтобы в этом убедиться, чтобы ощутить удельный вес Мережковского. Но, как падающая звезда, он ярко осветил русское небо и погас. Погас именно тогда, когда очутился в «изгнании», не достигнув того (да это было и немыслимо), чтобы быть в «послании».
Можно поэтому понять, что теперь, когда точно из рога изобилия сыпятся переиздания всяких русских книг, часто никому не нужных, никто не подумал о переиздании Мережковского, даже лучшего и, вероятно, наиболее непреходящего в его литературном наследии исследования о Толстом и Достоевском, о «тайновидце плоти» и «тайновидце духа». Впрочем, оговорюсь, в Англии была переиздана его книжечка о Пушкине, собственно, заключительная глава его «Вечных спутников». Она вызывает теперь чувство недоумения, так как почти сплошь основывается на подложных воспоминаниях Смирновой, той, которая «шутки злости самой черной писала прямо набело». Но эти воспоминания – и в этом едва ли можно сомневаться – были сочинены ее дочерью, которая ни за что, ни про что вкладывала в уста Пушкина разговоры о бессмертии души и об «обаянии зла». Мало того, по словам Мережковского, псевдо-Смирнова разоблачала «то, что мы, так сказать, видя – не видели, слыша – не слышали», а в придачу повествовала об оценке Пушкиным «Трех мушкетеров», увидевших свет через четыре года после дуэли на Черной речке!
Можно ли удивляться, что современному читателю невдомек знакомиться с романами Мережковского, в которых действуют приодетые в костюмы эпохи, искусно расставленные манекены, все как на подбор произносящие софизмы в духе самого автора, да еще с обилием – часто чуть раздражающих – фраз, лишенных подлежащего.
Можно легко поверить Бунину, который рассказывал, что как-то на ночь принялся за чтение монографии Мережковского о Данте, на какой-то странице заснул, а проснувшись, возобновил прерванное чтение и не сразу обратил внимание на то, что Данте за ночь превратился в Наполеона. Оказалось, что он взял со своего ночного столика другую книгу Мережковского, но строй фразы, словарь, ритм повествования были настолько однотонны, что он не сразу заметил свою оплошность.
В одном из стихотворений Мережковского есть строка: «Холод утра – это мы». Это подлинно пронзительные слова, за которые ему многое зачтется. Но знал ли он, когда ему их нашептывала его Муза, что трудно было придумать более точное автобиографическое признание. Да, именно «холод утра – это мы», «мы» потому, что ведь не скажешь «это я!».
А. ВОЛЫНСКИЙ
СИМВОЛЫ (ПЕСНИ И ПОЭМЫ)[89]89
Впервые: журнал «Северный вестник». 1892. № 4. Волынский Аким Львович (Хаим Лейбович Флексер; 21 апреля (3 мая) 1861, Житомир – 6 июля 1926, Ленинград) – критик, историк театра.
[Закрыть]
В 1888 г. г-н Мережковский издал небольшой томик стихотворений, не имевший никакого успеха. Легкий и плавный версификатор, г-н Мережковский поразил искусственностью тона, риторической декламацией, фальшивостью придуманных настроений. Книжка молодого автора появилась почти вслед за первыми изданиями стихотворений Надсона и Минского, и публика так же, как и литературная критика, не могла не заметить, что поэтическое песнопение г-на Мережковского в большинстве случаев представляет перепев – без увлечения, даже без особой внешней силы выражений – тех мотивов, которые, хорошо ли, худо ли, разрабатывались названными поэтами. У Надсона была одна болезненно дребезжащая струна, на которую откликнулось, по странной прихоти судьбы, такое множество народу, что получилась удивительная иллюзия: среднее, хотя в общем симпатичное дарование сделало впечатление чего-то оригинального и сильного. Шум рукоплесканий, громкие, настойчивые крики некомпетентной массы создали вокруг молодого поэта разгоряченную атмосферу, почти такую же, какая выпадает на долю истинных и замечательных талантов… А молва разносила от края до края печальное известие о неизлечимом недуге, физических страданиях Надсона. Писатель с невыяснившимся призванием, с неглубокими и не всегда правдивыми настроениями вдруг оказался славным преемником традиций Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Посыпались лавры, цветы, где-то сделана была Надсону шумная овация: взволнованная толпа, расступившись и рукоплеская, давала дорогу больному поэту, и, расходясь, восторженно повторяла знаменитые слова: «облетели цветы, догорели огни…». А тут еще приключилась в высшей степени импонирующая и романтически-обаятельная история: светская красавица с чудными глазами написала поэту золотым пером девяносто второй пробы ряд писем, полных грациозного кокетства, возвышенной любви и восторженных похвал, похвал без конца. Графиня Лида так и писала Надсону: «Вы должны жить, вы будете жить, вы обязаны жить, так как ваш талант необходим для людей, как необходимы для них свет, тепло, воздух, пение и музыка». Когда после смерти Надсона обнародована была переписка его с графиней Лидой, впечатление получилось головокружительное. Казалось, будто вся Россия была у ног поэта: лавры от разночинной интеллигенции, благоуханные цветы от нежно влюбленных светских красавиц. Признание демократических масс и признание тонкое, опьяняющее, аристократическое – золотым пером на душистой веленевой бумаге. Такого почета не удостоился ни один поэт донадсоновского периода, и, можно сказать, литература наша раскололась на две половины – до Надсона и после Надсона, с цветами и без цветов, с нервозно-бурными аплодисментами и без аплодисментов.
Значительный успех выпал на долю и другого поэта – г-на Минского. Г-н Минский пользуется известностью и в настоящее время, и мы думаем, что эта известность основана на прочных началах. Несмотря на недостатки формы и стиля, в стихах его чувствуется глубина умственных настроений и серьезная вдумчивость незаурядной натуры. Философский элемент в произведениях г-на Минского очень часто выкупает неудачный оборот речи, искусственно патетические тирады и тот недостаток мягкости и нежности, который так мешает лирическому творчеству. Г-н Минский не имел успеха, равного успеху Надсона, но успех все-таки он имел – не большой, но искренний, без газетной рекламы, без романтических фальсификаций, без ненужных и раздражающих претензий и воплей. Писатель должен завоевать себе место честным трудом и посильным служением идеалам литературы, искусства. Всякое содейство со стороны, всякого рода принудительное воздействие на публику, слишком впечатлительную к газетному и журнальному шуму – литературное преступление по отношению к самому писателю. Каково бы ни было дарование г-на Минского, оно, во всяком случае, заслуживает уважения и симпатии, и место, занимаемое им в рядах действующей литературы, завоевано именно честным и самостоятельным трудом.
Таковы ближайшие предшественники г-на Мережковского – Надсон и Минский. Между этими двумя гранями сложились главнейшие его поэтические произведения, вошедшие в первый томик его стихотворений. И дребезжащая струна Надсона и рассудочно-поэтическая диалектика г-на Минского отразились в стихотворениях г-на Мережковского. Вся самостоятельная, не переводно-компилятивная часть книги оказалась каким-то литературным вариантом уже знакомых стихотворений, с очень крупными, бросающимися в глаза недостатками: перепев г-на Мережковского фальшиво-тенденциозен, резонерски холоден, то вял и растянут, то несдержанно-криклив и несдержанно патетичен.
В небольшом лирическом стихотворении – чтобы оно произвело впечатление, – должны сосредоточиться самые разнообразные достоинства: музыкальная форма, сжатые образные выражения, меткость и яркость поэтических уподоблений. В лирическом произведении должна быть красота, должно быть искреннее чувство, свободное излияние душевного настроения. Одна крикливая нота способна все испортить. Один ходульный, бравурный оборот речи может рассеять всю поэтическую иллюзию. В первом сборнике стихотворений г-на Мережковского мы не нашли ни одного стихотворения, в котором пустая и бессильная риторика не резала бы уха своею претенциозностью и манерностью. И при этом – ни тени простой сердечности, простого искреннего отношения к себе и к читателю. Одно стихотворение в этом сборнике можно считать в своем роде классическим. Была любовь, но вот наступило разочарование. Любовь не изображена, но разочарование обосновано в духе надсоновской музы:
Не думала ли ты, что, бледный и безмолвный,
Я вновь к тебе приду, как нищий, умолять,
Тобой отвергнутый, тобою вечно полный.
Чтоб ты позволила у ног твоих рыдать?
Напрасная мечта! слыхала ль ты порою,
Что в милой праздности не все, как ты, живут,
Что где-то есть борьба, и мысль, и честный труд,
И что пред ними ты – ничто с твоей красою?
Смотри, – меня зовет огромный, светлый мир:
Есть у меня бессмертная природа,
И молодость, и гордая свобода,
И Рафаэль, и Данте, и Шекспир!
……………………………………………
Ты гнева моего, поверь, не заслужила, —
Но если б ты могла понять, какая сила
Была у ног твоих…
Стихотворение это подписано 1886 годом. Но в 1891 году горделивое самочувствие, сознание в себе огромной силы не покидало молодого поэта. В стихотворении «Везувий», напечатанном среди других многочисленных «символов» г-на Мережковского, поэт с высоты огнедышащей горы посылает сочувственный привет, как равный равному, светлому легендарному герою Прометею:
…К бездне
Я подошел и в кратер заглянул:
Горячий пар клубами вырывался…
Я счастлив тем, что нет в душе смиренья
Перед тобой, слепая власть природы!..
Я здесь стою, никем не побежденный,
И к небесам подняв чело,
Тебя ногами попираю,
О древний Хаос, праотец вселенной.
Это не поэма, а чистейшая рисовка. Когда поэт говорит, заглянув в кратер вулкана: «Тебя, о древний Хаос, ногами попираю» – читателю приходит на ум, что автор в своей неискренности сбивается на ложный путь чисто мелодраматических эффектов. Мало ли сколько ног перебывало на Везувии, мало ли кто взбирался на вершину вулкана, и однако же никто с такою откровенностью не состязался с ним в могуществе. В нашей литературе, кажется, только г-н Мережковский вздумал окончательно притоптать, раздавить или одним дыханием гения сгромыхнуть в бездну небытия этот злополучный вулкан.
Кроме оригинальных стихотворений в двух книжках г-на Мережковского есть немало поэтических компиляций на различные темы. «Протопоп Аввакум», «Дон Кихот», «Сакья Муни», «Франциск Ассизский», «Возвращение к природе» и другие вещи написаны по различным литературным пособиям и где было возможно – с фотографической верностью оригинальным документам. Г-н Мережковский – неутомимый работник, и путь стихотворных компиляций, переводов ему вполне по силам. В «Прометее» чувствуется способный переводчик, умеющий если не всегда верно и точно передать, то во всяком случае – понять основную мысль переводимого текста. В буддийских легендах некоторые отдельные строчки, так сказать, выписаны не без увлечения и чувства. Перевод, компиляция – естественная сфера для дарования г-на Мережковского, и в этой сфере поэта, по-видимому, привлекают имена действительно замечательных и достойных хорошей передачи авторов древнего мира.
Новый сборник стихотворений г-на Мережковского – «Символы» – отмечен такой своеобразной печатью, что о нем стоит сказать несколько слов. Г-н Мережковский, по-видимому, распростился с прежними гражданскими темами. Новые веяния должны иметь своего поэтического истолкователя, а г-н Мережковский обладает достаточными дарованиями для всякого рода литературных переделок и компиляций – то в форме стихотворного рассказа, то в форме полулирического, полурезонерского монолога. Между книжкой стихотворений г-на Мережковского, изданной в 1888 году, и только что появившимися в издании г-на Суворина «Символами» – пропасть очевидная и крайне любопытная.
Вся эта новая книжка г-на Мережковского представляет собою почти сплошное философствование на религиозную тему. Если бы все эти длинные поэмы – «Вера», «Смерть», «Возвращение к природе» – были одушевлены живым и искренним чувством, то при недостатках чисто художественного свойства – вымученных красках, подражательном стихе, отсутствии серьезного психологического материала и характеров – эти поэмы могли бы все-таки иметь некоторое литературное значение. Молодое литературное поколение воспитывалось до сих пор в слишком узком кругу односторонних, утилитарных понятий, и можно было бы только порадоваться всякой попытке расширить горизонт поэтического созерцания, раздвинуть пределы поэтического творчества. К сожалению, попытка г-на Мережковского имеет все признаки расчетливой тенденциозности: черты мистицизма, рассеянные в «Символах», являются какими-то случайными придатками к совершенно обычным и банально разработанным сюжетам. Это не увлекательная и чистая струя восторга, бьющая из глубины души, а какое-то случайное веяние извне, какая-то аффектация молодого стихотворца, легко отдающегося попутным течениям. Все эти длинные, растянутые и наполовину бессодержательные поэмы с удовольствием отдашь за одно небольшое, но искренно прочувствованное стихотворение, написанное с действительным талантом, не исковерканное никакою игрою на повышение тех или других философских принципов.
«Вера», быть может, лучшее поэтическое произведение г-на Мережковского, но и здесь слишком много деланных стихов, растянутых описаний и пылких возгласов. Лирические отступления в этой поэме либо чересчур прозаичны, либо чересчур приподняты в расчете на впечатление импонирующего величия. Герой рассказа, похоронив любимую девушку, сразу совершенно перерождается.
Он стал сердечней, проще и добрей,
Урок судьбы прошел ему не даром,
Сергей под первым жизненным ударом
Окреп душой…
Один удар – и глупый фразер обернулся блестящим, любящим и преданным отечеству ученым профессором.
В большой аудитории шумит
Толпа студентов…
Толпы затихли. Все внимания полны.
Он говорил, и речь его лилась
С волнующей сердца свободной силой…
Таков заключительный эпизод поэмы, а вслед за ним – лирическое отступление автора в четырех патетических куплетах:
Бог помочь всем, кто в наш жестокий век
Желает блага искренно отчизне.
В нем навсегда не умер человек;
Кто ищет новой веры, новой жизни,
Кто не изменит родине вовек!
Смысл всех своих символов г-н Мережковский сообщает нам в стихотворении «Бог», которым открывается его новая книжка.
Я Бога жаждал – и не знал
Еще не верил, но любя,
Пока рассудком отрицал,
Я сердцем чувствовал Тебя,
И Ты открылся мне: Ты – мир,
Ты – все. Ты – небо и вода,
Ты – голос бури, Ты – эфир,
Ты – мысль поэта. Ты – звезда…
Чтобы все осветить лучом божественности – вопреки непосредственному и жгучему чувству разлада между миром внешним и внутренним, между поэзией внешних красок и поэзией внутренней скорби и внутренних радостей – нужны необычайные творческие силы, нужен талант Гете, Шелли, а не тот талант мелкого пошиба, с ничтожно-горделивыми мечтаниями, с вечным шатаньем справа налево и слева направо по всем путям возможного литературного успеха, которым наделены писатели наших дней. Для великих литературных задач требуются сильные характеры, величавые натуры.
Попроще, поменьше ломанья, побольше искренности! Таланты растут только в освежающей атмосфере искренней гуманности и труда в посильных литературных пределах. Всякая фальшь перед самим собой отравляет душу, как яд. Она умаляет и принижает внутренние силы.