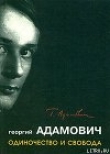Текст книги "Жизнь и творчество Дмитрия Мережковского"
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 61 (всего у книги 69 страниц)
Ю. ТЕРАПИАНО
Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ИИСУС НЕИЗВЕСТНЫЙ
Т. 1. Белград[208]208
Впервые: Числа. 1933. № 9. С. 214–216.
[Закрыть]
Говоря о новой книге Д. С. Мережковского «Иисус Неизвестный», только еще начатой печатаньем (перед нами том 1, обнимающий I и II части), я не претендую высказаться ни достаточно полно, ни достаточно по существу. Слишком много вопросов затронуто в этой книге, уже теперь можно сказать, одной из значительнейших работ Д. С. Мережковского.
Поневоле огрубляя, чтоб сказать это в нескольких словах, основные положения книги следующие: 1) наше знание о Евангелии есть не знание, а лишь какая-то роковая инерция нечувствия; 2) наше приближение к Христу, сколько бы мы ни вкладывали в представление о Нем добрых чувств, в сущности – полное о Нем неведение. Только преодолев в себе двухтысячелетнюю инерцию, только прийдя в движенье для нахождения Христа Неизвестного и Неизвестного Евангелия, мы сможем прийти к церкви будущего века.
Современное христианское соборное усилие должно быть направлено не к тому, чтобы хранить Образ Христа канонический, но к тому, чтоб почувствовать и понять подлинный Его образ.
Не ересь ли эти положенья? Закономерно ли для христианина подобное дерзанье, совместимо ли со смиреньем и верой?
Д. С. Мережковский отвечает на это так: «рост человеческого духа остановился в IV веке, когда движущая сила Духа – Евангелие – заключена была в неподвижный канон. Свято хранил Канон Евангелия от разрушительных движений мира; но если дело Евангелия – спасенье мира, то оно совершается за неподвижной чертой Канона, там, где начинается движение Евангелия к миру и мира к Евангелию… Тело Евангелия расковать от брони Канона, Лик Господень от церковных риз так нечеловечески трудно и страшно, если только помнить, Чье это Тело и Чей это Лик, что одной человеческой силой того сделать нельзя; но это уже делается самим Евангелием, вечно в Нем дышащим Духом Свободы».
Разрыв христианства с жизнью (мнимого христианства с мнимой жизнью), что бы нам ни возражали, в представлении подавляющего большинства современников – совершившийся факт. «Слепо читают люди Евангелие, – говорит Д. С. Мережковский, – потому что привычно. В лучшем случае думают: галилейская идиллия, второй неудавшийся рай, божественно прекрасные мечты земли о небе: но если исполнить ее, то все полетит к черту». – «Страшно думать так?» – спрашивает Мережковский и отвечает: «нет, привычно». Результат этой слепой привычки: христианский мир в тупике. Давно сказано: христианство имеет целью устроенье загробной жизни; здесь – оно ставит невыполнимые для огромного большинства нравственные требования, насилует ум, заставляя принимать невместимые для него положенья.
Толстой не мог принять Мистерию и назвал ученье Церкви обманом веры, подменой, разлучившей людей со Христом. Розанов с невероятной остротой переживал отпаденье Сына от Отца. Но самое страшное – современное, без волненья, с горечью произносимое: «Евангелие – прекрасная, но неисполнимая мечта».
Снять эту тяжесть с человечества, по мнению Д. С. Мережковского, может только Неизвестное Евангелие. Тупик, к которому привело нас безучастное следование традиционному представлению о Евангелии – бездна кажущаяся, обман чувства, несовершенство человеческого восприятия, благодаря которому благовестие о жизни, о преображении и освящении земли превратилось в отвержение жизни.
Образ Христа, воскресшего во плоти, остался неувиденным вполне, может быть, от неспособности глаз человеческих прямо смотреть на солнце. Что-то от «ученики ночью выкрали тело Его» слышится, когда повторяют губы наши: «Царствие Мое не от мира сего».
Эллинское абстрактно-холодное умственное течение в раннем христианстве как бы анестезировало конкретное, горячее теченье сердца – начало иудейское, о Мессии. Иудейское знанье о Мессии, преобразователе жизни, осталось неуслышанным эллинами.
Почувствовать по-настоящему, понять, насколько неведом нам Иисус Неизвестный – это главное. Осознать – значит сорвать с глаз повязку благополучия, открыть сердце навстречу Ему. «Чтобы увидеть Его, надо услышать Его», как услышал Паскаль: «в смертной муке Моей Я думал о тебе, капли крови Моей Я пролил за тебя». И как услышал Павел: «Он возлюбил меня и предал Себя за меня» (Гал. 2:20). «Вот самое неизвестное в Нем, Неизвестном: личное отношение Иисуса Человека к человеку, личности, прежде чем мое к Нему, Его ко мне отношение».
«Христианство – странно», – сказал Паскаль. «Странно, необычайно, удивительно», – говорит Д. С. Мережковский. «Первый шаг к нему – удивление, и чем дальше в него – тем удивительней».
Ученье Христа, Личность Его и действия порой столь смущающе странны для человеческого ума, столь несоизмеримы с нашим ограниченным сознаньем, что с первых же дней Христовой проповеди ученики Его порой бывали принуждены как бы бежать от Него подлинного, спасаться в людское о Нем и о словах Его представление.
Даже внешний облик Христа оказался для видевших Его невыразимым, свидетельства их как бы составлены лишь из отдельных проблесков озаренья, средь человеческой потребности сделать Нечеловеческое – человеческим.
«Корни обоих преданий о красоте и безобразии Лика Господня, – говорит Д. С. Мережковский, – уходят, кажется, в очень темное, но исторически подлинное воспоминание. Самое особенное, на другие человеческие лица не похожее, личное в лице Иисуса не есть ли именно то, что оно по ту сторону всех человеческих мер красоты и безобразия, несоизмеримо с нашей трехмерной эстетикой. Если так, то понятно, что видевшие Его уже не помнят, какое из двух пророчеств исполнилось в Нем: „Лик Его обезображен паче всех человеков“ или „Ты прекраснее всех сынов человеческих“.
Из этой невозможности вместить Его явилась воля к „докетизму“. Докетами, „каженниками“ называли в древнем христианстве тех, кто не хотел принять Его во плоти: „Видимое тело Иисуса – только тень, призрак“, – учил Маркион в конце II века. „Лама сабахтани“, возгласил Господь на кресте только для того, чтобы обмануть и победить сатану», – скажет Афанасий Великий, столп православия. «В пище Господь не нуждался», по Клименту Александрийскому: призрак не ест, не пьет. «Жажду» на кресте – значит: жажду спасти род человеческий, скажет Лудольф Саксонский, написавший в XV веке одну из первых «Жизней Иисуса». «Иисус – только распятый призрак», – скажут и нынешние докеты-мифологи. Так, от Маркиона через Афанасия Великого и Златоуста до наших дней все христианство пронизано докетизмом.
Другой соблазн – иносказательно – докетизм – толковать и сопровождать Евангелие человеческими пояснениями. Грубейшим нечувствием пронизана богословская тенденция: успокаивать себя «знанием» и «объяснением» там, где Евангелие дышит огнем палящим.
Этим огнем нужно себя распалять, доколе не услышишь ответа, подобно Паскалю.
«Был ли Христос, – так ставит вопрос Д. С. Мережковский, – значит сейчас: будет ли христианство?» Вот почему прочесть Евангелие как следует, так, чтобы увидеть в Нем не только Небесного, но и Земного Христа, узнать Его, наконец, по плоти, сейчас значит спасти христианство – мир.
«Церковь, врата адовы не одолеют ее, сама от страшной болезни „кажения“, может быть, спасется; но этого мало: ей надо спасти мир. Церковь знает Христа во плоти; но Его уже не знает и не хочет знать мир. Вечный путь Церкви – от Иисуса Земного ко Христу Небесному; миру, чтобы спастись, надо пойти обратными путем, не против Церкви, а к Ней же, от Христа к Иисусу. Путь Церкви – ко Христу Известному; путь мира – к Иисусу Неизвестному», – говорит Д. С. Мережковский.
Ю. ТЕРАПИАНО
Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ. ПАВЕЛ И АВГУСТИН
Изд. «Петрополис», 1937[209]209
Впервые: Современные Записки. 1937. № 65. С. 441–443.
[Закрыть]
«Знает Августин – знаем и мы сейчас, что значит родиться, если не в конце мира, то в конце одного из миров, – в щели Истории, между двумя веками-эонами, двумя жерновами мелящими, – между тем, что еще не умерло, и тем, что еще не родилось – двумя кругами той восходящей или нисходящей лестницы, которую мы называем „мировым развитием“, „эволюцией“; что значит родиться перед „Нашествием варваров“. Этим-то Августин и близок нам, ближе, может быть, всех святых, после Павла, жившего и умершего в еще более тесной щели между веками-эонами, перед еще более грозным концом», – говорит Мережковский.
В этой «тесной щели» среди наших современных писателей больше всех находится сам Мережковский, острее всех ощущает метафизический воздух эпохи. Оттого, может быть, в будущее время, среди того, что писалось и думалось в наши дни, мука Мережковского, тревога его, порой – даже какое-то озлобление на «глухих», и его любовь, большая любовь к человеку, несмотря на кажущуюся холодность его уверений, – станут признаком его писательского первородства.
Тема Мережковского и метод ее трактовки и все необычное нагромождение исторических данных, интуитивного проникновения в метафизическую суть явлений, и самая необычность сюжетов, с которыми Мережковский оперирует – все вместе создало между ним и современниками не то что стену, но как бы некое безвоздушное пространство вокруг него – замечательный писатель не услышан в современности так, как он этого заслуживает. Не только в русской, но и в мировой современной литературе почти никто сейчас не касается так остро и на такой глубине проблемы судьбы человека; метафизика Мережковского, его «дуализм» и видения истории – все это об одном – о судьбе человека.
И лишь только то, что, выходя за границы узкого представления о человеке, Мережковский всю жизнь мучительно бьется над таинством Сына Человеческого и в Нем, и через Него, как из высшей, центральной точки, хочет понять соотношение планов эмпирического и высшей реальности, – все это для нас столь непривычно, столь обнаженно-страшно, столь утомительно для нашего равнодушия – что немногие дают себе труд по-настоящему следовать за Мережковским, т. е. стать соучастниками его тревоги и радости.
Центр вопроса о человеке для Мережковского – во внутреннем перевороте, в «из себя выхождении», в превращении человека в «новую тварь». Павел и Августин, два величайших деятеля христианства, два столпа Церкви, утвердившие ее в Истории, – для нас важнее всего как два «опыта святых», два свидетельства любви, веры и разума.
Приблизившиеся, как никто, к страшной тайне Евангелия – «Бог есть Любовь», и – срывающиеся в чем-то неуловимо важном, бесконечно человечные, близкие нам, трогательные именно в своем «высшем человеческом бессилии» перед страшной и возмутительной для нас тайной Божественного Предопределения – оба они – вне времени, и в то же время – сейчас – для нас – с нами.
Павел, Августин, Лютер, Паскаль – соединяет Мережковский как бы преемственную цепь опыта в человечестве. Все, – то есть Бог, – а с другой стороны, – человек, неминуемо дробящийся на отдельности, не могущий до конца, до последнего озарения – быть может – смерти, понять это Все, и потому оправдываемый Богом безо всякой заслуги, благодатью, человек, спрашивающий в последний момент как Августин о зле «что же это такое?» – вот, действительно, самое подлинное, что знает человеческое сердце. Столкновение закона со свободой – петровой и павловой линий, изображено Мережковским с замечательной силой. Весь конфликт временного и вечного, «Град Земной» и «Небесный» для души человеческой разрешается в том последнем моменте, высший прообраз которого был дан в Гефсиманском саду очеловеченным Словом: «Да будет воля Твоя», – моменте, в котором открывается человеку последнее: «Тайна человеческой свободы есть тайна Божественной Необходимости – Предопределение, Prothesis: будет Бог все во всех, – все спасутся».
С. ФРАНК
О ТАК НАЗЫВАЕМОМ «НОВОМ РЕЛИГИОЗНОМ СОЗНАНИИ»
Мережковский Д. С. В тихом омуте. СПб., 1908. С. 325.[210]210
Впервые: Франк С. Л. Философия и жизнь. СПб., 1910. С.338–346. Франк Семен Людвигович (16 (28) января 1877, Москва – 10 декабря 1950, близ Лондона) – философ.
[Закрыть]
Переживаемое нами тяжелое и в подлинном смысле смутное время характеризуется недостаточно точно, когда в нем отмечают признак общественного утомления или апатии; скорее современное состояние можно было бы определить как состояние болезненного переутомления. Бывает усталость здоровая, бездеятельность, необходимая для того, чтобы силы организма окрепли и подготовлялись в покое к новому нормальному обнаружению; но бывает и ненормальное, неврастеническое переутомление, когда человек одновременно чувствует себя и мучительно усталым, и неестественно возбужденным. Обычная производительная и нужная работа не удается ему, и он испытывает неохоту и даже отвращение к ней; но вместе с тем он не может успокоиться, не в состоянии действительно отдохнуть и отрезвиться, чтобы хоть позднее приняться за свой нормальный труд. Напротив, он бросается в разные стороны, выдумывает множество дел, забот и тревог, искусственность которых он втайне сам хорошо сознает, но от которых ему не дает отстать его болезненно-возбужденное состояние. Кажется, такого рода состояние присуще теперь не только отдельным людям и в отдельные моменты, а характеризует всю нынешнюю жизнь нашего «образованного общества».
Все чувствуют, что общественное движение последних лет, которое – как бы о нем ни судить – во всяком случае было настоящим, жизненным делом, ныне кончилось, или, вернее, оборвалось, и притом настолько основательно, что начать его сызнова в ближайшее время невозможно; для этого нужно отдохнуть, оглянуться на себя, медленно и методично набирать новые силы – не только внешние, но и внутренние. Но переутомление так велико и так болезненно, что не хватает сил даже и для того, чтобы сосредоточиться и собраться с силами. Поэтому мало кто готов откровенно сознаться в своей немощности; напротив, за невозможностью найти и выполнить какое-либо подлинно насущное дело, изобретаются множество неслыханных доселе «проблем», усердно раздуваются бури в стакане воды, и глубокий упадок сил, охватывающий весь организм, выражается в ненормально повышенном, лихорадочном умственном возбуждении. Сколько революций было уже возвещено и даже осуществлено с тех пор, как заглохло действительное общественное движение, и сколько областей жизни, по-видимому, захвачено этими революциями! Переворот в поэзии, переворот в театре, переворот в любви – и все это с притязанием на жизненное и универсальное значение! Никогда умственная жизнь не была с виду столь кипучей, как теперь, никогда не изобреталось столько новых проблем, никогда мысль не была столь радикальной и свободно-дерзновенной, – и никогда еще не сознавалось так явственно (хотя и неотчетливо), как теперь, что все это – игрушка, забава, дело от безделья, энергия от переутомления.
К числу таких надуманных, искусственно сочиненных дел принадлежит и та новая религиозная политика или политическая религия, которую возвещает небольшая группа литераторов во главе с Д. С. Мережковским. Было бы, правда, несправедливо ставить в один ряд «новое религиозное сознание» с другими сенсациями наших дней – «проблемой пола», стилизацией театра, мистическим анархизмом и т. п.; оно отличается от последних тем существенным обстоятельством, что его проповедники – люди талантливые, образованные и серьезно мыслящие, и что, следовательно, и проповедь их не отдает привкусом бесшабашного хулиганства, который так остро ощущается в других современных учениях. Но, в сущности, на этом различие и кончается. Если оставить в стороне, кто и как утверждает, и сосредоточиться лишь на том, что утверждается этим новым движением, то вряд ли его можно признать менее экзотичным и искусственным, чем другие модные новинки современной литературы. Поэтому в отношении того, что в настоящее время письменно и устно провозглашают Д. С. Мережковский, З. H. Гиппиус, Д. В. Философов, невольно испытываешь некоторое двойственное чувство. С одной стороны, талантливость изложения, оригинальность в комбинации идей придают бесспорный интерес их мыслям и заставляют к ним прислушиваться. Пытаясь с помощью религиозного сознания возродить старое революционное народничество, они, по крайней мере, освежают внешний облик последнего и гальванизируют его труп. Традиционное мировоззрение русской радикальной интеллигенции за последние годы дало глубокую трещину; и каким бы внешним успехом оно еще ни пользовалось, – для более чутких людей ясно, что от него уже отлетела его прежняя живая душа, и что оно держится лишь консервативными силами привычки и общественного мнения. Напротив, религиозный революционизм Мережковского и его единомышленников есть во всяком случае нечто новое, молодое и оригинальное, что может еще многих соблазнить, и с чем, следовательно, поневоле приходится считаться. С другой стороны, однако, непосредственно чувствуется неестественность этого течения, его «литературность», и нетрудно предсказать с уверенностью, что ему суждено скоро и бесплодно исчезнуть, подобно всякой другой модной выдумке. Религиозный революционизм есть бесплотный призрак, за которым не стоит никакая реальная духовная сила; но этот призрак все же способен на короткое время отуманить и увлечь за собой незрелые умы, и потому его нельзя просто игнорировать.
Ход мыслей, которым г-н Мережковский был приведен к своей нынешней позиции, содержит много интересного и верного. Г-н Мережковский убедился, что историческое христианство не вмещает в себе всей полноты религиозной истины: будучи противоположным язычеству и ветхозаветной религии, оно утверждает односторонний аскетизм, бегство от земли на небо, вражду к культурному прогрессу; отсюда он делает вывод о необходимости «третьего откровения», «религии Св. Духа», которая должна сочетать земное с небесным, освятить доселе антирелигиозное или внерелигиозное культурное творчество, примирить религию с мирской жизнью и тем завершить «богочеловеческий процесс». В этом направлении мыслей есть несомненно глубоко верный и насущно необходимый элемент, и Мережковский только выразил на свой лад то, что одинаково чувствовали – тоже каждый по-своему – и Ибсен, и Ницше, и Оскар Уайльд, и некоторые другие: потребность уничтожить старый религиозный и моральный дуализм и заменить его религиозным освящением жизни и культуры.[211]211
В драме Ибсена «Кесарь и Галилеянин» идея «третьего царства» как синтеза между язычеством и христианством, высказана с полной отчетливостью.
[Закрыть] Но отсюда начинается логический и психологический скачок, совершенный Мережковским в последнее время. Руководимый потребностью отыскать «церковь», которая воплощала бы на земле его новую религию так, как государственная церковь воплощает историческое христианство, и гипнотизированный событиями русского революционного движения, Мережковский обрел или, вернее, решил обрести эту церковь в русской интеллигенции. Здесь Мережковскому пришлось, прежде всего, натолкнуться на одну, казалось бы, совершенно непреодолимую трудность – именно на традиционный атеистический нигилизм русской интеллигенции, образующий самую характерную и устойчивую черту ее философского мировоззрения. Чтобы обойти эту трудность, Мережковский должен был прибегнуть к гипотезе или фикции, что интеллигенция не осознала ни содержания той религии, которая вдохновляет ее на подвиги, ни даже самого факта своей религиозности. Неверующая, атеистическая русская интеллигенция в действительности, по мнению Мережковского, глубоко религиозна, и бессознательно исповедуемая ею вера тождественна именно с тем «новым религиозным сознанием», которое возвестил Мережковский. Как только это было признано, для Мережковского открылись новые широкие философско-политические перспективы. В фактах текущей политической жизни он увидел проявления вечных религиозных сил, политические партии в его глазах стали мистическими ратями Бога и дьявола, и его собственная религия из мечты и надежды одинокого мыслителя превратилась в непобедимую, по его убеждению, силу русского – а тем самым, и всемирного – культурного развития.
К сожалению, однако, это обретение «почвы» для новой религии, установление теснейшей связи между нею и реальными политическими явлениями искупается ценою измельчания, опошления и даже прямого искажения подлинного религиозного сознания. Чтобы сблизить новую религию с верованиями атеистической интеллигенции, оказалось недостаточным просто постулировать несознанную наличность такой религии в душе русской революционной интеллигенции; для этого стало необходимым положительно приспособить религию к вкусам, склонностям и убеждениям людей, принципиально отрицающих всякую религию. «Религия» русской интеллигенции фактически состоит в ее общественных верованиях; самым ярким выражением господствующего безверия русской интеллигенции является именно то обстоятельство, что общественным формам, как и общественным направлениям, она приписывает абсолютное значение, ибо вне «общественности» она не знает никакой универсальной и самодовлеющей ценности. И вот, сближение с интеллигентским сознанием заставляет Мережковского со своей стороны низвести религию почти на уровень служебного средства «общественного» прогресса. Во всяком случае, религиозные оценки у него настолько уже совпадают с партийно-политическими, что теряют всякое самостоятельное значение. Политические интересы, политические страсти заслонили в его сознании вневременное и сверхэмпирическое религиозное осмысление жизни. Когда божественное или Христово начало всецело отождествляется с революционным движением, а дьявольское или антихристово – с реакцией, когда вся сущность веры усматривается в одной лишь действенности, и притом общественно-политической, то «Бог и дьявол», «Христос и антихрист» становятся простыми кличками для партийных направлений и партийной борьбы. Религия здесь, собственно, уже кончается, ибо религия есть только там, где внешним силам и процессам противопоставляется внутренняя духовная жизнь, – где сохранено сознание, что никакие «земные берега» не могут вместить и точно выразить творчество и ценность высших начал, открывающихся только углубленной в себя человеческой душе.
Эта основная – религиозная – фальшь позиции Мережковского усугубляется еще двумя иными, весьма существенными обстоятельствами. Соединение религии с иррелигиозным и антирелигиозным мировоззрением русской интеллигенции не только невозможно по существу; оно, вдобавок, особенно противоестественно именно в той комбинации, которую защищает Мережковский. С одной стороны, он связывает свое дело с определенным старым укладом русской интеллигентской мысли – с тем традиционным нигилистическим социализмом, который именно в настоящее время находится в состоянии полного разложения. В ту пору, когда дух интеллигенции был жив и творил живые дела, Мережковский игнорировал его или был ему прямо враждебен; теперь же та почва, на которой он пытается основать свою новую церковь, есть не камень, а зыбкий песок. Новое вино нельзя вливать в старые мехи; для того, чтобы влить новые религиозные силы в русское общественное сознание, нужно коренным образом перевоспитать последнее, освободить его от его устаревшей «интеллигентской» формы; в противном случае оно окажется столь же неспособным воспринять «новое религиозное сознание», сколь неспособна оказалась на это господствующая церковь, на которую Мережковский в свое время возлагал такие же надежды.
К этому присоединяется еще одна трудность. Свое «новое религиозное сознание» Мережковский исповедует и возвещает в старых догматических формах; переоценка религиозных ценностей выражается у него не в отрицании старых догматов, а в новом их толковании, нисколько не колеблющем всей иррациональной традиционной основы исторического христианства. Свое учение Мережковский считает «религией св. Троицы» и основывает на Апокалипсисе. Но если в настоящее время психологически возможно исповедывать догматическую религию, то только в ее раз навсегда установленном виде; попытка же создать новую религию, удержав всю догматическую часть старой, неминуемо осуждена на неудачу. Между традиционной верой, воспринятой вместе с впечатлениями детства и иррационально внедрившейся в душу, с одной стороны, – и разумно творимой новой верой, которую устанавливает для себя мыслящая личность, неспособная удовлетвориться традицией, – с другой, – нет и не может быть середины. И если мы эту последнюю трудность присоединим к указанным выше, – если мы сообразим, что проектируемая Мережковским религиозно-политическая реформа в конечном счете сводится к тому, чтобы, сохранив в неприкосновенности революционную интеллигентскую душу, вынуть из нее Маркса и атеизм и на их место поставить апостола Иоанна и апокалипсическую религию, – то нетрудно будет учесть всю искусственность и надуманность этой реформы. Русские студенты и курсистки, образующие революционную партию для насильственной борьбы с правительством в целях осуществления пророчества апостола Иоанна – эту картину можно было бы счесть карикатурой, но я не вижу, в чем она отступает от воззрений Мережковского.
Пропаганда такой религиозной революции была бы опаснейшим и гибельнейшим делом, если бы она могла рассчитывать на сколько-нибудь серьезный и реальный успех. Теперь же это есть лишь увлекательная тема для блестящих литературных этюдов Мережковского. И кто хотел бы убедиться, как крупный литературный и художественный талант может обнаруживать тонкое чутье правды и давать эстетическое удовлетворение, даже если он занят доказательством истин, мало отличающихся от суждения: «дважды два есть стеариновая свечка», – тот пусть прочтет последний сборник статей Мережковского «В тихом омуте».