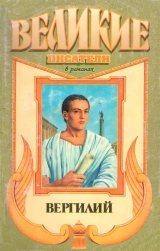
Текст книги "Я, Вергилий"
Автор книги: Дэвид Вишарт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
25
Если дело Котты открыло мне глаза на продажность судебного ораторского искусства, то суд над Милоном, состоявшийся в начале апреля того же года, показал, насколько оно беспомощно против грубой силы.
На этот раз Помпей умело сочетал в своих-поступках непреклонность и такт. Вооружённый полномочиями, данными ему Сенатом, он набрал войска и использовал их, чтобы навести в городе порядок. Он действовал открыто, грубо и эффективно, и в течение нескольких дней волнения и уличные драки, которые годами баламутили город, прекратились.
Если бы для Помпея это была игра и он использовал своё положение только для того, чтобы искоренить остатки группировки Клодия, то Сенат это устроило бы: всё-таки он был их человек и они могли продолжать притворяться перед собой, что вожжи всё ещё в их руках. Но у Помпея практически не было выбора. Затяжная вражда с Клодием дала выход неистовой, деятельной натуре Милона. Поскольку Клодия теперь не было в живых, Милон будет искать, куда бы ещё направить свою энергию, – факт, который не ускользнёт от внимания соперника Помпея – Цезаря, всё ещё находившегося в походе в Галлии. Милона придётся убрать, причём убрать надолго. Помпей приступил к подготовке судебного процесса, который гарантировал бы осуждение Милона. Чтобы быть уверенным в том, что ничто не сорвётся, он самолично, окружённый телохранителями, присутствовал на суде, в то время как большой отряд войск взял в кольцо Рыночную площадь. Если ещё и оставались сомнения, в чьих руках находится реальная власть и кто имеет будущее, то процесс над Милоном быстро их рассеял.
Я, конечно, тоже там был. Все были. В последний день суда, когда Цицерон должен был произнести свою главную защитительную речь, я стоял на ступеньках храма Конкордии[96]96
Конкордия — древнеримское божество, олицетворяющее согласие граждан государства. Особое политическое значение её культ приобретал во времена раздоров и кризисов.
[Закрыть] между небритым сирийцем и узколицым аристократом с недовольно поджатыми губами. Внизу, по самому краю площади, лицом к нам стояли цепью солдаты с обнажёнными мечами. Главные действующие лица ещё не появились.
Кто-то выкрикнул моё имя, я обернулся.
Это был Галл. Он пробился ко мне сквозь толпу и, улыбаясь, протиснулся между мной и сирийцем.
– А я думал, что уже знаю тебя, – сказал он, – Значит, всё-таки не совсем отказался от политики?
– Я пришёл посмотреть на Цицерона.
– Я тоже. Мы не можем подойти поближе?
– Похоже, что нет.
Мы стояли так тесно, что я едва мог пошевелить руками, не то что сдвинуться с места.
– Думаешь, будут ещё какие-нибудь волнения?
– Сомневаюсь, – ответил я с горечью. – Помпей уже показал, что не потерпит никакой самодеятельности.
Накануне банда сторонников Клодия предприняла попытку прорвать кордоны. Войска Помпея отреагировали немедленно. С безжалостностью машины они совершили убийство нескольких человек. Я видел всё с другой стороны площади, и это вызвало у меня тошноту.
– Ты говоришь так, будто не одобряешь этого.
– Я одобряю результаты. Не средства.
– Но ничто другое не помогает.
Зазвучали трубы. Солдаты подняли свои щиты.
– Начинается, – прошептал Галл, когда толпа затихла. – «Идущие на смерть приветствуют тебя»[97]97
«Идущие на смерть приветствуют тебя», — Полная цитата звучит так: Ave, Caesar, morituri te salutant! (Радуйся, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя). Слова, которыми идущие на битву гладиаторы приветствовали императора Клавдия. Это приветствие приводит Светоний, но он, как и Клавдий, жил уже после описываемых событий. Возможно, эта формула существовала и раньше.
[Закрыть].
Это была пародия.
Вы конечно же читали опубликованную речь Цицерона. По общему признанию, подобные литературные произведения всегда в какой-то степени являются результатом принятия желаемого за действительное: они представляют собой не то, что на самом деле было сказано, а идеализированный вариант, переписанный с оглядкой на прошлое и отлакированный в тишине кабинета на потребу досужих читателей и старательных школяров с испачканными чернилами пальцами. Их большой недостаток – в особенности это касается Цицерона – в том, что они не в состоянии передать силу живого голоса или заряженную атмосферу зала суда. Я с удовольствием читал многие речи Цицерона, но если я слышал, как он произносил их, то написанные слова не шли ни в какое сравнение с тем, что сохранилось в моей памяти, они звучали глухо, как свинцовые монеты, и я не мог уделить им того внимания, которого они заслуживали.
Но речь в защиту Милона – исключение. Произносивший её Цицерон был дрыгающейся марионеткой, спотыкающейся о сцену, жующей бессмысленные слова. Его голос, который мог прожечь всю вашу плоть до костей и заставить кровь кипеть в венах, старчески дрожал, был слабым, как у третьесортного актёра; к тому же я не мог расслышать всего, что он говорил, потому что находившиеся среди толпы сторонники Клодия орали во весь голос, но никто даже не сделал попытки утихомирить их. Казалось, что оскорбления, которые они выкрикивали, властей не касались: они просто служили для запугивания защиты, до которой не было никакого дела никому, по крайней мере из властей предержащих. В какой-то момент крики превратились в ужасающий, прямо-таки волчий вой, и Цицерон остановился. Он поднял голову и устремил взгляд на Помпея – тот сидел как статуя, с ничего не выражающим лицом, в кольце охранников. Они смотрели друг на друга через всю Рыночную площадь, наверно, минуты две, а вокруг выли волки. Затем Цицерон вновь повернулся в ту сторону, где стоял я, и я увидел его лицо. Глаза были пустые и казались мёртвыми, как будто какой-то демон ночи высосал из его тела душу и оставил одну оболочку.
Если не считать свиста толпы, то, когда он кончил говорить, стояла полная тишина – не то ошеломлённое молчание, к которому он привык, а молчание равнодушия.
Для такого человека, как Цицерон, это, наверно, было хуже, чем глумление.
Милон, конечно, был осуждён и отправился в ссылку в Марсель. Говорят, когда Цицерон послал ему письменный вариант речи, Милон поблагодарил его, саркастически заметив, что он рад, что этот вариант не был произнесён, иначе он никогда бы не попробовал марсельской барабульки. Это было несправедливо. Если Цицерон и проиграл, то не потому, что плохо старался и даже не из-за малодушия. Просто искусство, в котором он превосходил всех, больше никому не было нужно.
Там сидело будущее, окружённое железным кольцом солдат, и дирижировало первыми проявлениями агонии Республики.
26
После той речи в защиту Милона я часто виделся с Галлом. Вскоре выяснилось, что, оказывается, у нас с ним был один учитель риторики – Эпидий.
Я почти ничего не говорил о своей учёбе в Риме, да и не стал бы – в основном потому, что другие, более важные события перевесили всё, но ради полноты рассказа теперь немножко остановлюсь на этом. Как вы знаете, родители послали меня в Рим учиться ораторскому искусству. Я не был заранее записан к какому-то определённому учителю, и поскольку я отлично устроился и имел возможность наблюдать учителей непосредственно, то выбрал Эпидия.
Частично мой выбор пал на него потому, что он был грек: для меня Греция была символом цивилизованности, в противоположность варварству Рима. Однако в отличие от греческих риторов,, он учил простой аттической манере красноречия, которая основывалась не столько на эмоциональном воздействии, сколько на аргументированных доказательствах. Мне показалось, что это больше соответствует моему характеру и моим способностям.
Похоже, что я не был одинок в своём выборе. Эпидий был популярен – я бы даже сказал, что он был модным учителем. Если бы я приехал в Рим несколькими годами позже, то мог бы учиться бок о бок с будущим правителем Римского мира.
Да. У нас был один учитель – Эпидий – с Октавианом и с его другом Марком Агриппой[98]98
Агриппа, Марк Випсаний (64/63—12 до н.э.) – римский полководец и политический деятель. Незнатного происхождения, воспитывался вместе с Октавианом и смолоду был с ним в дружеских отношениях. Участвовал в Перузинской и Галльской войнах. Консул 37, 28 и 27 годов до н.э. В 36 году до н.э. разбил Секста Помпея при Навлохе. Как командующий флотом Октавиана осенью 31 года до н.э. выиграл сражение с Антонием при Акции, что помогло Октавиану достичь единодержавия. Пока Октавиан был занят преследованием Антония, Агриппа отправился в Рим с неограниченными полномочиями и в союзе с Меценатом принимал все меры к обеспечению могущества Октавиана. В благодарность Октавиан назначил его правителем Востока, и Агриппа удалился в Азию и жил в Митилене, затем был переведён на Сицилию. Октавиан выдал за него свою дочь Юлию, упрочив тем самым его положение второго человека в империи. В 19 году до н.э. Агриппа был отправлен в Паннонию для усмирения мятежа, на обратном пути заболел и умер. Рим многим ему обязан: он финансировал строительство многочисленных общественных зданий и сооружений, например, устройство водопровода и терм в Риме, строительство Пантеона. Покровительствовал образовательным искусствам и преимущественно зодчеству. Известны также его литературные труды, географические комментарии. Под его руководством было произведено измерение и нанесение на карту всей Римской империи.
[Закрыть]. Правда, они учились после меня и мы не встречались до тех пор, пока он не стал властителем почти что половины земли и ему не понадобился поэт, который не дал бы этой власти просочиться сквозь пальцы. В известной степени я жалею, что не знал Октавиана в юном возрасте. Не потому, что это могло бы дать мне политические преимущества, как Галлу (но что хорошего ему это принесло?), а потому, что видел бы, каким он был раньше, и мог сравнить это с его позднейшим обликом.
Однажды в Фивах я видел деревянную статую Прозерпины[99]99
Прозерпина – латинская форма имени греческой богини подземного царства и плодородия Персефоны.
[Закрыть]. Суровое лицо богини почернело от времени, его избороздили трещины и старушечьи морщины, но тем не менее у неё была улыбка юной девушки. Жрец поведал мне, что она была повелительницей Ада, но я видел лишь дитя, собирающее цветы, которое, разверзнув землю у неё под ногами, похитила Смерть. Кто из нас был прав – я или жрец? Можно ли, вооружившись песком и пемзой, стереть черноту и морщины с её детского лица? Или тьма проникла так глубоко, что время просто сделало видимым то, что у неё внутри? Не знаю. И никогда не узнаю.
Возможно, что если бы я ещё тогда встретил Октавиана, то теперь мог бы получше его понять.
Я продолжал учиться у Эпидия даже после того, как решил для себя оставить помыслы о юридической карьере. В какой-то мере это было ради родителей: ведь это они послали меня в Рим учиться говорить публично, и я был перед ними обязан не принимать поспешных решений. Кроме того, как я уже сказал, обучение риторике если и не необходимо для поэта, то, по крайней мере, очень ценно, а Эпидий был отличным учителем. Это он научил меня, как важны простота и благозвучие и что если их использовать должным образом, то они могут иметь большую силу, чем преувеличенная напыщенность.
Другим моим учителем, хотя и неофициальным, был Парфений. Что он нашёл во мне – я не знаю. Прошло довольно много времени, прежде чем я решился показать ему лучшие из моих убогих писаний, но именно он искал моего общества, а не наоборот. Он пришёл навестить меня через несколько дней после нашей встречи у Поллиона, под предлогом того, что принёс мне список с книги, которую, как я сказал, хотел бы прочесть. Мы долго говорили о поэзии (после того, как я поборол свою застенчивость), и он пригласил меня в тот же вечер в свой дом на ужин. Там я встретил – как потом выяснилось, они заранее об этом условились – моего последнего будущего наставника, эпикурейца Сирона, друга Парфения. Сейчас я больше ничего не скажу ни о Парфении, ни о Сироне, кроме того, что мне повезло, что я дружил с ними и был их учеником ещё долгие годы спустя.
Примерно через месяц после суда над Милоном я шёл по улице и вдруг встретил Галла, направляющегося ко мне. За ухом у него торчал цветок – был третий день Праздника Цветов[100]100
Праздник Цветов (так называемые Флоралии) – празднества в честь римской богини цветов и весны Флоры.
[Закрыть], – и он явно был навеселе.
– Ты откуда, Вергилий?
Я показал ему книгу, которую держал в руках. От свитка оторвался краешек.
– Я носил её чинить к Каннию (Канний был продавец книг в Аргилете[101]101
Аргилет — часть Рима между Субурой и Римским форумом.
[Закрыть]), но у него закрыто из-за праздников.
– Вот балда, конечно закрыто, – усмехнулся Галл. – Все, кроме тебя, это знают. Что за книга? Что-нибудь интересное?
– Не для тебя. Это эпикуреец. Я откопал его у Парфения.
Он прочёл название и насупился.
– Филодем[102]102
Филодем (ок. ПО—40/35 до н.э.) – эпикурейский философ, поэт, особенно преуспел в сочинении эпиграмм. В 80 году до н.э. приехал в Италию, где основал в Неаполе эпикурейскую школу.
[Закрыть], да? Вергилий, кто же читает это в праздник? Запихни её под тогу и пошли со мной в город. Повеселись для разнообразия.
– Правда, Галл, я не думаю...
– Думаешь. Слишком много и слишком часто. – Он взял меня за руку и развернул спиной в ту сторону, куда я шёл. – Ничего не случится, если ты проведёшь часок-другой без своих книг. К тому же я хочу, чтобы ты кое с кем познакомился.
– С кем это?
– Потерпи – увидишь.
Я засеменил рядом с ним, как школьник.
– Ну скажи хотя бы, куда мы идём? – спросил я.
– На театральное представление. – Он вынул цветок из-за своего уха и заткнул за моё. Цветок тут же выпал. – А потом... Ну, там посмотрим.
Мы свернули налево и пошли в сторону Рыбного рынка. На улицах было полно народу, даже больше, чем обычно, в основном все в таком же лёгком подпитии, как и Галл. Впереди нас, то выделяясь из толпы, то сливаясь с ней, две волчицы с факелами в руках во всю мочь своих молодых и одновременно старческих голосов пели александрийскую любовную песнь, и я вспомнил Милан; но Праздник Цветов посвящён богине – покровительнице проституток, поэтому, наверно, в этом не было ничего особенного. Во всяком случае, казалось, никто не возражал.
– А что за представление? – спросил я.
– Если я скажу, то ты не пойдёшь. – Галл заставил меня обойти носильщика, заснувшего привалившись спиной к стене в обнимку с бутылкой вина. – По крайней мере, это не в театре Помпея, вот всё, что я могу сказать.
С одной стороны, я испытал облегчение. Театр Помпея[103]103
Театр Помпея — первый римский каменный театр, построенный в середине I века до н.э. Гнеем Помпеем. Располагался на Марсовом поле.
[Закрыть] был на дальнем склоне Капитолия[104]104
Капитолий — один из семи римских холмов. Был издревле политическим и культовым центром Рима. Здесь находился храм трёх главных богов – Юпитера, Юноны и Минервы. К этому храму восходили римские полководцы во время триумфальных шествий. Там же, на Капитолии, находился римский монетный двор. Седловина между двумя вершинами холма застраивалась домами богатой знати.
[Закрыть] – туда идти и идти. С другой стороны, из всех театров в городе это была единственная каменная постройка, поэтому там давали самые достойные представления. Всё, что показывали где-либо ещё, было сомнительно.
Мы пересекли Рыночную площадь и двинулись через Велабр[105]105
Велабр — название двух площадей и улиц, где были сосредоточены продовольственные и гастрономические лавки.
[Закрыть] в сторону Бычьего рынка и Тибра. Было такое впечатление, что чуть ли не вся толпа перемещалась в том же направлении, и её состав внушал мне опасения. Тог попадалось очень мало, да и те, что я видел, в основном не худо было бы почистить. Большинство мужчин были в простых туниках, а женщины – с пронзительными или хриплыми голосами.
– Они обосновались недалеко от Речных ворот[106]106
Речные ворота находились в Сервиевой стене, через них шла дорога от Бычьего рынка к Тибру и Марсову полю.
[Закрыть], – сказал Галл. – И это ничего не будет нам стоить: я знаю кое-кого из исполнителей.
– Близко?
Он ухмыльнулся.
– Близко.
Я сопоставил то, что мне было известно.
– Это мим, да? – догадался я. – Галл, ради бога, дай я вернусь к своему Филодему! Уверяю тебя, мне там не понравится.
– Ты видел когда-нибудь мим[107]107
Мим – вид представлений народного театра у древних греков и римлян – короткие сценки из повседневной жизни, импровизации на фривольные темы, разыгрываемые без масок.
[Закрыть]?
– Нет, но...
– Тогда считай, что идёшь туда в образовательных целях.
Некоторое время мы шли молча.
– А автор кто? – наконец спросил я.
– Лаберий. Называется «Марс и Венера».
– О, Господи!
Лаберий был римский всадник, с хорошими связями, но ведущий непристойную жизнь и склонный к площадному юмору. Он был ярый противник Цезаря, и его творения – которые с трудом можно было различить лишь по названиям пьес – частенько содержали грубые политические выпады на потребу публики, состоявшей из трудового люда. К тому же он, завлекая толпу (правда, в этом он не был одинок), использовал сомнительные приманки, вроде дрессированных животных, женского стриптиза и откровенного секса. От одной мысли об этом меня передёрнуло. Могу себе представить, что это будет за пьеса – «Марс и Венера».
– И кто же твой друг?
– Её сценическое имя Киферида, – ответил Галл.
Мы завернули за угол, и я увидел впереди цель нашего путешествия. Как правило, театры, даже если это временные строения[108]108
...театры, даже если это временные строения... — Постоянные театры стали строить в Риме довольно поздно из-за грубых вкусов римлян, предпочитавших смотреть кулачные бои, канатоходцев и гладиаторов. К тому же считалось, что театр пагубно влияет на молодёжь.
[Закрыть], выглядят довольно солидно, а некоторые даже с размахом (и дорого) украшены переносными мраморными колоннами и бронзой. Однако тот театр, куда мы пришли, будучи предназначен для мима, представлял собой просто подмостки и возвышающийся ярусами полукруглый зрительный зал. Полотняный тент, который служил защитой от дождя, отодвинули, чтобы было светлее.
– Мы в первый ряд, – бесцеремонно кивнул Галл привратнику, казавшемуся бывшим борцом-призёром. Тот осклабился и пропустил нас.
Как ни странно, но мне было интересно: как говорил Галл, это была познавательная экскурсия. Маленький оркестрик – две флейты, ручной барабан и кимвал – разминался в сторонке, пока публика рассаживалась по местам и доставала свои апельсины и орехи. К нам присоединилось ещё совсем немного представителей среднего класса, заняв места в первых рядах, – я заметил несколько тог с узкой каймой, сенаторских тог с широкой каймой пока не было. В основном это была молодёжь, и Галл здоровался с некоторыми из них по имени. Пришли даже несколько женщин.
Наконец занавес опустился, и представление началось.
27
Это оказалось как раз то, чего я боялся.
Вам, конечно, знакома история о Марсе и Венере. Краснощёкий, буйный бог войны и пышнотелая богиня любви – любовники, тайные любовники, потому что Венера замужем за Вулканом – уродливым, хромым богом-кузнецом (я сохраняю латинские имена, хотя первоисточник греческий). Однажды Вулкан сообщает о том, что собирается отправиться на свой остров Лемнос[109]109
Лемнос — остров в северной части Эгейского моря. Там находилось святилище Гефеста, который отождествлялся с римским Вулканом.
[Закрыть]. Не успел он удалиться, как является предупреждённый заранее Марс, Венера радушно встречает его, и любовная парочка торопится в постель.
Но Вулкан хоть и рогоносец, но не дурак. Он прекрасно знает, что делается у него за спиной. Его путешествие на Лемнос лишь уловка. Он выковал сеть, которую нельзя разорвать, и, неожиданно вернувшись домой, застаёт Марса и Венеру в постели, набрасывает на них сеть и крепко связывает их вместе in flagrante delicto[110]110
На месте преступления (лат.).
[Закрыть].
И приглашает других богов полюбоваться.
Можете себе представить, как эта история могла преобразоваться в римскую комедию: Марс – статный, расхаживающий с важным видом солдат, Венера – красавица жена и обманутый муж Вулкан – старый шут, тем не менее в конце одерживающий над ними верх. Обычный комедийный сюжет, но в нём есть сок, которого достаточно, чтобы превратить комедию в грубый мим.
Без этого Лаберию нечего было бы играть.
Всё было ясно с самой первой сцены – семейной ссоры Венеры с мужем. В образе Вулкана не было ничего неожиданного – заезженный в комедиях объект для насмешек, старый распутный дурак с накладным фаллосом, свисающим до земли. Удивила меня Венера.
Это была не красавица, а шлюха не первой молодости с нарумяненными щеками (актёры в миме не надевают масок) и зелёными веками, обведёнными чёрным. В её характере было больше от стервы, чем от сирены[111]111
Сирены — злые демоны, люди-птицы (как правило, с женской головой). Своим волшебным пением Сирены заманивали корабли мореходов к острову, где они разбивались о скалы и гибли.
[Закрыть]: она колотила мужа хлопушкой, вереща, как торговка рыбой, и используя такую лексику, какую я никак не ожидал услышать со сцены.
Публике это нравилось. Галл складывался пополам от смеха, держась за бок. А я сидел с ничего не выражающим лицом, застывший от растерянности. Если бы наши места не были в середине ряда, я бы ушёл.
– Да ты что, Вергилий? – наконец заметил Галл моё неодобрение. – Это же так смешно! Не будь таким ханжой!
– Не вижу ничего смешного, когда одну из главных римских богинь изображают сквернословящей гарпией[112]112
Гарпии – духи бури, изображавшиеся в виде полуптиц-полуженщин. Были безобразными и злыми.
[Закрыть].
– Никто в наши дни уже в неё не верит. Это несерьёзно.
– Это не обсуждается.
– Бац! — раздалось со сцены: богиня настигла мужа и обеими руками шарахнула его по заду. Вулкан с воплем подпрыгнул, схватившись за голые ягодицы. Зрители взревели.
– Наверное, Венера и есть твоя подружка Киферида.
У Галла от удивления отвисла челюсть. Потом он ухмыльнулся.
– Хорошенького ты мнения о моём вкусе, – сказал он. – Ты что, ничего не заметил?
– Что не заметил?
– Да так, ничего, – ответил он. – Нет, это не Киферида. Она будет попозже.
И он вновь отвернулся – смотреть спектакль. Венера сгребла Вулкана – она была, по крайней мере, на голову выше его – и принялась трясти, словно тряпичную куклу. Но он дотянулся до неё, вцепился в длинные золотистые волосы и дёрнул.
Волосы остались у него в руке, открыв блестящий мужской череп. Раздался взрыв смеха.
Сомневаюсь, что изумление моё могло быть сильнее, даже если бы голова оторвалась вместе с париком. Венера изобразила испуг, прикрыла лысину залатанной салфеткой и очертя голову бросилась вон со сцены. Вулкан кинулся вслед за ней, размахивая хлопушкой. Буря аплодисментов.
– Это мужчина! – Я остолбенел.
Галл хлопал вместе со всеми.
– Ну конечно, – ответил он. – Иначе потерялся бы весь смысл.
Чтобы понять, что он имеет в виду, мне понадобилась целая минута. И тогда мне всё стало ясно. Ну и дурак же я!
Венера – это Цезарь.
Должно быть, я был единственный в театре, кто не знал этого с самого начала. Лаберий, как я говорил, писал политические сатиры, обращаясь ко всем слоям общества – от самых низших до самых высоких, – доказательством тому зрители, которые собрались в тот день. И своё жало он нацелил в Цезаря. Его Венера – самая убийственно точная пародия на Цезаря, какую я когда-либо видел. К намёку на двойную сексуальную направленность Цезаря, о которой было хорошо известно, Лаберий прибавил дополнительный штришок: Венера считалась прародительницей рода Юлиев. Даже если бы я ничего этого не знал, карикатурная концовка должна была открыть мне глаза: о том, как Цезарь стеснялся своей лысины, ходили легенды.
– Лаберию, конечно, ни за что не выйти сухим из воды? – вновь обратился я к Галлу. – Я имею в виду, что сатира – одно, а эта дрянь... – Я не мог найти нужного слова.
– Ну да, рано или поздно он обожжётся. Хотя с тех пор как Цезарь отошёл от прямой политики, не сказать, чтобы его это особенно беспокоило.
– Ты считаешь, что это не прямая политика?
Галл засмеялся и ничего не ответил.
Оркестр заиграл разухабистый танцевальный мотив, и на сцену влетела – другого слова здесь не подберёшь – одна из красивейших девушек, каких я когда-либо видел.
– Вот это Киферида, – сказал Галл.
Она была темноволосая и гибкая, как молодое ивовое деревце. Когда она в прыжке встала на руки и прошлась по сцене, хлопая под музыку ступнями, колокольчики зазвенели у неё на поясе – а больше на ней ничего не было. Сзади подошла другая девушка, на которой было надето ещё меньше (если вообще что-нибудь надето), и подкинула в воздух шар. Киферида ловко поймала его ногами и принялась жонглировать – публика отбивала такт. Затем она отбросила шар назад своей ассистентке и перевернулась. Зрители приветствовали её одобрительными возгласами.
Вышли ещё две девушки, на них было одежды не больше, чем на ассистентке Кифериды. Они несли короткие разноцветные жезлы. Образовав треугольник, в центре которого стояла Киферида, все трое начали перебрасываться жезлами в такт музыке, сплетая сложный узор из красного, жёлтого и голубого, а в середине, выгибаясь и выламываясь, Киферида исполняла греческий кордак[113]113
Кордак — разнузданный бурный танец в древнеаттической комедии.
[Закрыть].
Я почти ощущал волны вожделения, исходившие от окружавшей меня публики. В отличие от них, Галл спокойно улыбался, время от времени искоса заглядывая мне в лицо.
Барабан выбивал быструю дробь, и музыка внезапно оборвалась в тот самый момент, когда последняя рука схватила в воздухе последний жезл. Все четыре девушки повернулись лицом к зрителям, поклонились и покинули сцену под бурные аплодисменты.
– Ну и что ты о ней скажешь? – обратился ко мне Галл.
– Она, конечно... талантлива, – ответил я очень холодно.
Он слабо усмехнулся.
– С талантом у неё всё в порядке, – сказал он. – Это я тебе обещаю.
От ответа меня освободило продолжение спектакля. Вновь появилась Венера, опять в парике, и произнесла монолог. Лаберий перевернул сюжет с ног на голову. Казалось, Венера отчаялась затащить Марса к себе в постель, ей больше не отвечали взаимностью: Марс, поведала она нам, нашёл кого-то ещё.
Теперь, когда я понял политическую подоплёку пьесы, я уже знал, чего можно ожидать, ещё до выхода Марса. Где они нашли такого актёра, я не знаю, но с его тусклыми выпуклыми глазами и рыбьим выражением это был вылитый Помпей: ему достаточно было остановиться с неподвижным лицом и вылупиться на публику, чтобы вызвать гром аплодисментов. На нём была карикатурная солдатская форма с длинным мечом в ножнах, который, к восторгу публики, всё время путался с огромным фаллосом, свисающим из-под туники. Пока Венера была занята распутыванием, она жаловалась на неверность любовника. Диалог имел одновременно и явную сексуальную и политическую окраску. Не могу сказать, что он мне очень понравился, но это было весьма остроумно.
Я не буду пытаться описать всю пьесу, – если вы её не читали, то, наверно, сможете себе вообразить: обычная смесь дешёвых комических ситуаций и грязных шуток, пересаженных на избитый сюжет, но с политическим подтекстом, который должен был оживить пьесу и придать ей содержание. Киферида больше не появилась до последнего акта, где она играла новую возлюбленную Марса – Потенцию, то есть Власть.
На сцену вышел Марс, волоча её на необъятную кровать, украшенную брачными венками, и, хотя она не произнесла ни единой реплики, её короткие белые одежды с широкой пурпурной, сенаторской, каймой настолько прозрачно намекали на замысел автора пьесы, что всё было понятно даже для тех зрителей, которые ничего не смыслили в политике. Улёгшись посреди кровати, бог войны поднял свой чудовищный фаллос, сказал, подражая Помпею, несколько высокопарных слов о тяготах службы и исполнения долга перед державой и прыгнул на неё. Потенция раздвинула ноги – публика захохотала. Галл рядом со мной чуть ли не всхлипывал от смеха. Я сидел неподвижно, терзаясь от смущения и мечтая о том, чтобы всё это скорее закончилось.
Но Лаберий на этом не успокоился. Пока кровать ходила ходуном от божественных усилий Марса, вошла Венера и, увидев их, отвела душу, выдав тираду против обоих. Задрав подол, она показала набитый бутафорский фаллос, ещё больше, чем у её любовника. Держа его торчком, она нырнула в кровать, которая, то ли случайно, то ли так было задумано, тут же обрушилась. И в этот момент вновь появился Вулкан и набросил сеть на три борющиеся фигуры.
Это означало конец пьесы – трудно представить, чтобы публика могла отреагировать более бурно, не покалечив себя при этом. Осталось только Вулкану выступить вперёд и произнести эпилог:
Ну вот, друзья, и сыгран фарс,
Мы лучших актёров подобрали для вас.
ПОТЕНЦИЯ получила своё
От П... и Ц..., что охотятся на неё.
ВЕНЕРА пронзённая, ВЕНЕРА пронзающая
От каждого взгляда МАРСА вздыхает.
Он должен мне убыток теперь возместить,
Так хлопайте, не бойтесь ладони отбить.
И они захлопали. Удивляюсь, как театр не обрушился нам на головы от одних аплодисментов, о топоте я уж не говорю.
– Ну же, Вергилий. – Галл аплодировал, не уступая самым горячим поклонникам. – Согласись, что тебе понравилось.
– Это было... своеобразно, — ответил я. – Но всё равно я не понимаю, как Лаберий будет выкручиваться. Ладно, Цезарь – он в Галлии. Но Помпей-то в Риме. И он должен знать, что происходит.
– У Лаберия есть могущественные друзья, – сказал Галл. – К тому же насмешка – это опасное оружие для противника. Воспримешь её всерьёз – будешь смешон ещё больше. – Он поднялся. – Ну пошли, я представлю тебя Кифериде.
Октавиан, я уверен, мог бы писать замечательные мимы, если бы его пропагандистские способности не приняли более зловещий оборот, и когда я думаю о том, что он сделал с Галлом, то не могу не сравнить это с тем, как Цезарь обошёлся с беднягой Лаберием.
Лаберий-таки зашёл слишком далеко. И Цезарь утончённо отомстил, велев ему появиться в качестве актёра в одной из собственных пьес, что, естественно, означало автоматическую потерю гражданских прав[114]114
...появиться в качестве актёра... означало... потерю гражданских прав, — В Риме актёров набирали из рабов и вольноотпущенников, имеющих ограниченные права. Поэтому сословие актёров презиралось. Выступить в качестве актёра – означало для гражданина уронить свою честь.
[Закрыть]. Лаберий подчинился, но величественный пролог, в котором он выразил свои извинения, побудил Цезаря помиловать его и восстановить его высокое положение. Унижение послужило для него достаточным предупреждением, и Лаберий больше никогда не отпускал шуток, ни скабрёзных, ни иных.
Октавиан никогда бы не стал упражняться в столь эффективном, но всё же мягком правосудии. Он мог простить высказывание (если оно заменяло действие), мог даже простить откровенное предательство (если изменник уже обезврежен, а прощение целесообразно), но никогда бы не простил, если бы кто-то задел его самолюбие. Самолюбие – это главная черта Октавиана. Тронуть его – значит задеть Октавиана за живое и тем самым лишить себя всякой надежды на милосердие. Что Галл и узнал на собственном горьком опыте.
Боги – особенно если они сами возвели себя в боги – не смеются над собой и никому другому не позволяют это делать. Посмеяться над ними – значит признать, что они не достигли совершенства.








