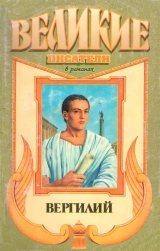
Текст книги "Я, Вергилий"
Автор книги: Дэвид Вишарт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
55
Через год после смерти Клеопатры, к концу весны, «Георгики» были почти закончены. Обдумывая их, я всё время советовался с Меценатом, и мы оба – и я и он – были довольны результатами.
«Георгики» состояли из четырёх книг и рассказывали о различных отраслях сельского хозяйства: хлебопашестве, садоводстве, скотоводстве и пчеловодстве.
Что касается содержания, то кое-что шло от отца и из воспоминаний о моём детстве, но большую часть, признаюсь, я позаимствовал из трактата «О сельском хозяйстве» Варрона. Несмотря на свою резкую манеру поведения, он сам существенно помог мне, и я рад, что он прожил ещё достаточно долго, чтобы увидеть в конце концов опубликованную книгу.
С поэтической стороны бесспорным примером для меня был Гесиод; однако с самого начала я не мог заставить себя взять его за основу. Это слишком великий поэт, чтобы подражать ему, и в то же время для моих целей он был чересчур суров. Я долго думал, прежде чем выбрал Лукреция.
Однако соображения мои были не такими простыми, как вы могли ожидать: тот, кто пишет о сельском хозяйстве, обычно не берёт себе в качестве образца философов. Но Лукреций был не просто философ, но и поэт, и не просто поэт, а вдохновенный певец, который способен вдохнуть в вас пламя и заставить горло судорожно сжиматься во время чтения. Если бы я сумел сделать для Октавиана то, что Лукреций сделал для Эпикура, и зажечь в своих читателях огонь, я бы мог с чистой совестью уйти на покой.
Другая причина была личная. Я выбрал Лукреция как своего рода средство изгнания духов.
Не знаю, что больше привлекало меня в эпикуреизме: само учение или стихи Лукреция. Они были единым целым – ослепительным и чистым, как сверкание меча. Потом я встретил Сирона, самого мудрого и самого доброго из людей. Раз учение Эпикура годилось для него и для другого моего учителя – Парфения, я решил, что, значит, оно подойдёт и мне, и все сомнения отпали. Если это звучит чересчур упрощённо, прошу прощения. Что до меня, то это так и было.
После смерти Сирона я пришёл к более критическому переосмыслению своей веры. На первом месте для меня была поэзия. Это не было прямым нарушением эпикурейских канонов – свидетельством тому Парфений, да и сам Лукреций. Серьёзнее то, что я всё больше втягивался в политику, это уже полностью шло вразрез с учением Эпикура и осуждалось им: Сирон, я знаю, ужаснулся бы. Но и опять-таки это был простительный грех – многим эпикурейцам удавалось сочетать политику с философией.
Главным обвинением против меня было то, что я изменил своё отношение к богам и к смерти человеческой души. Вот тут уж мне не было никакого оправдания. Эпикурейцы признают существование богов, но считают, что они не интересуются людьми. Они населяют чистый воздух между мирами и заняты собственными делами. С этим я больше не мог соглашаться. Во что именно я верил, точно не знаю, но недавние события убедили меня в том, что боги – особенно Юпитер – не совсем отказались от нас и помогают Октавиану.
Что касается души, у меня больше не было твёрдого мнения о ней. Может быть, это из-за последнего разговора с отцом, но я почувствовал, что хочу верить в то, что она не умирает. И это тоже для эпикурейцев была ересь.
Вот поэтому-то я и выбрал Лукреция. Опираясь на него, я возвращался по своим следам, сбрасывая философскую кожу, из которой я не то чтобы вырос (думать так было бы высокомерием), а просто обнаружил, что она мне больше не подходит.
Как я сказал, я заканчивал свои «Георгики», нанося последние штрихи, в тот год, когда Октавиан вернулся в Италию, уладив дела на востоке. В начале лета он прибыл в Бриндизи и почти сразу же заболел. Он был слишком слаб, чтобы следовать прямо в Рим, поэтому пробыл какое-то время в местечке Ателла в Кампании. К концу июля я получил послание, в котором он просил приехать к нему и привезти с собой копию поэмы.
Октавиан остановился на одной из загородных вилл Мецената. Я вздохнул с облегчением, обнаружив, что Меценат тоже был там: одна мысль о том, чтобы с глазу на глаз читать правителю Римского мира, совершенно лишала меня присутствия духа. С другой стороны, я узнал, что должен был стать частью лечения и от меня ждали, что я прочту ему всю поэму – всю поэму – в ближайшие несколько дней. Без сомнения, это большая честь, но я был бы рад, если бы меня предупредили заранее. Либо голос подведёт, думал я мрачно, либо нервы не выдержат, и отправят меня домой в закрытой повозке.
С нашей последней (и единственной встречи) прошло семь лет. Внешне Октавиан не очень изменился, хотя отчётливо проступали следы недавней болезни: жёлтое осунувшееся лицо, исхудалые руки. К тому же я заметил, что, несмотря на летнюю жару, он носил шерстяные гамаши – он был подвержен простудам – ив тех редких случаях, когда отваживался выйти на улицу, надевал тяжёлый военный плащ.
Читка прошла хорошо. По счастью, Октавиан предпочитал принимать «лекарство» маленькими дозами, да и в любом случае нас то и дело прерывали государственными делами. Со времени моей последней книги всё стало не так ужасно.
Я решил (не говоря никому об этом ни слова) завершить поэму коротким восхвалением Галла; только я начал читать эту часть, как почувствовал, что атмосфера изменилась. Я поднял глаза. Октавиан сидел, поджав губы и уставившись на Мецената, тот нахмурился.
– Это надо убрать, – проговорил Октавиан.
– Прошу прощения, Цезарь? – Я подумал, что, наверно, ослышался.
– О Корнелии Галле здесь упоминаний не будет.
Это сказано было весьма категорично. Я вытаращил глаза. Меценат хотел было что-то сказать, но Октавиан остановил его. Он не был сердит – Октавиан редко злился или, во всяком случае, редко, это показывал, – но от него веяло холодом, как от ледника.
– Могу я спросить почему, Цезарь? – К своему стыду, я почувствовал, что весь трясусь. – Галл – мой друг. Я думал, что он и ваш друг тоже.
– Есть вещи и помимо дружбы.
– Извините, я всё ещё не понимаю.
– Галл... перешёл границу, Публий, – вкрадчиво вставил Меценат. – Немного... – он пытался улыбнуться, но ничего не получилось, – вырос из своих сапог.
– Как это? – сказал я. Я был просто ошарашен. Галл не был изменником, а подобную реакцию я мог объяснить только предательством.
– Недавно он повёл себя... ну, довольно глупо. – Меценат бросил взгляд на Октавиана, чьё лицо было неподвижно, словно высеченное из мрамора. – В этой своей последней военной кампании. Вышла какая-то ерунда с изваяниями и надписями. Как будто он один одержал победу.
– А разве это не так? – спросил я.
– Не в этом дело. Галл, в конце концов, лицо подчинённое. А получилось какое-то сплошное... самопоздравление.
Я начал понимать.
– Ты имеешь в виду, что он должен был отдать честь победы Цезарю? – сказал я. – Несмотря на то, что Цезарь был в это время где-то в Египте?
Не знаю, как я осмелился произнести это. Я оскорбился и за Галла, и за себя как за поэта.
– Это именно то, что ему следовало сделать, – сказал Октавиан. – Ради пользы государства.
Должно быть, на моём лице отразился гнев, потому что Меценат примирительно поднял руку.
– Ты должен понять, Публий, что военачальникам больше не дадут приписывать себе слишком много славы. Самовозвеличивание привело Римскую республику к гибели.
– И поэтому они должны отдавать честь побед тем, кто этого не заслуживает? – огрызнулся я.
Я зашёл слишком далеко. Лицо Октавиана стало белым как мел.
– Тебе объяснили причины, Вергилий, – произнёс он. – И с тебя достаточно. Согласишься ты с этим или нет – это твоё дело, но будет так, как я сказал. И ты уберёшь этот кусок.
Я сидел абсолютно неподвижно. Свиток соскользнул с моих коленей и покатился по выложенному плиткой полу. Меценат смотрел на меня с безмолвной мольбой, Октавиан просто... смотрел. Я глубоко вздохнул.
– Хорошо, Цезарь, – тихо проговорил я. Я думал, что мог бы убить его.
– Послушай, Публий. – Меценат положил ладонь на мою руку. – Здесь нет ничего личного. Но мы не можем больше терпеть этот дух стремления к почестям среди армейских командиров. В наше время это слишком опасно.
– Опасно для кого? – Я старался не смотреть на Октавиана, но именно он ответил мне.
– Ты знаешь свою историю, Вергилий. К военачальникам приходит удача. Постепенно они становятся для солдат чем-то сверхъестественным. Вскоре они уже для своих людей значат больше, чем само государство, и тогда начинают проталкиваться к власти. Не успеешь оглянуться, как Рим вновь окажется втянутым в очередную гражданскую войну. Лучше с самого начала не позволять процессу развиться.
Речь произвела на меня должное впечатление, особенно в бесстрастной, размеренной манере Октавиана. Этот тон давным-давно мне был знаком. Но тем не менее в его устах это звучало фальшиво.
– Галл не предатель, – сказал я. – Вы можете, если хотите, официально сделать ему замечание, но, при всём уважении к вам, Цезарь, вы не имеете права говорить мне, что я не могу частным образом похвалить моего друга в моей поэме.
– Но это не частная поэма, – тихо произнёс Меценат. – Это общественное признание государственной политики. И ничего с этим не поделаешь, Публий.
Мои руки так крепко вцепились в подлокотники кресла, что косточки побелели. Заметив это, я приказал себе расслабиться и разжал пальцы.
– Отлично, – сказал я. – Можете теперь сами писать свои общественные признания.
Октавиан не шевельнулся.
– Погоди, Вергилий, – произнёс он. – Не будь дураком. Не стоит ссориться из-за ерунды. В конце концов, в этом отрывке всего десяток строк.
– Ну вот и пусть они останутся.
– Нельзя.
Я не ответил. Меценат, казалось, был встревожен.
Октавиан встал с места и прошёлся до дальней стены, на которой был нарисован Персей, держащий на весу голову Горгоны[207]207
...Персей, держащий на весу голову Горгоны, — Персей – сын Зевса и Данаи. Он обезглавил одну из трёх Горгон, смертную Медузу (две другие были бессмертны), пользуясь зеркалом, чтобы избежать её гибельного взгляда. Голову Медузы Персей передал Афине, которая носила её на панцире. Миф о Персее начиная с античных времён часто служил сюжетом рельефов, вазописи и настенной живописи.
[Закрыть]. Я отстранённо подумал про себя, что наш господин и хозяин прихрамывает: может быть, старая рана или врождённая болезнь. Он долго стоял в молчании, разглядывая картину.
– Ты нужен мне, Вергилий. – Он всё ещё стоял ко мне спиной. – У меня есть настоящее, но мне нужен ты, чтобы дать мне будущее. Помоги мне. Не ради меня самого, а ради Рима.
Вот так. Просьба, которую, как я надеялся, он не выскажет, облечённая в такие слова, которые, я надеялся, он не употребит. Мне нечего было на это ответить.
– Хорошо, Цезарь, – сказал я. Только это. Я рассчитывал, что он не будет больше на меня давить.
Октавиан кивнул. Он до сих пор смотрел на картину. Я слышал, как Меценат за моей спиной перевёл дыхание.
– Хорошо. – Октавиан наконец обернулся и попытался улыбнуться. И вновь меня поразили его узкие и неровные зубы. – Ты всё понял, не так ли?
– Ох, понял, Цезарь, – ответил я. – Я всё отлично понял.
– Надеюсь, что так. Я правда надеюсь на это. – Он поколебался и затем продолжил более громко: – В любом случае я хотел обсудить с тобой ещё один проект.
– И что же это?
Глаза Октавиана на мгновение остановились на мне, затем он отвёл взгляд».
– Я хочу, чтобы ты написал эпическую поэму.
– Историю Энея. – Меценат следил за мной так, как следят за норовистой лошадью, стараясь уловить малейший признак, что она может удрать.
Я повернулся к нему.
– Ещё одно общественное признание? – ехидно спросил я.
Октавиан сделал странное движение рукой, как будто отражал удар. Он никак не желал посмотреть на меня.
– Я же сказал, – произнёс он. – Мне нужно, чтобы ты дал мне будущее. Ты великий поэт. Может быть, самый великий из всех, кого когда-либо порождал Рим. Мы – ты и я вместе – имеем возможность построить идеальный мир. Я могу распоряжаться людскими телами, даже их умами, но только ты можешь отдать мне их сердца.
Я не шелохнулся и не промолвил ни слова. Даже Меценат, казалось, пришёл в замешательство, безошибочно уловив мольбу, прозвучавшую в голосе Октавиана.
– Я не вечен, Вергилий. – Опять спиной ко мне. – Я слаб здоровьем и, может быть, не протяну и десяти лет. Я хочу, чтобы моё дело жило и после моей смерти, чтобы кто-то подхватил его. Ты можешь написать поэму, которую будут слушать не родившиеся ещё люди и говорить: «Да, это правильно, вот как всё должно быть. Вот как мы хотим жить». Ты сделаешь это, Вергилий? Пожалуйста!
– А как же быть с вашим прошлым? – услышал я свой голос. – С убийствами. Предательствами. Ложью. С вашими собственными недостатками. Хотите, чтобы я оправдал такое?
Когда он наконец обернулся, клянусь, на глазах у него были слёзы.
– Забудь об этом, – сказал он. – Забудь прошлое, это не имеет значения. То, что я сделал, было необходимо. Пожалуйста, Вергилий. Мне необходимо, чтобы ты оправдал меня, не ради меня, а ради блага Рима.
Я заметил, что Меценат отвернулся и принялся изучать другую роспись – Приама[208]208
Приам — мифический царь Трои, отец Париса, похитившего Елену и явившегося из-за этого причиной Троянской войны. Во время войны Приам выкупил тело погибшего сына Гектора у Ахилла — одного из храбрейших греческих героев, осаждавших Трою.
[Закрыть] и Ахилла. Наверно, хотел сделать вид, что не слышит мольбы Октавиана, но я подозреваю, что он, как и я, просто был смущён.
Мы с Октавианом долго смотрели друг на друга. Наконец я опустил глаза.
– Ну хорошо, Цезарь, – сказал я. – Не могу обещать вам будущего, но вы получите свою «Энеиду».
56
Я не сразу приступил к «Энеиде». Прежде чем написать слово, мне нужно было обдумать и проработать целую гору замыслов.
Даже если бы Октавиан и не назвал Энея, я всё равно выбрал бы его сам. Хотя он и не имел непосредственного отношения к Риму[209]209
...хотя он и не имел непосредственного отношения к Риму, — Придя в Лаций, Эней объединил в один народ троянцев и Латинов. Он построил близ Тибра город и назвал его в честь жены Лавинией. Через 30 лет его сын Асканий (по-другому Юл, или Иул), которого считали родоначальником рода Юлиев, основал город Альба Лонгу, а ещё через 300 лет Ромул и Рем из рода Аскания основали Рим.
[Закрыть], его сын Юлий – прародитель рода Юлиев, к которому принадлежит Октавиан. Более того, у Энея безупречная гомеровская родословная, а значит, если я сделаю его своим героем, это даст мне возможность показать чёткую связь между Гомером и Италией, между старым и новым миром.
История Энея мне тоже годится. Вместе со своим престарелым отцом он плывёт по приказу богов из Трои, чтобы основать новое, лучшее государство на западе. Преодолев множество опасностей, он добирается до Карфагена, где его удерживает прекрасная царица Дидона. Он разрывается между любовью и долгом, но всё-таки долг побеждает, и он плывёт дальше, в Италию. Здесь его приветствует царь Латин, которому было пророчество, что заморский вождь женится на его дочери и возвеличит его царство.
Однако дочь Латина была обещана в жёны другому – Турну. Турн убеждает италийцев пойти войной на Энея и его троянцев. В конце концов Эней побеждает. Троянцы и италийцы братаются, и таким образом цель достигнута.
Видите, какие здесь возможности: в основе лежат темы божественного провидения, почтения к родителям[210]210
...тема... почтения к родителям. — Эней вынес из горящей Трои старого парализованного отца, потеряв при этом жену. В многочисленных произведениях искусства (преимущественно в скульптуре) Эней изображался несущим на плечах своего отца.
[Закрыть], религиозное послушание и конфликт между долгом и собственными интересами, что так соответствовало целям Октавиана. И потом, оцените, каков размах! Октавиан требовал, чтобы я стал ни больше ни меньше как вторым Гомером. Моя «Энеида» должна стать для римлян тем же, чем были для двух сотен поколений его «Илиада» и «Одиссея». Благодаря мне сам Октавиан и то, что он старался создать, должны стать бессмертными: божественное мерило, с которым будут сверять все будущие поступки.
Вы удивляетесь, почему я чувствовал, что не соответствую этим требованиям?
Будь я предан Октавиану телом и душой, то и тогда задание было бы довольно устрашающее. А так я был связан по рукам и ногам собственным представлением об Октавиане как о личности. Любой поэт скажет вам, что зависимый поэт – вообще не поэт, не то что второй Гомер.
Я должен объяснить свою позицию, даже рискуя повториться, ибо ясность здесь – жизненно важна. Прежде всего, я был убеждён – и сейчас убеждён, – что то, чего добивается Октавиан, правильно, что у него был наказ свыше – построить новый мир; я до сих пор надеюсь, что это так, хотя у меня уже нет такой уверенности. Если бы это было возможно, я бы полностью поддержал его, но я не мог этого сделать открыто. А если бы и попытался, то стихи пошли бы вялые и кислые, второразрядные, и от них не было бы никакой пользы. Я мог лишь попробовать пойти на компромисс, прибегнув к поэтическим аллюзиям и аллегории. В поэме отразилось бы моё истинное мнение, облечённое в такую форму, что оно было бы недвусмысленным для искушённого взгляда со стороны, а иначе могло бы быть принято за приукрашивание или поэтическую фантазию.
Знаю, что это звучит очень запутанно, но не могу изложить попроще и лучше приведу пример.
Я обещал Октавиану убрать те строчки в заключении моих «Георгии», превозносящие Галла. В конечном счёте я заменил их отрывком о смерти Орфея.
Вы конечно же знаете эту историю. Жену Орфея Эвридику кусает змея, и она умирает. Орфей, божественный певец, спускается в Аид[211]211
Аид — мрачный царь подземного мира, которого после Гомера отождествляли с Плутоном. Позднее под Аидом стали понимать также его царство мёртвых.
[Закрыть], чтобы вернуть её. Его песнь источает слёзы даже из железных глаз Плутона, бога смерти, и он разрешает Орфею вывести обратно свою жену, но с условием, что он не посмотрит на неё до тех пор, пока они не достигнут верхнего мира. На самом краю царства Плутона Орфей оглядывается и теряет Эвридику навеки. Тогда Орфей начинает скитаться по лесам, оплакивая свою жену. Он наносит оскорбление вакханкам, необузданным спутницам Диониса, и они разрывают его на куски. Его растерзанное тело плывёт по реке Стримон[212]212
Река Стримон – пограничная река между Фракией и Македонией, впадающая в Стримонский залив.
[Закрыть], но его душа продолжает петь, скорбя о своей потерянной жене.
Теперь представьте в свете этой истории Галла. Галл тоже поэт, певец. Он тоже оскорбляет безжалостного бога, и его за это уничтожают, хотя его стихи переживают своего автора. Наконец, в качестве подсказки для читателя, я вторгаюсь в сам миф. Так, моим героем становится некий Аристей[213]213
Аристей – сын Аполлона, древний бог земледелия, покровитель охоты и животноводства, научил людей виноградарству и выращиванию оливкового дерева. В мифе об Орфее и Эвридике упоминается лишь вскользь.
[Закрыть], который растерял своих пчёл из-за гнева Орфея. На самом деле вина (говорю я) лежит на этом Аристее: всё произошло из-за того, что он преследовал Эвридику, пытаясь изнасиловать её, поэтому она и наступила на змею. Теперь каждый, кто знает миф, понимает, что это глупость. По традиции Аристея не связывают ни со смертью Эвридики, ни с мифом об Орфее.
Теперь, я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. На поверхности прелестная история с намёком (пытался ли Аристей изнасиловать Эвридику? Знает ли Вергилий что-то такое, чего не знаем мы? Какой умный поэт!). Ничего не говорится открыто, ничего не утверждается определённо. Но всё равно правда высказана, и – если у вас есть ключ – вы без труда всё поймёте.
Конечно, тут была явная опасность. Я знал, что если Октавиан когда-нибудь об этом догадается, милосердия мне ожидать нечего. Тем не менее «Энеида» в конечном счёте важнее даже, чем моя собственная жизнь или гордыня Октавиана. Я рассчитывал на три обстоятельства. Первое: я мог утаивать от Октавиана отрывки, в которых критика наиболее очевидна, до тех пор пока работа не будет закончена; второе: собственное тщеславие Октавиана, которое позволит ему распознать поверхностное восхваление, но не спрятанную под этим критику; и, наконец, третье: возможное соучастие Мецената. Уж он-то, я был уверен, не пропустит ничего.
Ступив на этот путь, я сознательно проложил курс между Сциллой и Харибдой[214]214
Сцилла и Харибда – мифические чудовища, жившие по обоим берегам пролива. Хватали и пожирали всё живое, что проплывало мимо. Сцилла и Харибда стали нарицательным обозначением двух зол, неотвратимых и одинаково страшных.
[Закрыть]. Может быть, я был не прав. Конечно, такое решение означало для меня смерть. Всё равно. Я сделал всё, что мог, и если в конце окажется, что этого недостаточно, ну что ж, я слишком устал.
Прежде чем завершить эту главу, давайте я расскажу вам, что случилось с Галлом. Позвольте мне рассказать это быстро; я словно хирург, который торопится закончить операцию, чтобы насколько возможно избавить пациента от боли.
Октавиан вызвал его в Рим, где его обвинили в плохом управлении войсками. Вслед за этим лизоблюды обрушили на него поток обвинений. По постановлению Сената, он был лишён собственности и приговорён к изгнанию. Октавиан стоял в стороне: ему не позволяли вмешиваться, сказал он, строгие моральные требования, которые предъявляла ему его высокая должность. В отчаянии Галл свёл счёты с жизнью. Я был рядом с ним в момент его смерти и закрыл ему глаза, прежде чем вернуться к своим книгам и выполнению задания, цель которого – увековечить его убийцу.
Понимаете теперь, как трудно было писать «Энеиду», давая ему будущее, в котором он так сильно нуждался. Смерть, когда она придёт ко мне, не будет нежеланной. Как не будет она и незаслуженной.
57
Ну вот, осталось рассказать совсем немного, только самый конец.
Последние годы были для меня периодом нарастающих разочарований. Наверно, я подсознательно хотел слишком многого. Надеялся, что звуки труб возвестят начало Золотого века и что все мои сомнения разрешатся как по волшебству. Но ничего подобного не произошло. Конечно же нет, хотя я и желал, чтобы было так, и сверх того ещё: хотел, чтобы мы все оставались детьми, хотел верить в несбыточное.
После победы при Акции Октавиан стал для всех героем. Он объединил Италию[215]215
Октавиан... объединил Италию, — После победы над Антонием в сражении при Акции в 31 году до н.э. Октавиан стал единоличным римским властителем.
[Закрыть] и впервые дал ей чувство единого государства. Он щедро тратил деньги на государственные постройки (на это шли трофеи, захваченные во время его войны против Египта), и это сделало его популярным среди простого народа. Но что было ещё лучше – он принёс мир. Большинство легионов было расформировано, и двери храма Януса[216]216
Янус – древнеримское божество дверей и ворот, входов и выходов, изображавшееся двуликим («лик» Янус одновременно обращал и в прошедшее и в будущее). По его имени, как бога всякого начала вообще, был назван январь.
[Закрыть], которые всегда во время войны держат открытыми, были впервые на памяти живущих заперты. Рим балансировал на пороге эпохи мира и процветания, какого он не знал за всю свою историю.
И тогда, среди триумфа, грома труб и наступившей вслед за всем этим мирной тишины, люди начали сравнивать Октавиана с Цезарем. Как и Цезарю, ему наперебой предлагались различные почести. Как и Цезарь, он сосредоточил в своих руках верховную власть и поддерживал её с помощью своих войск.
Цезарю в конце концов это не удалось. Был ли Октавиан просто вторым Цезарем?
Октавиан прекрасно сознавал всю опасность такого положения. Заняв самую высокую государственную должность консула и лишив ведущие кланы их традиционных прав, он ступил на тот же гибельный путь, что и покойный диктатор. Против него уже был заговор – во главе с молодым Лепидом – и будут и другие. Так или иначе, но ему придётся найти способ удержать власть, делая при этом вид, что отдаёт её.
Он решил эту проблему в начале своего седьмого консулата. В своей «удивившей» всех речи, которая была образцом лицемерия, он восстановил Республику под управлением Сената. Затем, с тщательно подготовленной спонтанностью, позволил своим друзьям проголосовать за то, чтобы вернуть ему снятые с себя полномочия, но только в другой форме. Не буду входить в детали – всё это очень сложно и не имеет большого значения для моего рассказа. Достаточно сказать, что, хотя я и понимал необходимость его действий, меня тошнило от того, в какой форме это было сделано. К тому же я помнил судебные процессы над Милоном и Коттой.
В благодарность за это доказательство уважения к республиканским традициям Октавиана Сенат своей собственной волей нарёк Августом[217]217
Август (лат. Augustus) – великий, священный.
[Закрыть]. Это было идеальное имя, Октавиану с Меценатом пришлось изрядно потрудиться, выбирая его. В нём слышался намёк на божественность происхождения Октавиана, и до поры до времени оно послужит связующим звеном между несовершенным верховным главой армии Цезарем и совершенным кормчим Римского государства. О прекрасный новый мир, о богоподобный Август, возродивший на земле золотые дни Сатурна[218]218
Сатурн – древнеримский бог земледельцев и урожая. Сатурн считался справедливым и добрым повелителем Золотого века, царившего в Италии, когда Сатурн спасся там от Юпитера. Ко времени написания Четвёртой эклоги Вергилия (40 год до н.э.) кончался Железный век (круг Дианы) и начинался новый круг – Аполлона, в котором ожидалось возвращение Золотого века, ушедшего вместе с кругом Сатурна. Историческим основанием для ожидания Золотого века был мир, заключённый между Октавианом и Антонием, дававший надежду на спокойные времена и процветание.
[Закрыть], когда истина и справедливость будут царить вечно!
Знаю, я несправедлив. В конце концов, чего ещё я мог ожидать? Я молился, чтобы наконец всё утряслось, и вот теперь, когда это произошло, только ворчал. Если цена, которую мы должны заплатить за стабильное правительство, – лицемерие, разве не должны мы платить её с радостью? Наверное, все здоровые политические системы стоят, в основе своей, на обмане, вернее на самообмане. Не знаю. Но мне кажется, одно дело – быть обманутым невольно, с добрыми намерениями, и совсем другое – распознать обман и всё равно рукоплескать обманщику, признавая его божеством.
Примерно в это же время произошла ещё одна вещь, которая не скажу что усилила моё разочарование, но конечно же напомнила мне о своей собственной противоречивой нравственной позиции. Это не имеет никакого отношения к политике. Это чисто личное.
Пока я собирал материалы для своей «Энеиды», я жил в Риме, у Мецената. Мы как раз позавтракали, и я собирался вернуться к себе в комнату, чтобы приняться за работу, но Меценат дёрнул меня за рукав.
– Не исчезай сразу, Публий, – сказал он. – Думаю, мы сегодня утром могли бы нанести один маленький визит. Я знаю, что ты занят, но это не отнимет много времени.
– И куда мы пойдём? – Не могу сказать, что я был очень рад: ему, может, и нечем заняться, но у меня-то была работа.
Меценат пожал плечами.
– Просто в гости, – ответил он. – Не ходи, если не хочешь.
Теперь я понял, что это было нечто важное. Меценат никогда не устраивал импровизаций из-за пустяков.
– Хорошо, – согласился я. – Если, конечно, это не займёт целый день.
– О, это недалеко, – заверил он меня. – Как раз за углом. Не сомневаюсь, ты останешься доволен.
Знай я, куда мы идём, я бы отказался и упросил бы его, если он ценит нашу дружбу, выбросить из головы эту мысль. Но я ни о чём не догадывался, пока мы не пришли в дом Прокула.
– Кто здесь живёт? – спросил я.
Он улыбнулся, и его улыбку я могу описать только как озорную.
– Подожди – увидишь, – сказал он.
Его раб постучал в дверь. Наверно, я невольно ожидал, что дверь откроет Прокулов Гелен, но, естественно, привратник был незнакомый – юноша в зелёной тунике. Он поклонился, и, к моему удивлению, Меценат, вместо того чтобы спросить, дома ли хозяин, прямиком прошёл через вестибюль в гостиную и уселся в кресло, в котором всегда сидел Прокул.
– Ну, – обратился он ко мне, когда я, в совершенном недоумении, подошёл к нему, – не хочешь ли предложить своему первому гостю выпить?
Должно быть, я вылупился на него как полный идиот, потому что он внезапно расхохотался, встал и хлопнул меня по плечу.
– Это же тебе, дурень! Публий, это твой дом! Маленький подарочек от Августа и от меня в знак благодарности. – И когда я опять ничего не сказал, добавил: – Что-то не так, Публий? Я думал, ты будешь рад.
Конечно, откуда ему было знать. Когда мы познакомились, Прокула уже не было в живых, и после его смерти я ни разу не был в этом доме. Меценат не виноват. Но всё же я остро почувствовал иронию судьбы: Октавиан убил Прокула и отнял его дом. Теперь, не ведая о том, что он для меня значит, Октавиан, расплачиваясь за услуги, возвращает его мне.
Меценату могло показаться, что я спятил. Я бросил его, где он был, и, выйдя обратно через вестибюль, направился к кабинету. Меценат пошёл следом – олицетворение невинного смущения. Я остановился и огляделся вокруг.
– Кровь отмыли, – произнёс я.
– Какую кровь? Публий, да что с тобой? Тебе что-то не нравится?
Он был мне другом. Подарок был щедрый и от души, и я знал, что не могу ему ничего объяснить.
– Нет, очень мило, – сказал я. – Как раз то, о чём я всегда мечтал.
Я провёл ночь в кабинете, на ложе, на котором умер Прокул, вероятно надеясь примириться с его призраком. Но здесь не было призраков, разве что только в моей голове.








