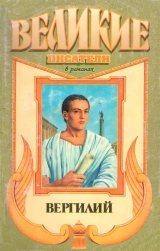
Текст книги "Я, Вергилий"
Автор книги: Дэвид Вишарт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
15
Я понял, что она пишет стихи, почти сразу же, как встретился с ней. Нет, я имею в виду не внешние признаки, когда глаза бешено вращаются, указывая на божественную одержимость, или человек за что-то берётся, но мысли его явно где-то далеко. Всё это дешёвые трюки, карикатура на плохих греческих писателей. Я не говорю и о более прозаических вещах, таких, как чернильные пятна или мозоли на правом среднем пальце. Не могу объяснить, как я догадался о том, что это родственная душа, но я понял это; и она так же быстро разгадала меня.
Я был доволен. Теперь мы не могли не подружиться. Мы много времени проводили вместе, по большей части в саду, расположенном во внутреннем дворе. Поначалу её родители несколько сомневались относительно моих намерений. Как я уже говорил, Валерия была красавица и, кроме того, обручена с сыном богатого сенатора, а Прокул, несмотря на то, что был человеком с широкими взглядами (или, наоборот, благодаря этому?), имел здравое представление о человеческой природе. Однако со временем родители безоговорочно приняли наши отношения, убедившись, что они совершенно безвредны, так же как и я сам. Не знаю, может, такие вещи передаются на расстоянии, но в любом случае я был благодарен им за их терпимость, даже если моя благодарность имела лёгкий оттенок сожаления.
Представьте себе картину.
Конец лета. Мы сидим внутри колоннады, окружающей сад. Перед нами небольшой бассейн с мраморным фонтаном, доставленным из Афин. На фонтане два Купидона верхом на дельфине, из его поднятой вверх морды бьёт струёй вода и брызгами рассыпается в бассейн. Над бассейном свисает толстая ветка розмарина, наполняющая своим благоуханием сад. По розовым клумбам важно выступает павлин, волоча за собой свой хвост, похожий на затканную вручную материю, переливающуюся лазурью, зеленью и золотом. Валерия сидит в кресле из кедра с высокой спинкой, как на троне, а я – напротив, на низенькой скамеечке. Она в белом. Небесно-голубая лента, повязанная вокруг лба, сдерживает тёмные кудри, но два завитка всё-таки выбились и мягко и нежно покоятся на её щеке, подобной цветку персика.
Мы читаем Сапфо[64]64
Сапфо – выдающаяся античная поэтесса. Родилась ок. 650 года до н.э. на острове Лесбос. Собрала вокруг себя кружок знатных девушек, которых до замужества обучала умению себя вести, музыке, стихосложению и танцам. Часть лирики Сапфо посвящена этим девушкам, а также музам. Сапфо создавала свадебные песни для девушек, покидавших её кружок. Поэтессу высоко ценили в античности, называя десятой музой. Ей подражали Катулл и Гораций.
[Закрыть].
Она замечательно читает. У неё негромкий голос, слова-пёрышки колышет лёгкий ветерок, льётся благозвучная греческая речь. Я растворился в нём, в этом сонном жужжании пчёл, и когда стихотворение заканчивается, то оно словно смешивается с солнечным светом и ароматом розмарина и наполняет сад золотой дымкой.
Валерия опускает книгу.
– Теперь ты почитай что-нибудь, Публий, – просит она.
На уме у меня только Сапфо, но читать её после Валерии – непристойно, всё равно что лягушке тягаться с соловьём. Я рискую перейти к латыни, к Катуллу[65]65
Катулл, Гай Валерий (87 или 84 – ок. 54 до н.э.) – римский лирик; жил в Риме, являвшемся в то время центром сравнимого с богемой римского круга поэтов, поддерживавших между собой дружеские отношения и ведших беспечный и легкомысленный образ жизни. Писал небольшие лирические стихотворения, подражания александрийским поэтам, эпиграммы. Особой известностью и популярностью пользовались его любовные стихотворения, полные страсти и поэтической выразительности и представлявшие собой историю пережитой поэтом любви к Клодии (воспетой Катуллом под именем Лесбии) – прекрасной, но легкомысленной замужней сестре народного трибуна Клодия. Превосходны его подражания Сапфо.
[Закрыть], прекраснейшему из поэтов.
Поколебавшись, начинаю:
Кажется мне тот богоравным или —
Коль сказать не грех – божества счастливей,
Кто сидит с тобой, постоянно может
Видеть и слышать
Сладостный твой смех; у меня, бедняги,
Лесбия, он все отнимает чувства:
Вижу лишь тебя – пропадает сразу
Голос мой звонкий.
Тотчас мой язык цепенеет; пламя
Пробегает вдруг в ослабевших членах,
Звон стоит в ушах, покрывает очи
Мрак непроглядный [66]66
Перевод С. Ошерова. Парнас: Антология античной лирики, – Москва. – Московский рабочий. – 1980. – С. 230—231.
[Закрыть] .
Валерия сидит совершенно неподвижно, её лицо застыло, стало непроницаемым. Я оскорбил её. Как я мог быть настолько глуп и бесчувствен, чтобы произнести слова любви, о которых на самом деле не помышлял! И вдруг она усмехается – самым что ни на есть непоэтическим образом – и ерошит мне волосы.
– От безделья ты, мой Публий, страдаешь, – доканчивает она стихотворение, заменив имя поэта моим. – От безделья ты кипишь и рвёшься.
Я смеюсь, и неловкость рассеивается. С Валерией соперничать бесполезно. Павлин распускает хвост и роняет помет на мраморные плиты.
16
Пожалуй, надо представить вам ещё одного члена семьи Валерии, – вернее сказать, будущего члена, поскольку он вновь появится в моём рассказе: это жених Валерии, Марк Котта. Мне Котта не очень нравился. Он был похож на одну из этих отлитых по шаблону гипсовых статуэток, что торговцы тысячами продают в качестве сувениров возле театра или во время Игр: лицо всегда одно и то же, но имена, начертанные на пьедестале, меняются в зависимости от того, какой актёр, или возница, или гладиатор оказывается сейчас популярен. Вы можете увидеть сколько угодно Марков Котта, слоняющихся без дела по вечерней Рыночной площади или упражняющихся на своих породистых скакунах на Марсовом поле[67]67
Марсово поле – низменность между Тибром, Капитолием и Квириналом, где проходили народные собрания, спортивные соревнования и военные смотры.
[Закрыть]: гладкие, щеголеватые юноши с вылощенными лицами и вылощенными голосами, благоухающие маслом для волос, парикмахерской пудрой и деньгами. Единственная отличительная особенность Котты и единственная черта, оправдывающая его в моих глазах, – это его преданность Валерии, и за неё я готов был простить ему всё.
Он тоже меня не любил.
О нет, дело было не в ревности, точнее, не в сексуальной ревности. Похоже, что и ему, как и Прокуду, шестое чувство подсказывало, что я вполне безобиден. Но это породило в нём не спокойную терпимость, а желание главенствовать, я чуть было не написал «желание задираться», но это для него чересчур сильное слово: Котта был нормальным образчиком своего класса (не хуже и не лучше), а это означало, что он вёл себя достаточно правильно, ибо был вынужден соблюдать нормы слегка искажённой морали своего класса. Его неприязнь ко мне основывалась на чём-то менее ощутимом, чем ревность на почве сексуальных притязаний. Ему не давало покоя то, что мы с Валерией были посвящены в нечто, чего он постичь не мог, – у нас с ней была общая душа.
Это звучит претенциозно, я знаю, но не стану ничего исправлять, потому что это правда. А как ещё мне это выразить? Сказать, что мы были друзьями, – слишком слабо; в то же время сочетание «больше чем друзья» – сомнительно, это всё равно что намекнуть на скрытое половое влечение, чего не было ни с той, ни с другой стороны. Я не могу даже сказать: «Мы были как брат и сестра», – это выражение очень часто, и весьма банально, используют как синоним близости, но родственные узы не гарантируют взаимной симпатии, мне это известно по собственному опыту. Я мог бы вызвать из небытия имя Платона, мог бы заявить, например, что «наши отношения напоминали идеал Платона» или что «я любил её платонической любовью». Этот оборот замечательно передал бы мою мысль философу, но для обыденной жизни он уж слишком холодный – и слишком негативный, – чтобы служить моей цели.
Видите, в чём проблема? Поэтому не обращайте внимания на высокопарность фразы и воспринимайте её в том смысле, который подразумевается.
У нас с Валерией была общая душа.
В предыдущей главе я предложил вам парную виньетку или диптих – вероятно, несколько приукрашенный в стиле подобных вещей, но схвативший суть моего чувства к Валерии. Позвольте предложить вам ещё кое-что: на этот раз триптих, где я в более ярких красках изображу себя, Валерию и Котту.
Снова лето, и снова мы в саду позади дома. Вьющиеся красные розы пламенеют на фоне темно-медовых колонн. Котта лежит, раскинувшись, на траве, его туника с пурпурным краем слегка испачкана зеленью, под рукой у него кувшин с лучшим вином Прокула. Мы с Валерией сидим в креслах под колоннадой.
Настроение у Котты хуже некуда, и для этого есть веские причины. Он только что узнал, что прошлой ночью загорелся принадлежащий ему доходный дом. Жильцов первого этажа, над лавками, благополучно вывели. Остальные сгорели.
– Мы нашли ублюдка, который всё это устроил, – говорит он. – Он зажёг жаровню – вы не поверите! – чёртову жаровню, в такую-то погоду!
Валерия замерла, её широко раскрытые глаза погасли. Я вижу то, что видит она своим мысленным взором: языки пламени, нестерпимо жёлтые в темноте, пожирающие гнилые, пересохшие доски; вместе с ней слышу крики, чувствую запах жирного чёрного дыма, пропитанного тошнотворно-сладким зловонием горящего мяса.
– Сколько? – спрашивает она.
Котта поднимает голову.
– Сколько чего?
– Сколько человек погибло?
Он хмурит брови.
– Откуда мне знать? Подобные места – как садок с кроликами. Пятьдесят... может, сотня. Это произошло ночью, должно быть, все спали.
В лице Валерии ни кровинки. Я наклоняюсь к ней, касаюсь её руки. Её пальцы на мгновение сжимают мои.
– Это будет стоить мне не один миллион, – продолжает Котта. – Здесь не только потеря здания. Здесь и арендная плата. Подрядчиков теперь не найти ни за какие деньги. Они держат нос по ветру, а дело-то выеденного яйца не стоит.
– Кто-нибудь пытался спасти их? – Я с удивлением заметил, что руки у меня трясутся.
– Подойти было невозможно. – Котта хмурится. – Он вспыхнул как факел. А ближайшее место, где можно было набрать воды, за три улицы. Какого чёрта никто не побеспокоится о водоснабжении в городе!
– Или о городских зданиях, – тихо говорю я.
– Каких – многоквартирных? – Он, кажется, искренне удивлён. – С ними всё в порядке. Чернь таких и заслуживает. Или ты хочешь, чтобы в Риме каждая крыса из сточной трубы имела собственную квартиру? Мраморные полы, росписи на стенах – так они должны жить? Да через месяц они всё это превратят в трущобы.
– Нет, – вздыхаю я. – Этого я не жду. Я только говорю, чтобы дома строили как следует и содержали их в порядке, а не как сейчас – гиблое место.
– Ну да, конечно. А откуда возьмутся деньги?
– Из арендной платы, естественно, – говорит Валерия. Она всё ещё бледна, но теперь уже от гнева. – За сколько в год ты сдаёшь комнату в своём доме, Марк? За тысячу? Две?
– По существующим расценкам, не больше. – Похоже, этот вопрос задел Котту. Более того, он встретил сопротивление Валерии и теперь явно защищается. – Но должно же сенаторское сословие откуда-то получать деньги. Мы не можем марать руки никаким ремеслом, как вы, с узкой каймой.
Не думаю, что он считал это оскорблением. Он лишь констатировал факт, и ему даже не приходит в голову, что мы можем воспринять это как-то иначе. Валерия не отвечает и, приободрённый этим, Котта продолжает:
– Кстати, от арендной платы есть прок. – Рукой с зажатым в ней кубком он показывает на кольцо, которое Валерия носит рядом с железным обручальным. Это александрийское кольцо, с инкрустацией в виде богини любви в окружении купидонов. – Да если на то пошло, то это они заплатили за безделушку, которую я купил тебе на день рождения.
– Мы не считаем, Марк, что ты не должен иметь прибыли. – Я стараюсь говорить спокойно; я не хочу ссоры, ради Валерии. – Мы только думаем, что ты мог бы часть этих денег вложить в ремонт. В конце концов, – я подыскиваю слова, которые будут ему понятны, – стремиться сохранить свои вложения – это здоровый деловой подход, разве не так?
– Или просто считай это долгом совести. – Кажется, Валерия не особенно беспокоится о том, поссорятся они или нет. Я никогда не видел её такой злой.
Котта смотрит то на неё, то на меня. На его лице написано недоумение, и я понимаю, что он совершенно искренне не может взять в толк, из-за чего весь сыр-бор. И вдруг я чувствую, что не столько злюсь на него, сколько жалею. Он как ребёнок, которого отшлёпали за то, что он не считал дурным. Я бросаю взгляд на Валерию. Она улыбается мне в ответ, легонько кивает и говорит:
– Я слышала, ты купил нового жеребца, Марк? Расскажи нам.
Он рассказывает, со всеми подробностями, и таким образом ненужной ссоры удаётся избежать. Я с признательностью касаюсь левой руки Валерии и вдруг замечаю, что, кроме обручального кольца Котты, на ней теперь нет никаких украшений. Александрийское кольцо исчезло, и я никогда больше не видел, чтобы она его снова надела.
Я никогда...
Больше никогда.
Закрой картинку, Вергилий. Закрой скорее!
Больше никогда.
Никогда.
Всё, хватит воспоминаний о Валерии. Они приносят мне слишком много горя.
17
Той осенью беспорядки усилились. Мы, на вершине Эсквилина, были как бы над ними, но внизу, в долине, где обитали неимущие слои, всё бурлило – словно зачервивевший сыр кишел личинками. Второй раз за два года были отложены выборы консулов. Вооружённые банды – сторонники аристократа Милона[68]68
Милон, Тит Анний (95—48 до н.э.) – римский народный трибун, сторонник антиаристократической партии Сената. В 57 году до н.э. требовал возвращения из ссылки Цицерона, чему противился его товарищ по трибунату Клодий. Между ними началась открытая вражда. Сторонники того и другого вооружёнными шайками бродили по городу, чиня насилия и производя кровавые побоища. Эта вооружённая борьба продолжалась до 52 года до н.э., когда Клодий был убит Милоном. Суд приговорил Милона к изгнанию в Массилию. В 48 году до н.э. он, пользуясь отсутствием Цезаря, возвратился в Италию, снова собрал вооружённые отряды и поднял восстание, помогая защищать дело республиканской партии, но при осаде одной крепости был убит.
[Закрыть], который был одним из кандидатов, и демагога[69]69
Демагоги (греч. «вожди народа») – политические деятели, действовавшие в интересах народа. Их влияние в обществе основывалось не на богатстве или служебном положении, а на ораторских способностях.
[Закрыть] Клодия – шатались по улицам и превратили город в поле сражения. По ночам нельзя было выйти из дому, если вы дорожили своей жизнью, а по утрам никто не удивлялся, увидев свежую кровь, блестящую на мостовой, или заметив на углу улицы нечто, что поначалу казалось грудой тряпья. Идя по судебным делам на Рыночную площадь и обратно, я предпочитал закрывать глаза и уши на то, что творилось вокруг. Я чувствовал себя, словно человек в здравом уме, шагающий по городу умалишённых.
Дом Прокула всё больше и больше становился для меня островком здравомыслия, и после занятий я спешил вернуться туда как можно скорее. Обедали мы, как правило, поздно – Прокул частенько был занят по вечерам – и, по обыкновению, в компании друзей. Мне очень нравились эти обеды, хотя бы потому, что они сильно отличались от застолий у дядюшки Квинта. Мне нравилась их простота и то, что беседа была важнее еды и питья. Они были, во всех смыслах этого слова, цивилизованными.
К тому же именно там я завязал свой первый контакт как начинающий поэт.
Это был чудесный сентябрьский вечер. Я читал в своей комнате, пользуясь последними лучами гаснущего солнца, как вдруг в открытую дверь просунулась голова Валерии.
– Вот ты куда забрался, – сказала она.
Я улыбнулся и отложил книгу.
– А где же мне ещё быть? – ответил я. – Кое-кому из нас надо ещё и учиться. Не могут же все быть богатыми дилетантами, вроде тебя.
Она показала мне язык, подошла к столу, взяла книгу и прочла заглавие.
– Phainomena[70]70
Phainomena («Явления») – учебное стихотворение греческого писателя Арата (310—245 до н.э.), описывающее звёздное небо и звёздные явления согласно учению Евдокса Книдского, который пытался представить движение небесных тел в виде системы сфер. Сухой научный текст Арат оживил, включив в канву стиха звёздные мифы и материал, посвящённый приметам погоды. Стихотворение свидетельствует о глубоком знании поэтом стоической философии. Использовалось как учебное пособие.
[Закрыть], — фыркнула она. – Скучища!
– А мне это стихотворение кажется пленительным, – возразил я. – Женщины вообще не способны к философии как науке.
– Ах ты, невежа, – заявила она. – Я, между прочим, прочла его в оригинале. У тебя это перевод, к тому же не самый лучший.
– Достал, что смог! Не всё ли равно...
Она засмеялась и бросила свиток на стол.
– Видел бы ты себя, – сказала она. – Покраснел, как кусок колбасы. Надевай-ка свою лучшую тогу и пошли вниз. Пора обедать, и меня послали позвать тебя.
– Уже? А моя лучшая мантия?
– Отец вернулся домой рано и привёл с собой гостя.
– Кого? – Я взял Арата, свернул его и спрятал обратно в футляр. – Помпея собственной персоной? С Цезарем, несущим за ним тапочки?
Валерия задержалась у двери.
– Нет, не совсем, – ответила она. – Но тогу всё равно надень. Мы тогда, по крайней мере, не будем кидать тебе орехи, перепутав с ручным медведем.
Когда я вошёл в столовую, уже подали первое блюдо. Ни Валерии, ни её матери не было и следа.
Значит, это не семейный обед, но и не литературная или философская вечеринка. Политика. Я внутренне содрогнулся.
На среднем ложе, на почётном месте, лежал молодой человек лет двадцати с небольшим, с острыми чертами лица и аристократическим носом. Когда я вошёл, он бросил на меня взгляд: быстрый, оценивающий взгляд.
– А, Публий. – Прокул указал мне на пустующее ложе слева от молодого человека. – Значит, Валерии удалось обнаружить тебя. Поллион[71]71
Поллион, Гай Азиний (76—4 до н.э.) – римский государственный деятель, полководец, оратор и писатель. В гражданской войне принимал участие на стороне Цезаря и Антония, оставаясь верным республиканским взглядам. В 40 году до н.э. был консулом. При Августе отошёл от политики. Пробовал себя в различных литературных жанрах, сочинял трагедии и написал произведение о гражданской войне. Создал первую в Риме публичную библиотеку. Будучи превосходным оратором, выступал как адвокат. Способствовал распространению трудов Горация и Вергилия. Известен как суровый критик, находивший разного рода недостатки у Ливия, Цицерона, Цезаря и др.
[Закрыть], это и есть мой друг и гость, приехавший с севера, о котором я тебе говорил, – Вергилий Марон.
– Азиний Поллион. – Юноша наклонился вперёд и пожал мне руку, как только я занял третье ложе. – Очень рад встрече.
Это действительно была для меня приятная неожиданность. Я, конечно, слышал о Поллионе и был рад, что Валерия предупредила, чтобы я надел свою лучшую тогу. Поллион был самый многообещающий молодой человек в Риме: разносторонний, каким мне, я уверен, никогда не стать, и внушающий благоговейное восхищение. Он дружил с Катуллом, писал блестящие стихи и трагедии, сочинял торжественные речи в настоящем аттическом стиле и подумывал о том, чтобы испробовать своё перо на историческом поприще. К тому же он был одним из самых перспективных протеже Цезаря, которому суждено носить окаймлённую пурпуром тогу магистрата и красный плащ полководца. В общем, пугающе совершенная личность.
– А мы, Публий, только что говорили о беспорядках. – Прокул очистил от скорлупы перепелиное яйцо и макнул его в соль. – Я спрашивал Поллиона, почему Помпей ничего не предпринимает.
Поллион нахмурился.
– Действовать должны консулы, это их дело, – сказал он. – Помпей не имеет власти в Риме. Получив статус правителя[72]72
Получив статус правителя... — После того как в 55 году до н.э. Помпей вновь был консулом, он на 5 лет получил в управление Испанию.
[Закрыть], он даже не имеет права войти в город.
– А не может такого быть, что он просто хочет, чтобы всё шло как идёт?
Поллион помедлил с ответом, потянулся за оливкой.
– Зачем ему это? – спросил он.
– Чтобы вынудить Сенат назначить его диктатором. Зачем же ещё?
– Надо быть дураком, чтобы сделать что-нибудь подобное. – Сказано это было довольно категорично. – Принять диктаторские полномочия – значит сыграть на руку Сенату. Это привело бы его к столкновению с Цезарем, и не позднее чем через месяц у нас началась бы гражданская война.
– Вы думаете, что именно этого хочет Сенат? – спросил я. – Ещё одной гражданской войны?
– Это не то, чего они хотят, а то, что получат, да только они слепы и не видят этого. Они не один год пытались вбить клин между Цезарем и Помпеем, а теперь, когда погиб Красе и умерла Юлия, похоже, что им наконец это удастся.
Юлия была женой Помпея и дочерью Цезаря. Она умерла год назад в результате осложнений после выкидыша.
– Неужели всё будет так плохо? – улыбнулся Прокул. – Помпей, по крайней мере, не глух к голосу разума. И эти последние несколько лет он совершал чудеса, наводя порядок в хлебных поставках[73]73
...совершал чудеса, наводя порядок в снабжении зерном, — Помпей предложил назначить себя на 5 лет проконсулом для упорядочения хлебного вопроса с предоставлением ему войска и казны. Сенат принял это предложение, но не дал ему ни казны, ни войска, ни власти над наместниками. Тем не менее Помпей справился с задачей.
[Закрыть]. В отличие от вашего Цезаря, он-то производит впечатление человека, сознающего свою ответственность.
Поллион рассмеялся.
– Прости, Прокул, – сказал он. – Ты рассуждаешь как сенатор, а я боюсь, что коллективный ум Сената находится у них в заднице. Почему Помпей должен доверять Сенату? – Он поднял руки с растопыренными пальцами. – Прежде всего, они унижают Помпея, отказываясь утвердить его планы, касающиеся восточных провинций и раздачи земли солдатам, хотя всё это очень разумные требования. Далее, они повторяют ошибку с Цезарем. Они не могут отстранить Помпея от консульской должности, поэтому обходят сомнительный закон, предоставив ему управлять лесами после того, как вышел срок его службы. И в конце концов в ужасе воздевают руки, удивляясь, что две обиженные партии объединяют силы. Не правда ли, это недальновидно?
– Это не важно. – Прокул нахмурил брови. – И Помпей и Цезарь подчиняются законам государства.
Им не могут позволить действовать исходя из собственных корыстных интересов.
– А если в основе самих этих законов лежит корыстный интерес, что тогда? Не лучше ли проигнорировать их и поступить так, как мы считаем правильным?
Прокул поставил кубок с такой силой, что вино выплеснулось на стол и растеклось по отполированному дереву.
– Нет! – отрезал он. – Это не лучше! Цель не оправдывает средства. Я не отрицаю – в том, что происходит, есть и доля вины Сената. Но дать Цезарю его Галльские провинции, а Помпею землю для его солдат – стоило нам семи лет мятежей и кровопролития.
– Это из-за Клодия, а не из-за Цезаря.
– Клодий – ставленник Цезаря!
– Если бы Сенат не был таким тупоголовым, мой дорогой Прокул, Цезарю не было бы нужды пренебрегать им и использовать Клодия, чтобы тот протолкнул его законопроект через Народное Собрание. – Поллион выбрал себе ещё одну оливку. – А как народный трибун[74]74
Народный трибун – одна из должностей магистрата, задача которой состояла в защите интересов плебса от посягательств патрициев. Важнейшие права народного трибуна – право вето на любое решение магистратов или Сената и право созыва Народного Собрания. Цезарь перевёл Клодия в плебейство, чем дал ему возможность выступить кандидатом в народные трибуны. В 58 году до н.э. Клодий стал народным трибуном.
[Закрыть] Клодий имеет полное право на законных основаниях блокировать любое решение Сената, которое кажется ему... направленным не туда.
– Ты имеешь в виду, что оно Цезарю покажется... направленным не туда. – Прокул поманил дворецкого и указал ему на пролитое вино. – Вытрите это, пожалуйста. И можно подавать главное блюдо.
Поллион усмехнулся.
– Значит, насколько я понимаю, – озорно сказал он, – ты проводишь различие между Клодием и Милоном?
Прокул напрягся. Я знал, что к Аннию Милону он испытывал смешанные чувства. Это был изменивший своему классу аристократ, сторонник насилия ради насилия. Пять лет назад Помпей, с благословения Сената, помог ему сформировать отряды, чтобы противостоять бандам Клодия. Тщательно подготовленное сражение между ними превратило Рыночную площадь в руины, Большая Клоака[75]75
Большая Клоака (Cloaca Maxima) – большой закрытый сточный канал в Риме, проведённый ок. 300 года до н.э. по этрусским образцам от форума в Тибр между Капитолийским и Палатинским холмами. Были и ещё несколько сточных каналов, построенных позже. Их хранительницей являлась богиня Клоакина («очистительница» – эпитет Венеры).
[Закрыть] была забита трупами. Власти Клодия был нанесён жестокий удар, если не сказать, что ей полностью пришёл конец. Для многих сенаторов, в том числе и для любимого Прокулом Цицерона, Милон был героем, спасителем государства.
– Положение требовало принять строгие меры, – сказал Прокул. – Я не могу мириться с ними, но это было необходимо.
Поллион внезапно рассмеялся.
– Значит, в конце концов ты всё-таки веришь, что цель оправдывает средства? – спросил он.
От необходимости отвечать Прокула избавило прибытие основного блюда – тушёной свинины, гарнированной луком-пореем, капустой и грибами, под соусом из миндаля и петрушки. Некоторое время мы ели молча.
Наконец Поллион окунул пальцы в полоскательницу, вытер их салфеткой и повернулся ко мне.
– Прокул говорит, что ты поэт, – сказал он.
От смущения я залился краской и уткнулся в свою тарелку.
– Тут нечего стыдиться. Что ты пишешь?
– Так, кое-что. Эпиграммы в основном. Немножко элегии.
– Кто твой любимый писатель?
– Каллимах.
Он одобрительно кивнул.
– Лучше не придумаешь. А кого ты любишь из латинских авторов?
– Катулла и Кальва[76]76
Кальв, Лициний (I в. до н.э.) – оратор и поэт, ближайший друг Катулла.
[Закрыть].
– Не Цицерона? – В его глазах мелькнул огонёк, и он скосил взгляд в сторону Прокула.
– Но только не за стихи, нет, – ответил я.
Поллион пружинисто встал и произнёс нараспев, в нос:
Я засмеялся. Прокул казался печальным.
– Едва ли это справедливо, Поллион, – сказал он. – Цицерон написал кое-что получше этого.
– Но ничего, что так же верно отражало бы его собственную душу, – снова усмехнулся Поллион.
Печаль Прокула растаяла, и он засмеялся.
– Да ты, юная гончая, решился затравить меня, а? Ладно, у нас у всех есть грехи. Даже у тебя.
Поллион откинулся назад, чтобы не мешать рабам убрать грязные тарелки и поставить вместо них чаши с фруктами и орехами.
– Из-за покушения на Цицерона бедняга Катилина[78]78
Катилина, Луций Сергий (108—62 до н.э.) – обедневший римский патриций. Лелеял планы ликвидации республиканских устоев. По суевериям римской толпы, 63 год до н.э. должен был стать годом гибели Рима. Этим решили воспользоваться Катилина и Лентул, чтобы воздвигнуть собственную власть на развалинах Римской республики. Для этого Катилина выдвинул свою кандидатуру на консульские выборы 63 года до н.э. Но консулом стал Цицерон. После неудачного покушения на жизнь Цицерона Катилина бежал из Рима и собрал войско в Этрурии. В сражении при Пистории пал в бою.
[Закрыть] попал на острие мировой истории, – ответил он. – Да так там, пригвождённый, и остался.
– Цицерон – великий муж. – Прокул отобрал грушу и принялся счищать с неё кожуру. – Наверно, самый великий из тех, кого породил Рим.
– Это он всё время нам так говорит. Может, он и великий, но всё равно жутко скучный. И воплощение близорукости Сената.
– Вот тебе раз! – Прокул положил нож. – В последние десять лет он сделал больше, чем кто-либо другой из живущих, чтобы сохранить государство. И если ему это не удалось, то здесь нет его вины.
– Тогда чья же это вина? – спросил Поллион. – Его так называемое «единомыслие всех достойных»[79]79
«Единомыслие всех достойных» (Concordia Ordinum). – Практической программой Цицерона было «согласие сословий», «единомыслие всех достойных», т. е. блок сенатского и всаднического сословий против демократии и претендентов на монархическую власть. Такой блок ему удалось сплотить против заговора Катилины. Сам Цицерон – из сословия всадников. Его политический идеал – «смешанное государственное устройство» (т. е. государство, сочетающее элементы монархии, аристократии и демократии, образцом которого Цицерон считал Римскую республику III – начала II века до н.э.).
[Закрыть] было только попыткой подпереть старые, прогнившие формы сенатского правления. Он отделался от Помпея, сказав ему во всеуслышание и со всеми подробностями, как тому повезло, что Цицерон ему друг, а когда Цезарь предложил ему место в реальном правительстве[80]80
Когда Цезарь предложил ему место в реальном правительстве... — Речь идёт о заключении первого триумвирата в 60 году до н.э. Поняв, что Помпей является врагом непримиримого Сената, Цезарь предложил ему союз; в качестве третьего члена он хотел привлечь Цицерона, но тот не желал принимать участие в антисенатской коалиции. Поэтому вместо Цицерона Цезарь обратился к честолюбивому Крассу. После этого Цицерон был полностью отстранён от политических дел.
[Закрыть], категорически отказался. Меня никогда не переставало поражать человеческое тупое себялюбие.
– По крайней мере, он честен, – перебил Прокул. – Даже Цезарь признает это. Поэтому-то он и приложил столько усилий, чтобы залучить его на свою сторону. Ему необходима чистота Цицерона, чтобы придать видимость респектабельности собственным закулисным сделкам.
– Риму прежде всего нужна сила, а не респектабельность. Иначе он будет продолжать двигаться тяжело, как корабль, лишённый весел.
– И ты думаешь, что Цезарь – идеальный платоновский лоцман? – Прокул презрительно усмехнулся, как он умел это делать. – Хорош лоцман! По уши в долгах, в личной жизни – сплошной позор и двуличный, как Янус.
– Да уж, он не образец совершенства, – улыбнулся Поллион. – Но очень к этому стремится. И для Рима сейчас он – самое лучшее. Они нужны друг другу, и, если Цезарь падёт, Рим падёт вместе с ним. Помните об этом.
Поняв, что беседа завела их в сферы, слишком опасные даже для дружеского застолья, Прокул переменил тему разговора, и мы перешли к обсуждению более абстрактных вещей. Когда вскоре Поллион поднялся с места, чтобы уйти, он помедлил у двери и вновь обратился ко мне:
– Между прочим, Вергилий, – сказал он, – ты упоминал Кальва. Приходи ко мне на днях, я тебя с ним познакомлю. Мы, поэты, должны держаться вместе.
Вот так я познакомился со своим первым покровителем.








