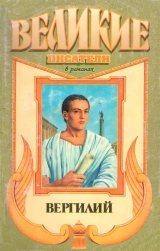
Текст книги "Я, Вергилий"
Автор книги: Дэвид Вишарт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
34
Наверное, это было в июле или, может быть, в августе в год смерти Цезаря. Я провёл день в Неаполе и только зашёл в книжную лавку Деметрия недалеко от Гончарного ряда, как столкнулся с темноволосым мальчиком, который как раз выходил оттуда, нагруженный книгами. Я рассыпался в извинениях.
– Всё в порядке, – сказал юноша. – Это моя вина. Как всегда, в жуткой спешке. Папа говорит, что так я скоро на обратном пути встречу самого себя.
Я поднял упавшую на мостовую книгу и взглянул на заголовок: «Сатиры» Гая Луцилия[145]145
Гай Луцилий (ок. 180—102 до н.э.) – римский поэт. Написал 30 книг сатир. Тем самым он открыл новую форму художественного освоения действительности. Сатира использовалась им для обличения отрицательных явлений в политической и общественной жизни, причём поэт не страшился употреблять резкие слова в адрес конкретных должностных лиц. Порицал зарождающуюся у знати любовь к роскоши, суеверию. Впервые в римской литературе в его поэзии появляются путевые заметки, изложенные стихотворным письмом. Своеобразие поэзии Луцилия – в точном воспроизведении бытовых реалий и в сочном юморе. Луцилий оказал значительное влияние на Горация и римских поэтов-сатириков более поздних поколений.
[Закрыть].
– Интересный выбор, – заметил я, протягивая ему книгу. Луцилий не был модным писателем. Его «Сатиры», написанные около века назад, были смешанным собранием латинских гекзаметров – живые, лёгкие стихи в старой грубоватой манере, но косматые и костлявые, как мул грузчика. Я удивился, что они нашлись в лавке Деметрия.
Мальчик улыбнулся:
– Мне он нравится. У него есть собственный голос. Римский, не греческий. Иногда мне хочется подправить его слог.
Он не хвастался, а просто констатировал факт. Я поймал себя на том, что улыбаюсь ему в ответ.
– Значит, ты поэт? – спросил я.
– Нет ещё.
– Учишься здесь в школе?
Он рассмеялся.
– Нет, – сказал он. – В Риме. Или, вернее, учился до прошлого года.
Тут я заметил, что он был старше, чем я думал, – по меньшей мере лет семнадцати или восемнадцати, но уж очень маленький для своего возраста. Я снова извинился.
– Не стоит, – ответил он. – Очень многие так ошибаются. Я привык.
Мы не заметили, как вновь очутились в лавке. Деметрий, толстый, лысеющий одноглазый грек, разговаривал с надсмотрщиком над рабами-переписчиками. Он хотел подойти к нам, но я жестом отослал его обратно.
– Ты надолго в Неаполе? – спросил я.
– Всего на несколько дней, я навестил дядю. Вообще-то я еду учиться в Афины.
Это заинтересовало меня ещё больше. Афины были – да и сейчас тоже – местом, куда отправлялись юноши из хороших семей (и с большими доходами), чтобы завершить своё образование. Этот молодой человек вряд ли был из них. Его одежда была недорогая, хотя и приличная, и, судя по его речи, я бы подумал, что он провинциал, принадлежащий к среднему классу, не выше. Он заметил моё плохо скрытое изумление (это был очень наблюдательный паренёк) и снова засмеялся.
– О, я не аристократ, – сказал он. – У дяди гончарная лавка через несколько домов отсюда. А отец – бывший раб.
Я покраснел, чувствуя, что, наверно, обидел его, но, похоже, он не придал этому никакого значения. Сомневаюсь, что я когда-нибудь встречал кого-либо, обладающего такой же выдержкой.
– Мой дед тоже был гончаром, – нашёлся я.
– Правда? Здесь, в Неаполе?
– Нет, в Мантуе. Ребёнком я всё время играл у него в лавке.
– А я до сих пор это делаю в лавке дяди Тита. Это доводит его до бешенства.
Теперь была моя очередь рассмеяться. Его наивная откровенность после утончённой беседы Сирона или Парфения была освежающей. Она немного напоминала мне Валерию.
Молодой человек поудобнее переложил под мышку связку книг.
– Пожалуй, я пойду. Дядя, наверно, недоумевает, куда это я запропастился. – И тут его осенило: – Слушай, а почему бы нам не пойти вместе и не выпить немного вина? Если, конечно, ты не слишком занят.
Я колебался. Я нелегко сходился с людьми и уж конечно не через случайные знакомства. С другой стороны, дела я закончил – к Деметрию я забрёл просто так, поглядеть, – было жарко и до завтра я был свободен. И к тому же мне было любопытно.
Юноша заметил мою нерешительность.
– Но конечно, у тебя есть ещё чем заняться, – вежливо проговорил он. – Теперь моя очередь принести свои извинения.
Это решило дело.
– Не стоит, – ответил я. – Буду рад. – Я протянул ему руку. – Публий Вергилий Марон.
– Квинт Гораций Флакк, – представился он.
Я словно вновь шагнул в мир своего детства с его серовато-коричневыми красками и густыми запахами земли. В переднем углу лавки работали два раба. Когда мы вошли, они подняли головы. Гораций помахал им, и они улыбнулись в ответ. Шлепок мокрой глины о рабочий стол, щёлканье и жужжание колеса приветствовали меня, как старые друзья, нашёптывали мне, словно добрые духи. Стало покалывать пальцы, будто вновь ощутившие просачивающуюся сквозь них глину и дедушкины руки, прижимающие мои ладони. Знаю, что это звучит странно, но на какое-то время я испытал почти невыносимое чувство потери, утраченной простоты, и на глаза навернулись слёзы. Если бы тот, кто сейчас отдёрнул в задней части лавки грубую занавеску и вышел нам навстречу, стирая с рук глину, оказался моим дедом, я бы не удивился, а был бы только благодарен, словно меня за что-то (не спрашивайте, за что и почему) простили.
– Дядя Тит, это Вергилий, – произнёс Гораций. – Его дед был гончар в Мантуе.
Он и представил меня верно, самым подходящим образом. Не «Мы налетели друг на друга в книжной лавке Деметрия», а «Его дед был гончар». Я пожал старику руку.
– Рад с вами познакомиться, сударь, – поздоровался я.
– Он немножко глуховат, – сказал Гораций.
– Глупости! – Дядя пододвинул табуретку. – Садитесь, господин, дайте ногам отдохнуть. Я принесу вам вина.
Я был рад присесть. Рядом с ними обоими я чувствовал себя неуклюжим великаном. Старик был не намного выше своего племянника, такой же пузатый, как собственные кувшины для масла, с абсолютно лишённым волос черепом, который блестел, словно отполированный. Он вновь исчез за занавеской.
Я наблюдал, как один из рабов – судя по внешности, родом из Северной Греции и такой же старый, как его хозяин, – кинул на круг ком глины и из него получился такой же горшок, какой я помнил по дедовой лавке. Занавес опять разъехался, и появился старик. Он принёс поднос, нагруженный кувшином с вином и кубками, хлебом, оливками в собственном соку и овечьим сыром, и поставил всё это на пол рядом со мной.
– Ничего особенного, – сказал он, – но сыр хороший. Угощайтесь.
Я попробовал кусочек. Он был острый и имел резкий привкус – настоящий деревенский сыр, такой же, как мы всегда делали у себя на ферме.
– Ты тоже налетай, Квинт, – обратился старик к Горацию. – В Афинах тебе не найти такого сыра.
– Когда ты уезжаешь? – спросил я.
– В конце месяца. – Гораций налил себе ещё вина и сделал длинный глоток.
– У кого ты учишься?
– У Феомнеста и Кратиппа.
Я был поражён. Феомнест был главным светилом Академии[146]146
Академия — первоначально философская школа Платона. Название получила по местности в Афинах – Академа, где располагалась школа. Основана Платоном в 388 году до н.э. Позднее отошла от платоновской философии, обобщила идеи (в первую очередь в области эстетики) Аристотеля, Платона и стоиков.
[Закрыть]. Кратипп – один из лучших перипатетиков[147]147
Перипатетики — ученики и последователи греческого философа Аристотеля. Название произошло от слова peripatos (крытая галерея), части школьного здания, которое использовалось как помещение для занятий.
[Закрыть].
– Вы, конечно, простите меня, сударь, я должен работать, – сказал старик и, когда я сделал движение, чтобы подняться, остановил меня: – Нет, нет, не вставайте. Оставайтесь сколько хотите, вы никому не помешаете. Был рад познакомиться.
И ушёл.
– Ты был в Афинах? – спросил Гораций.
– Боюсь, что нет. Родители отправили меня в Рим.
– Они живут в Мантуе?
– У отца там поместье.
Он кивнул.
– У папы теперь тоже. Маленькое такое, недалеко от Венузии[148]148
Венузия – город в Апулии, области на юго-востоке Италии, место рождения Горация.
[Закрыть].
– А твоя мать?
– Она умерла.
Странно, но я почти был уверен, что ответ будет именно такой; я как будто смотрел в зеркало, видя себя не таким, какой я был, а таким, каким мог бы стать. Следующий мой вопрос вырвался непрошенно, почти что помимо моей воли. Даже когда я задавал его, он причинял мне боль, словно я отдирал корку с раны.
– Ты ладишь с отцом?
Гораций помедлил. Затем не спеша поставил свой кубок.
– Он самый лучший человек на свете, – сказал Гораций. – Если я чего-нибудь стою, то это всё благодаря ему. Если в будущем я добьюсь чего-то большего, все похвалы – ему.
Я почувствовал такую боль, как будто у меня в кишках повернули нож.
– Папа показал мне, как жить, – продолжал Гораций. – Не научил. Показал. «Погляди на того человека, – скажет. – У него есть деньги, но внутри он мёртв. Никто его не уважает. Никто не любит. Не будь похожим на него, Квинт». Или: «Посмотри на этого. Он держит слово, поступает по справедливости, он верный друг. Делай так же, и ты никогда не собьёшься с пути истинного». – Он взял кубок и выпил. – Вот что я называю образованием. Всё остальное ничто по сравнению с этим.
Я подумал о своём отце. Иногда мне казалось, что он даже имени моего не сможет вспомнить.
Гораций оторвал от каравая кусочек хлеба, обмакнул в оливковое масло и впился в него зубами.
– Папа отказывал себе во всём и откладывал деньги со своих доходов вольноотпущенника, – сказал он. – Бог знает, как это ему удавалось. Я тебе говорил, что он был помощником аукциониста? Он привёз меня в Рим и дал школьное образование, какое получают богатые мальчики. – Он вдруг рассмеялся. – У меня до сих пор рубцы на заду, чтобы удостовериться в этом. Нам, конечно, не по карману был раб, который бы таскал за мной книги, поэтому отец делал это сам. Другие мальчишки смеялись над этим, но он не обращал внимания, и я тоже.
– Твой отец, должно быть, удивительный человек, – заметил я и почувствовал внутри необычайную пустоту. В груди у меня было так же пусто, как у бронзовой статуи.
– Не больше, чем твой, я уверен, – учтиво ответил он. – Ты сказал, у него поместье недалеко от Мантуи?
Но я не хотел говорить о своём отце. Что я мог сказать? Я был для него ничто. И всегда было так. Мы даже больше не переписывались. Я глотнул вина и притворился, что не расслышал.
– У тебя есть где остановиться в Афинах?
Он пожал плечами.
– У друга друга моего друга, – ответил он. – И всё-таки трудно покидать Рим, именно тогда, когда наконец такое происходит.
– Что ты имеешь в виду?
– Убийство тирана. Борьба за свободу. Падение оков.
Он говорил свободно, не чувствуя неловкости, и даже, я думаю, не замечал театральности фраз, которые произносил. Я вспомнил Брута, его тяжёлый взгляд и плотно сжатые тонкие губы. Он мог употреблять такие слова. Но когда он говорил о тиранах, свободе и цепях, слова свистели в воздухе, как пущенные пращой камни. Было слышно, как они летят вслед, затем раздавался глухой удар о живую плоть и хруст раздробленных костей. У этого мальчика было по-другому. Тираноубийство для него – детская сказка, в которой всё либо чёрное, либо белое, герой против злодея, воплотившего всю грязную сущность человеческой природы. Гораций был, наверно, всего на четыре или пять лет моложе меня, но пред его искренним идеализмом я чувствовал себя древним и циничным и изрядно замаранным.
Я завидовал ему. И до сих пор завидую. Его взгляды с годами менялись, но характер – нет.
Мы поговорили ещё немного – о философии и о поэзии. Я, конечно, не представлял себе тогда – ведь после той единственной встречи я потерял его из виду почти на пять лет, – что Горацию суждено было стать одним из моих самых близких друзей. Мало того, что он блестящий поэт, он ещё и самый поистине человечный человек из всех, кого я когда-либо знал, бескорыстный и совершенно лишённый тщеславия. Он был настолько добр, что отдал мне половину своей души. Я знаю, что не заслужил этого, но всё равно он – моя половина, и притом моя лучшая половина. Если бы я мог выбирать, кем другим мне стать в этом мире, я бы выбрал его. Но раз этого нельзя, то я горжусь, что зову его своим другом.
35
События следующих полутора лет стали уроком политики с позиций силы, преподанным юнцом, едва достигшим двадцати лет. Они дали ему если и не окончательную власть, то, по крайней мере, положение, которое его приёмный отец занимал тринадцать лет назад, но только узаконенное официальным решением Сената; а мне они принесли... впрочем, сами увидите, что они мне принесли.
С тех пор как Октавиан явился в Рим, их отношения с Антонием становились всё более натянутыми. Со стороны Октавиана это было умышленно: чтобы расчистить пространство для себя, он должен был прежде всего отстранить Антония от Цезаревых войск, а затем размежеваться с ним в своих притязаниях узаконить власть.
Ему удалось это превосходно. Если это слово будет уместно.
В начале октября он выехал из Рима на юг и принялся оказывать влияние на настроение воинов: если Антоний на самом деле желал отомстить за Цезаря, тогда почему его убийцы всё ещё на свободе? А не было ли здесь какого-нибудь секретного сговора? Если Антоний ценил людей Цезаря так высоко, как он об этом заявлял, то почему же он так скуп на награды? Для противной-то стороны он был более чем великодушен. Несомненно, им лучше доказать свою преданность другому полководцу. Который больше ими дорожит...
И так далее. Вы поняли суть. А вот что сделал Антоний. Проклиная собственную глупость, что дал Октавиану доступ к своим войскам, он прежде всего поспешил в Бриндизи, наспех назначил нескольких военачальников и приготовился, пока не стряслось чего-нибудь похуже, вести армию на север, демонстрируя силу. Октавиан как раз и рассчитывал, что именно это он и сделает. Мишенью был брат Брута Децим, который занял город Модену[149]149
Модена — современное название. В древности – Мутина. Город в Цизальпинской Галлии. Со 183 года до н.э. римская колония. Из-за благоприятного в стратегическом отношении положения Мутина часто оказывалась в центре боевых действий; в 43 году до н.э. здесь укрепился Брут, против которого двинулся со своим войском Антоний.
[Закрыть].
Затем Октавиан приступил ко второй части своего плана. «А вот и я, – заявил он Сенату. – К вашим услугам». Теперь он уже не заикался ни об отмщении Цезаря, ни о греховности братания с его убийцами, среди которых был Децим Брут. Чувство сыновнего долга у Октавиана было очень гибким, если вообще было.
Сенат не имел выбора. Решив, что раз кризис миновал и с Модены снята осада, то от молодого Октавиана можно отделаться или прихлопнуть, как надоедливую осу, и они поручили ему совместное командование вместе с новоизбранными консулами Гирцием и Пансой.
Я не собираюсь описывать Моденскую кампанию, беспорядочную и грязную, которая стоила государству обоих его консулов, – Гирций был убит сразу, а Панса[150]150
Гирций, Авл – легат Цезаря в Галльской войне, друг Цицерона, консул 43 года до н.э. Погиб в сражении при Мутине (против Антония). Панса — друг и сторонник Цезаря.
[Закрыть] умер от ран.
В апреле с города сняли осаду, и Антоний отступил на север. Поскольку опасность прошла, Сенат попытался избавиться от Октавиана...
Арабские кочевники рассказывают об одной чрезвычайно неприятной личности по прозвищу Морской Старик. Это чудовище в человеческом обличье поджидает у ручья путников и просит перенести его на другой берег. Но как только он сядет прохожему на плечи, так сразу же обхватывает ногами горло своей жертвы, так что тому приходится выбирать: либо быть задушенным, либо тащить непрошеного гостя, куда тот захочет. На самом деле этот выбор вовсе не выбор, потому что результат один – Старик не отпускает своего конягу, пока в нём остаётся хоть капля жизни.
В подобную беду Сенат попал с Октавианом. Чем больше они старались стряхнуть его, тем крепче тот цеплялся. Они приказали ему сложить с себя командование, он отказался. Распустили легионы сами – легионы взбунтовались. Отдали приказ вмешаться Лепиду, который управлял Галлией, – Лепид перешёл к Антонию, прихватив с собой семь своих легионов. Наконец в июле Октавиан сам перешёл в наступление. В здание Сената вступил отряд войсковых командиров и от его имени потребовал консульства. Когда один возмущённый сенатор спросил, что даёт право двадцатилетнему мальчишке занимать высший государственный пост[151]151
...мальчишке занимать высший государственный пост... — Минимальный возрастной ценз составлял для консула 43 года.
[Закрыть], вожак выхватил меч и приставил его к горлу сенатора.
– Вот это, – заявил он.
Это был неоспоримый аргумент. Девятнадцатого августа Октавиан стал консулом.
Во время церемонии вхождения в должность над Капитолием взмыли двенадцать грифов – тот же знак, который был дан Ромулу при основании Рима. Жрецы, конечно, объявили их предвестниками того, что новый консул окажется вторым Ромулом и что этот консулат ознаменует новую эру Рима. Может, они и были правы. Может быть, действительно это боги разговаривали с нами при помощи воздушных иероглифов. Но я лично сомневаюсь.
Можете считать меня циником, но любой стоящий птицелов в состоянии устроить такое чудо. От этих грифов сильно попахивало Октавианом.
36
Прежде чем идти дальше, я, пожалуй, немного остановлюсь на Антонии.
Для меня это очень трудная часть рассказа. Поскольку события непосредственно коснулись меня, то проще всего было бы изобразить его портрет как бы глазами Октавиана: опасный и распутный пьяница, промотавший собственное состояние и способный продать Рим за поцелуй своей египетской шлюхи. С другой стороны, из-за своей антипатии к Октавиану я должен остерегаться броситься в другую крайность и представить его в радужном свете, как героя восточной легенды. Антоний не был ни героем, ни злодеем. Он был всего лишь человек, имеющий человеческие слабости, и погиб он, потому что не мог возвыситься над собой и падал всё ниже.
Когда я был маленький, у нас был сосед по имени Помптин. Помптин имел быка-призёра Аякса, бывшего предметом зависти всей округи. Можно было не сомневаться в том, что любая корова, которую он покрыл (а покрывал он каждую задравшую перед ним хвост), станет стельной с первой же попытки, и сыновья и дочери Аякса славились далеко за пределами Кремоны.
Помптин очень гордился Аяксом. Помню, отец грустно сказал, что тот обращался с быком лучше, чем с собственными детьми, кормил его зерном из своих рук, выхаживал его, когда бык болел, разговаривал с ним целыми часами, вместо того чтобы сплести ограду или заострить колья для частокола. Аякс, в свою очередь, тоже любил хозяина. Он ходил следом за Помптином, как собака, и даже позволял тому ездить на себе верхом (никто другой не осмелился бы этого сделать, потому что у Аякса был свирепый нрав и он не трогал одного только Помптина).
Как-то раз ранней весной Помптин пропал. Утром он сказал сыновьям, что ему нужно выкопать ров на границе поместья, но до вечера не вернулся. Когда стемнело, сыновья начали беспокоиться. Они подняли рабов, отправились на поиски и обнаружили Помптина лежащим у наполовину вырытой канавы. Он был жив, но сильно покалечен. Над ним стоял Аякс с окровавленными рогами, а вокруг разбросаны растерзанные трупы пяти волков.
Очнувшись, Помптин рассказал сыновьям, что случилось. Он копал ров, а Аякс, как обычно, пасся чуть поодаль. Вдруг Помптин поднял голову и увидел, что в его сторону идут волки: зима была суровая, и нехватка дичи заставила их поискать более лёгкой поживы на фермах у реки. Он бросил мотыгу и помчался прочь, но прежде чем успел добежать до спасительных деревьев, вся стая набросилась на него.
Дальше он помнил только то, что Аякс стоял над ним. Волки набрасывались снова и снова, но всё время перед ними возникали эти жуткие рога. Аякс расшвырял свору, как солому, поднимая их на рога, словно крестьянин, подбрасывающий вилами охапки сена. Перед тем как потерять сознание от боли и ран, Помптин увидел зверей с выпущенными кишками.
Но на этом история не закончилась. После случая с волками Помптин не знал, как угодить Аяксу. Если бы это было ему по карману, Аякс бы ел золочёное зерно из золотой кормушки и запивал его лучшими винами. Как бы то ни было, бык получил почётную отставку. Самое тяжёлое, что ему надевали на шею, был венок из цветов в Праздник Весны. Помптин купил у ближайшего соседа превосходную землю под пастбище, чтобы Аякс мог всё лето щипать самую сладкую травку.
В то время у Помптина был враг, мелкий фермер по имени Клувий, у которого он несколько лет назад выиграл земельную тяжбу. С тех пор Клувий искал случая отомстить, и покупка пастбища дала ему такую возможность. Тот участок был у реки, а за ним – естественно, отгороженная плетнём – находилась глубокая предательская трясина.
Однажды, зная, что Помптин отлучился, Клувий передвинул плетень. Затем он взял мешок зерна и, мало-помалу разбрасывая пригоршни зерна всё дальше и дальше в болото, заманил быка в топь, где он завяз и в конце концов утонул.
Вот вам, если угодно, история об Антонии и Октавиане. Достоинства Антония те же, что и у Аякса: он был храбр, благороден и целиком предан своему хозяину Цезарю, ради спасения или отмщения которого он с радостью отдал бы свою жизнь. Но потакание своим грубым потребностям привело его к гибели: Октавиан, подобно Клувию, имел обыкновение заводить врага всё дальше и дальше в грязь, а сам при этом стоял на берегу и смотрел, как тот барахтается в ней и тонет.
Как гражданин Рима, я понимал, что Антоний сам привёл себя к краху и что его смерть – благо для Рима. Но по-человечески мне жаль его, как было жалко быка. В конечном счёте он был гораздо лучше своего противника, а мотивы, которые двигали Октавианом, ничуть не благороднее, чем у Клувия.
37
В конце ноября того года я по делам Сирона поехал в Рим. И, как обычно, решил остановиться у Прокула, в доме на Эсквилине, который оставался моим вторым домом даже после смерти Валерии.
До нас в Неаполе, конечно, доходили вести о последних политических событиях. Несколько недель назад Октавиан отправился на север и встретился в Болонье с Антонием и Лепидом[152]152
Октавиан... встретился в Болонье с Антонием и Лепидом, — 27 ноября 43 года до н.э. в Болонье был заключён второй триумвират между Антонием, Лепидом и Октавианом для совместной борьбы против Брута и Кассия, а также с сенаторской
аристократией. Лепид, Марк Эмилий (ок. 90—12 до н.э.) – приверженец Цезаря. Будучи претором, добился в 49 году до н.э. предоставления Цезарю диктаторских полномочий. В 48—47 годах до н.э. наместник Ближней Испании, в 46-м – консул вместе с Цезарем. После его убийства примкнул к Антонию, который добился провозглашения его великим понтификом (главным римским священнослужителем). После установления единоличной власти Октавиана не играл никакой роли в политической жизни.
[Закрыть]. Теперь, по слухам, они ведут войска на юг.
Когда я доехал до Альбы, движение на Аппиевой дороге пошло непрерывным потоком: повозки, по большей части доверху нагруженные корзинами, дорогие экипажи, запряжённые породистыми лошадьми, даже иногда попадались носилки. По всем признакам, многие горожане, кто побогаче, почуяли, откуда ветер дует, и решили податься на юг, где поспокойнее. Прямо за Капенскими воротами[153]153
Капенские ворота в южной части Рима между холмами Авентином и Целием. Через них на Капую шла Аппиева дорога. Капена – город в Этрурии на реке Тибр, к югу от Рима.
[Закрыть], при въезде в город, опрокинулась, перегородив движение, перегруженная повозка. Пока вспотевшие рабы пытались освободить её от поклажи, задние возницы ругались и кричали. Рядом в полном пренебрежении валялось то, что я поначалу принял за перебинтованный труп, на него никто не обращал внимания. Вспомнив свой первый приезд в Рим десять лет назад, я содрогнулся и сделал знак от дурной приметы, но тело оказалось просто бронзовой статуей, вывалившейся из одной из поломанных корзин.
Когда я наконец добрался до дома Прокула, было уже поздно. Дом был погружен в темноту, что показалось мне странным, потому что обычно на стене всю ночь горел факел. Попросив носильщика подождать, я подошёл к двери и постучал. Долго никто не отзывался. Я уже было решил, что Прокул тоже уехал, и думал, что же делать дальше, как вдруг за дверью послышался голос: «Кто там?»
Голос принадлежал Гелену, надсмотрщику над рабами Прокула. Он показался мне каким-то испуганным.
– Гелен! Это я, Вергилий, – закричал я. – Ну, давай же, старина, открывай! Не пропадать же мне тут.
Дверь отворилась.
– Вергилий! – У Гелена вытянулось лицо. – Мы не ждали вас, господин!
Он держал дверь открытой – но, я обратил внимание, не очень широко. Я отпустил носильщика и вошёл. Гелен закрыл за мной дверь и запер её на засов.
– Хозяин в кабинете, – сказал он. – Проходите прямо туда.
– Как поживаешь, Гелен?
Он страдальчески улыбнулся. Лицо его было серым.
– О, у меня всё в порядке, господин, – ответил он и хотел что-то добавить, но через зал уже шёл Прокул.
– Вергилий! Добро пожаловать, мой мальчик!
Он изменился к лучшему с нашей последней встречи. В глазах появился блеск, и спина выпрямилась, словно он помолодел на несколько лет, но лицо было печальным.
– Вы хорошо выглядите, сударь, – сказал я, пожимая ему руку.
– Не лучше, чем ты. – Он улыбался, положив вытянутые руки мне на плечи. – Рад, что ты вернулся. Как доехал?
– Терпимо, – ответил я. – Как Луций?
Луций, если вы помните, был его сын. Ему шёл уже двенадцатый год.
– Слава богу, хорошо. – Прокул сделал знак Гелену принести вина. – Я послал его к своему двоюродному брату на Родос, подальше от неприятностей. Ну входи же, садись. Ты, наверно, устал.
– Да не особенно, – сказал я. – А что за неприятности?
– Я всё забываю, – заметил он, – что вы не интересуетесь тем, что творится вокруг.
Я улыбнулся.
– Не так уж это нас и не касается. Но вы не ответили на мой вопрос.
Мы улеглись на ложа. Появился Гелен с подносом, на котором стояло вино и блюдо с фруктами. Когда он поднял кувшин, чтобы налить нам вина, рука его дрогнула. Вино перелилось через край кубка и растеклось по столу.
– Простите, господин, – проговорил Гелен. Понурив голову, он промокал салфеткой расплескавшуюся жидкость.
Прокул взял кувшин и налил вина сам.
– Гелен, принеси гостю простой воды, – произнёс он. – Ты разве забыл?
Гелен выпрямился. На мгновение его губы шевельнулись, как будто он собирался что-то сказать. Затем он повернулся и вышел из комнаты. Я вопросительно смотрел на Прокула, но, казалось, он не замечал ничего необычного.
– Ты знаешь, что они дошли до Рима? – спросил он. Мне не нужно было спрашивать, кого он имел в виду.
– Нет. Когда?
– Два дня назад. Сенат утвердил их договор в Болонье. Испания и Старая Галлия отойдут Лепиду. Африка, Сицилия и Сардиния – Октавиану. – Прокул аккуратно разрезал яблоко. – Италия и остальная Галлия достались Антонию.
– Этого и следовало ожидать, – ответил я.
Вновь вошёл Гелен и поставил передо мной кувшин воды. Лицо его было неподвижно и ничего не выражало.
Прокул нахмурился.
– Они в конце концов перессорятся, – сказал он, – словно жадные дети. Каждый захочет забрать себе всё. А когда начнётся свара, мы тут как тут – подбирать обломки.
Моя рука повисла над кувшином.
– Мы?
По его лицу скользнуло выражение, которое я не могу определить.
– Наверно, мне не следовало говорить «мы». Я имею в виду то, что Цицерон зовёт Надёжной Основой. Законную власть и тех, кто её поддерживает.
Я почувствовал некоторое беспокойство.
– Но ведь Октавиан, – сказал я, – и есть законная власть. Хотите вы этого или не хотите, но он всё-таки консул.
– Уже нет. Он отказался в пользу Басса.
Я молча уставился на Прокула. Он кивнул.
– Да, это так. Он, Антоний и Лепид теперь имеют чрезвычайные полномочия для восстановления государства. Они даны им на пять лет. – Прокул отхлебнул вина. – Неплохой срок для консульства, тебе не кажется?
– Разве это законно?
– А ты думаешь, это имеет какое-нибудь значение? – Прокул поставил свой кубок. – В любом случае Сенат утвердил. Но у Сената не было выбора, они же знают, у кого настоящая власть. На данный момент.
– Только на данный момент?
– Не забывай о востоке.
– Брут и Кассий? – Голос выдал моё презрение к ним.
Прокул пристально поглядел на меня, и я почувствовал, что краснею.
– Мы же не дураки, Вергилий, – наконец ответил он. – Брут покинул Италию, чтобы избежать гражданской войны, а не из-за трусости и не из-за того, что его не поддержали. Последние пятнадцать месяцев он собирает людей и деньги на севере Греции. А у Кассия больше дюжины легионов в Сирии.
– Думаете, они что-нибудь стоят против галльских ветеранов Цезаря?
Гелен, стоявший у стены за правым плечом своего господина, слегка шевельнулся. Он был недоволен мной.
– Может, и нет, силы равны, – ответил Прокул. – Но время работает на Брута и Кассия. Антоний со товарищи рано или поздно передерутся, и тогда им придёт конец. А тем временем у молодого Секста Помпея стало достаточно кораблей, чтобы отбить охоту вступать с ним в морское сражение. А блокада Италии[154]154
Блокада Италии, — После смерти Цезаря Секст Помпей стал главнокомандующим флота, с помощью которого он занял значительную часть Испании и Сицилию. Когда триумвиры (Антоний, Октавиан и Лепид) объявили его врагом отечества, он, владея сицилийскими гаванями, стал захватывать, корабли, везущие в Италию хлеб.
[Закрыть] в сочетании с проводимой Антонием реквизицией земель может вызвать волнения, которых будет довольно, чтобы нарушить равновесие.
– Какая реквизиция земель?
Прокул замолчал.
– Ты ничего не слышал? – спросил он и добавил: – Нет, конечно же не слышал. Антоний реквизирует землю в восемнадцати самых богатых городах, чтобы расплатиться с войсками. Он...
– В каких? – Я уже почти что знал ответ. В горле у меня пересохло.
– Беневент. Капуя, – неохотно стал перечислять Прокул. – На севере Кремона...
– А Мантуя?
Он кивнул.
– Мантуя тоже, – произнёс он. – У твоего отца до сих пор там поместье?
Я не успел ответить, наш разговор прервал громкий стук во входную дверь. Гелен окаменел. Стук повторился, на этот раз ещё громче, как будто кто-то колотил по ней молотком или рукояткой меча.
– Посмотри, кто это, Гелен, – сказал Прокул.
Гелен не двинулся с места.
– Гелен. – Прокул говорил на удивление мягко. – Делай, что тебе положено. Открой, пожалуйста, дверь.
Я в изумлении переводил взгляд с одного на другого. Гелен от рождения был рабом Прокула, но я никогда раньше не видел, чтобы он так свободно себя вёл. А Прокул, хотя и обращался с рабами очень уважительно, не терпел непослушания.
Гелен всё ещё стоял, словно мраморная статуя, позади ложа своего господина. Прокул встал.
– Ладно. Тогда я сам это сделаю. Извини, Вергилий.
Он поднялся и вышел из комнаты. Я слышал звук отодвигаемого засова, стук двери и неясные голоса.
– Что происходит? – спросил я Гелена... и вдруг понял, что слуга плачет. Он стоял неподвижно и прямо, а слёзы прокладывали русла по затвердевшим щекам.
Захлопнулась входная дверь. В зале залязгал металл и загремели голоса. Прокул что-то сказал в ответ и через мгновение вновь оказался с нами. Он не взглянул на Гелена.
– Прости, – обратился он ко мне. – Я думал, что смогу тебя избавить от этого.
– Кто это? Кто там, в зале?
– Пять солдат и офицер, Марк Вибий. Я знал его, когда он был ещё ребёнком. Потому, – его рот дёрнулся, – и получил эту маленькую поблажку.
– Ничего не понимаю.
– Сегодня утром на Рыночной площади вывесили список... врагов отечества. По приказу Антония и Октавиана. Там есть и моё имя.
– Вас пришли арестовывать? – Я не мог в это поверить.
– Не совсем, – спокойно ответил Прокул.
– Господин, вам надо бежать, – не выдержал Гелен. – У вас есть ещё время. Вы ещё успеете.
– Куда мне бежать? – проговорил Прокул.
– Они убьют его, – повернулся ко мне Гелен. – Тот список, что вывесили, это список смертников. Скажите ему, чтобы он бежал.
– Вергилий ничего подобного мне не скажет, – резко возразил Прокул. – Он такой же хороший эпикуреец, как и хороший друг. Он знает, что смерть не имеет значения. Особенно для меня. – Прокул взял мою руку и крепко пожал её. – Прощай, мой мальчик. Напомни обо мне своему отцу, когда следующий раз увидишься с ним.
Я почувствовал, что на меня внезапно обрушилось несчастье. Мозг совершенно отказывался работать. Уставившись в стол, я лишь твердил про себя: «Они могли бы, по крайней мере, дать ему время допить вино».
Прокул обернулся к Гелену.
– Вибий любезно разрешил мне это сделать самому, – сказал он. – Проследи, чтобы ему и его людям предложили прохладительные напитки, пока они будут ждать. Распоряжения по поводу погребения в верхнем левом ящике бюро. Моё завещание в подобных обстоятельствах, конечно, излишне, но ты найдёшь его там же. Спасибо тебе за многолетнюю службу.
И это всё. Он кивнул – один раз мне, один раз Гелену. И вышел. Открылась и закрылась дверь в его кабинет.
Я видел его тело, когда всё было кончено. Он не перерезал себе вены, как я ожидал, а закололся. Собирался ли он таким образом избавить и себя и нас от разрушительного действия медленной смерти или просто хотел избежать ненужной грязи – не знаю. Подозреваю, что скорее второе: Прокул всегда был утончённой натурой. Пока кинжал торчал в ране и Гелен не вынул его, крови, несомненно, было очень мало.








