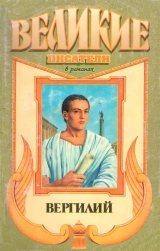
Текст книги "Я, Вергилий"
Автор книги: Дэвид Вишарт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
38
Смерть Прокула была цивилизованной по сравнению с начавшейся вслед за этим кровавой бойней.
Представьте себе лису, которая забралась в битком набитый курятник. Она убивает всех подряд, хватая одного за другим цыплят, мечущихся в панике, сворачивая им шеи, разрывая их в клочья, отбрасывая в сторону искромсанные тела. Она носится по курятнику, взметая вокруг себя тучи перьев, а пыль под её лапами сбилась в размокшую красную кашу.
Вот что было в Риме во время «восстановления», затеянного триумвирами. За десять дней погибло триста сенаторов и две тысячи всадников; Антоний и Октавиан уничтожили их либо за политическую деятельность, либо, чаще всего, просто ради их богатства. Остальные, кому повезло больше, бежали на побережье к Сексту Помпею, который, будучи сам приговорён к смерти, принимал меры, чтобы всех собрать и отправить на Сицилию. Цицерон, злейший противник Антония, не был из их числа. Когда начались проскрипции[155]155
Проскрипции – особые списки, на основании которых лица, попавшие в них, объявлялись вне закона. Всякий, кто убивал или выдавал этих людей, получал награду. Имущество их подлежало конфискации, а рабы становились свободными. Имущество осуждённых продавалось с аукциона.
[Закрыть], он был на своей вилле близ Формий[156]156
[Закрыть]. Он сделал нерешительную попытку присоединиться к Помпею, но его перехватили и убили. Ему отрубили голову и руки, и Антоний прибил их на Рыночной площади к трибуне, где он выступал, чтобы толпа могла на них поглазеть.
Я не ходил смотреть на них. Я уехал из Рима на следующий день после смерти Прокула и помчался в Мантую. Меня очень беспокоило то, что сказал Прокул о конфискациях, и я сильно тревожился об отце. Это было нелёгкое путешествие. У городских ворот установили патрули для поимки беглецов, а на дорогах за городом было полно солдат, горевших желанием увеличить своё армейское жалованье за счёт вымогательств. Но всё равно путь на север был в сто раз безопаснее, чем дорога на Капую. Ни один беглец в здравом рассудке не отправился бы на север, где стояли основные войска триумвиров.
Я ехал верхом на лошади в сопровождении двух рабов, и это путешествие заняло восемь дней. Даже и без этих дополнительных опасностей оно было в высшей степени неприятным. Погода, которая и в Риме была плохая, по мере продвижения к северу портилась ещё больше. Резкий холодный ветер вышибал слёзы из глаз, оставляя нас полуслепыми, замедлял лошадиный аллюр, так что временами им приходилось переходить на шаг. Многие постоялые дворы закрыли, боясь солдат; открытыми остались лишь грязные развалюшки самого худшего сорта. Все семь ночей я спал, завернувшись в свой плащ, но всё время просыпался весь расчёсанный.
Я не узнал отца, и он меня тоже.
Дверь он открыл сам. Поначалу я принял его за одного из наших рабов, и притом не из домашних. Он весь осыпался, как комок сухой земли; кожа, дряблая, грязно-коричневая и высохшая, свисала сухими складками. Когда он вытянул руку, похожую на когтистую лапу, чтобы коснуться моей груди, и я заглянул ему в глаза, я понял, что он почти слепой.
– Это я, папа, – сказал я. – Публий.
Он поднял брови.
– Публий? Какой Публий?
– Твой сын. Я приехал из Рима.
Он посторонился, чтобы дать мне войти. Я сразу же узнал дом, хотя это был не тот, где я жил в детстве: он был построен по тому же плану. Я было взял отца за руку, чтобы отвести в комнату, но он оттолкнул меня.
– Я достаточно хорошо вижу, – сказал он. – Мне не нужна твоя помощь.
В доме было грязно и воняло. Остатки пищи – чёрствый хлеб, гнилые яблоки, рассыпанные варёные бобы – валялись разбросанные по полу. Стол был завален грязной посудой, часть из которой была разбита. Я, оглядываясь, стоял посреди комнаты.
– А где рабы? – спросил я.
– Разбежались. – Отец стоял рядом со мной. Я почуял его кисло-сладкий запах, такой же, как в комнате, но с примесью мочи. Его туника была такая грязная, что я не мог определить, какого она цвета.
– А Гай? Мой брат Гай?
– Умер два месяца назад, – ответил он.
Я подошёл к столу и механически принялся складывать тарелки в стопку.
– Ты не говорил мне об этом. Не писал, – проговорил я.
– А почему я должен был писать тебе об этом?
Я зажмурился, чувствуя, как внутри поднимается горечь.
– Я твой сын.
– В самом деле? – бросил он. – У меня было два сына. Оба они умерли – и Марк и Гай. У меня было поместье. Теперь всё пошло прахом.
Значит, я не ошибся. Поместье конфисковали.
– Поговорим об этом потом, – устало сказал я. – Давай прежде всего уберём здесь.
Я вышел на улицу и вызвал своих рабов из конюшни, куда они отправились спать вместе с лошадьми.
– Он пришёл пять дней назад, – произнёс отец. – Бритый черноволосый ублюдок с письмом, которое я не смог прочитать. Сказал, что у него приказ от Цезаря.
Ну конечно, он должен был взять имя Цезаря. Лишь только прибыв в Рим, он узаконил своё усыновление. Теперь он официально был Гаем Юлием Цезарем. Только враги продолжали звать его Октавианом.
Наконец в комнате стало чисто и аккуратно, и рабы зажгли две жаровни с древесным углем, чтобы разогнать декабрьский холод. Отец умылся и переменил тунику. Он сел напротив меня, прихлёбывая вино, которое я подогрел и смешал с ячменным отваром и мёдом. Было почти уютно. Домашняя сцена, изображающая любящего отца и почтительного сына.
– Я сказал ему, что он лжец. – Старик улыбнулся, и я заметил, что зубы у него чёрные и поломанные. – Цезарь бы никогда не отдал такого приказа. Мы его поддерживали. Он бы никогда не выкинул нас с нашей земли, не отобрал бы имения. К тому же он мёртв. Убит этими ублюдками сенаторами в Риме.
Я объяснил ему, в чём дело. По крайней мере, попытался объяснить.
– Он упоминал какие-нибудь другие имена? Я имею в виду, посыльный.
– Называл какого-то Поллиона. И Корнелия Галла.
Я снова сел. Ну конечно. По логике, он должен был выбрать своим представителем Поллиона. Тот командовал испанскими легионами, которые составили часть войск триумвиров, и был испытанным администратором. Но Галл? Неужели он так быстро вырос во мнении Октавиана?
– Ты уверен?
– Со слухом у меня всё в порядке, парень.
Похоже, что всё не так безнадёжно. Если на севере земельными реквизициями занимались Поллион и Галл, то они, по крайней мере, беспристрастно выслушают меня.
– Где они сейчас? В Кремоне?
– В Милане. – Он уловил волнение в моём голосе. – Ты их знаешь?
– Очень хорошо. Поллион заказал мне несколько стихотворений.
– Правда? – угрюмо произнёс отец. – Значит, ты всё-таки чего-то стоишь. Любопытный сюрприз.
Это была не то чтобы похвала, но всё же лучше, чем ничего. Нищий должен быть благодарен за то, что ему подают.
На следующий день я отправился в Милан, один, потому что почёл за лучшее рабов оставить с отцом. Поллион несколько дней назад уехал в Рим – я был несколько раздосадован, поняв, что мы разминулись с ним в дороге, – но Галл был на месте – во дворце правителя провинции. Когда я вошёл, он диктовал письмо секретарю-греку. Он поднял глаза и уставился на меня как на привидение, потом подошёл и тепло обнял.
– Вергилий! Какими судьбами?
Я поведал, в чём дело, и он помрачнел.
– Я могу не так уж много, – сказал он. – Документы подписаны, и право собственности передано другому лицу. Но оставь их у меня, я попробую чего-нибудь добиться, даже если придётся обратиться к самому Цезарю.
– Лучше не надо, – проговорил я.
– Почему? – Он отпустил секретаря и уселся на край стола.
Мне стало неуютно. Я несколько лет не видел Галла. Внешне он почти не изменился, если не считать того, что раздался в плечах и пополнел. Но теперь он работал на Октавиана, и я не знал, как он с этой точки зрения оценит нашу прежнюю дружбу.
– Хотя бы потому, что я бы предпочёл не быть обязанным.
– Ерунда! – улыбнулся Галл. – Он не людоед. И будет рад быть полезным, я уверен.
– Я видел образцы этой полезности в Риме, – не удержавшись, выпалил я. – Я уехал оттуда, потому что больше не смог бы переварить.
Его улыбка погасла.
– Это было необходимо. Сейчас необходимо. Не может быть половинчатых мер, Вергилий. Он только делает то, что должен. Ради мира.
– На кладбище всё очень мирно. Потому что там одни покойники. – Я знал, что говорю, как в мелодраме, и, скорее всего, это глупо – даже наверняка глупо, но не мог остановиться.
– Послушай! – Галл до боли сжал мою руку. – Нельзя сделать омлет, не разбив яиц. Это необходимо, Публий. Цезарь – Юлий Цезарь – пытался обойтись полумерами, но добился только того, что его убили. Его сын не может себе позволить повторить эту ошибку. Ему есть что терять.
– Он убил Прокула. Какая была «необходимость» разбивать именно это яйцо?
– Прокул? – прошептал он. – Прокул мёртв?
– Покончил жизнь самоубийством десять дней назад. По приказу твоего хозяина.
Галл покачал головой.
– Это не Цезаря приказы. Не его. Наверно, Антония.
Я устало пожал плечами и отвернулся.
– Какая разница? Всё равно его уже нет в живых. Кто бы ни отдал приказ.
Галл надолго замолчал. Потом тихо произнёс:
– Мне очень жаль, Публий. Мне действительно очень жаль. Но это ничего не меняет. Октавиан – вернее Цезарь...
– Почему нельзя называть его Октавианом?
– Цезарь, – он сделал ударение на этом слове, – делает всё, что от него зависит. Если мы хотим спасти государство, строгие меры необходимы. Это всё равно что отрубить больную руку.
– Но, может быть, у нас есть какой-то другой путь?
– У нас нет времени. – Галл хлопнул рукой по столу. – Ты должен это понять! Антоний и Цезарь не могут себе позволить игнорировать жизнеспособную оппозицию. И действовать, не имея людей и денег, тоже не могут. Это ужасно, я знаю, но так должно быть. Публий, это необходимо!
– Если я ещё раз услышу это слово, меня вырвет.
Галл вспыхнул.
– Ну, хорошо, – сказал он. – Я не хочу спорить. Во всяком случае, не сейчас, когда мы увиделись после стольких лет. Я знаю, что прав, и надеюсь, что и ты со временем это поймёшь. Но давай сейчас оставим этот разговор. Пожалуйста.
Я глубоко вздохнул и постарался успокоиться. Галл прав. Он был моим лучшим другом, мы так давно не виделись, а я не нашёл ничего лучшего, как кричать на него.
– Ладно, – проговорил я.
– Как продвигаются стихи?
Я улыбнулся.
– Медленно, как всегда.
– Поллион говорит, что ты работаешь над переделкой Феокрита.
– Да, верно. – Сзади меня стоял стул секретаря. Я присел. – Два стихотворения закончил, а несколько других на стадии замысла. Но это долгое дело.
Он плеснул себе немного вина и протянул мне кувшин, как бы спрашивая, не налить ли и мне. Я покачал головой.
– А как ты решил к этому подойти? Я о твоей обработке.
– Я думал придать стихам италийский колорит. Но без определённых ссылок. Просто общее настроение.
Галл принялся катать между ладонями кубок, насупившись, как он всегда делал раньше, когда собирался сказать что-то, что могло бы меня огорчить или смутить. В конце концов он отрывисто проговорил:
– А ты не думал о том, чтобы ввести элементы политики?
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, что-нибудь из того, что мы обсуждали с Поллионом. Это будет интересное смешение жанров, нечто совершенно новое, абсолютно римское. Трактовка спорных политических и социальных вопросов на фоне сельской идиллии.
– О каких политических и социальных спорных вопросах ты говоришь? – саркастически спросил я. Я видел, куда он клонит.
– Ну, это, естественно, тебе решать. – Галл слегка откинулся назад. – Но такие стихи – по-настоящему хорошие стихи – были бы полезны.
– Полезны для кого?
Галл отвёл глаза.
– Это могло бы помочь снять двусмысленность ситуации, – ответил он, – расчистить путь силам порядка. Объяснить так, как это могут только образованные классы, чтобы всё стало немножко понятнее.
– Короче говоря, ты хочешь сделать из меня придворного поэта? Облагораживать всё, что делает Октавиан, бессмертными стихами?
Это было слишком прямолинейно.
Галл снова вспыхнул.
– Совсем нет, – сказал он. – Мы бы не стали просить тебя идти против своих принципов.
– Очень рад, – ответил я, – потому что ответил бы «нет».
– Я не имел в виду... – начал было Галл, но я перебил его.
– Я не пишу для мишурных военачальников, которые убивают уважаемых мною людей.
Галл примирительно поднял руки ладонями наружу.
– Пожалуйста, Публий, – сказал он. – Это не имеет никакого отношения к Цезарю. Лично к нему. Подумай. И постарайся быть объективным. А я пока посмотрю, что можно сделать с поместьем твоего отца.
Он встал.
Я тоже встал.
– Ты ведь не пытаешься принудить меня к этому, нет, Гай? – спросил я.
Я, кажется, обидел его, по-настоящему обидел.
– Нет. Никогда, – тихо ответил он. – Клянусь, что нет. Не думай так, Публий. Мы друзья, и я сделаю для тебя всё, что от меня зависит, что бы ни случилось. Но у меня, как и у тебя, есть свои убеждения. Я искренне тебе это посоветовал, как поэт поэту. Просто будь объективен. Пожалуйста.
– Ну, хорошо, – слегка замявшись, сказал я. – Даю слово.
С этим я и ушёл.
39
Вернувшись в поместье, я увидел лошадь, привязанную к кормушке у конюшни. Это была армейская лошадь – о чём свидетельствовало тавро на крупе, – но не настолько хорошая, чтобы принадлежать офицеру. Я кликнул рабов, но не получил ответа.
Дверь в доме была открыта. Я прошёл через кухню в комнату – и чуть не наскочил на острие меча.
Державший его был в военной форме – легионер, примерно того же возраста, что и отец, но только более коренастый и мускулистый. Позади него я заметил отца и двух рабов, стоявших у стен. Один из них прижимал к руке пропитанную кровью тряпку.
– Ты, что ли, будешь сын? – обратился ко мне солдат. Говор у него был нездешний. Я предположил, что он южанин, возможно кампанец.
Мне стало нехорошо.
– Да, правильно, – ответил я. – А ты кто?
Теперь меч упёрся мне в горло.
– Звать меня Флавиан.
– Что ты хочешь? Денег? – Какой-то дезертир, подумал я, хотя солдаты и не дезертируют из победоносных войск. Наверно, у него были неприятности другого рода.
Он ухмыльнулся и сплюнул.
– Подавись ты своими деньгами. Я хочу, чтобы вы убрались с моей земли.
– С твоей земли? – Я был до того удивлён, что в самом деле рассмеялся – довольно опасная штука, когда к горлу приставлен меч. Острие кольнуло под подбородком, и я замер.
– Вот именно. – Он глянул на меня сузившимися глазами. Затем, очевидно решив, что я не представляю для него никакой угрозы, опустил меч и отступил. – Это моё поместье. И я хочу, чтобы вы убрались отсюда.
Колени у меня задрожали. Но что бы ни случилось, я не должен показать, что испугался. Я прислонился спиной к стене.
– Ты в порядке, отец? – спросил я.
– Этот ублюдок ворвался в дом, – возмущённо сообщил отец. Я позавидовал его мужеству. – Вот Тит, – он показал на раненого раба, – пытался остановить его, но тот его порезал.
– Он сам налетел на мой меч, – сказал Флавиан.
– Врёшь. Это ты на него напал. – Я заставил себя говорить твёрдо: ораторское образование кое-чего стоит. – Этот раб не имеет отношения к поместью. Он мой. И если ты надолго вывел его из строя, то ты за это ответишь.
Солдат заморгал. Я решил закрепить преимущество, подпустив властные нотки.
– Из какого ты легиона?
– Легион Алаудов[157]157
Легион Алаудов, — В период Римской республики легионы имели номера, в дальнейшем они стали именоваться по названию провинции, откуда родом были легионеры, или по каким-либо внешним признакам. Легион Алаудов получил своё название, потому что его солдаты носили на шлемах султаны из перьев, за что их прозвали «жаворонками» (по-латыни alauda – жаворонок). Это был особый галльский легион, сформированный на собственный счёт Цезаря.
[Закрыть]. Вторая когорта.
– Центурион[158]158
Центурион — командующей центурией (centuria – сотня), выбиравшийся из опытных солдат или назначавшийся полководцем. Звание центурион соответствует примерно капитану, но по социальному положению центурион принадлежал к солдатам.
[Закрыть]?
– Децим.
– Корнелия Галла знаешь?
Солдат слегка побледнел. Я понял, что он начинает по-новому оценивать своё положение.
– Да, господин, – ответил он.
– Убери свой меч. – Он поспешно повиновался, и это приободрило меня. – Я только что вернулся из Милана. У меня был разговор с моим другом Галлом, – я напирал на слово друг, — и похоже, что произошла ошибка. Он согласен со мной, что тут надо разобраться.
– О, здесь нет никакой ошибки. – Флавиан порылся в тунике и достал засаленный, измятый клочок пергамента. Он протянул его мне со странной гордостью. – Посмотрите сами.
Я взял пергамент и прочёл то, что там было написано. Он был совершенно прав. Это был законный акт передачи, по которому собственность переходила к нему, безотлагательно вступающий в силу.
– Он датирован послезавтрашним днём, – солгал я, отдавая пергамент назад.
Он нахмурил брови и стал всматриваться в неразборчиво написанный документ – как я надеялся, без результата.
– Мне сказали, что сегодняшним, – проговорил он.
– Нет, здесь этого не сказано. У нас есть два дня отсрочки. – Я посторонился от двери. – Предлагаю тебе покинуть сейчас дом и вернуться в положенный срок. Конечно, если к тому времени ошибка не будет исправлена, а я очень надеюсь, что так оно и будет.
Проходя мимо, он робко взглянул на меня, и я почувствовал чуть ли не жалость к нему. В конце концов, он-то не виноват, что у отца отнимают собственность, а для него поместье означало обеспеченную старость. Если он его потеряет, то нет никакой гарантии, что получит другое.
– Хорошо, господин, – сказал он. – Извините, что побеспокоил.
Я промолчал и вышел вслед за ним. Проследив, что он сел на лошадь и уехал, я вернулся к отцу.
– Молодец, мой мальчик! – Отец улыбнулся, показав свои редкие зубы. – Здорово отделался от него!
Я присел на скамью. Помимо воли меня трясло, и я был не в состоянии оценить непривычную похвалу.
– Это только до тех пор, пока он не обнаружит, что я его обманул, – ответил я.
Старик нахмурился.
– Что ты имеешь в виду?
– Он просто не умеет читать, вот и всё. Бедный неуч, чёрт бы его побрал.
– Так ты говоришь, что он может вытурить меня? Прямо так вот?
– Именно.
– Да я скорей умру, – заявил отец. – Или убью ублюдка своими собственными руками, если он сделает хоть шаг по моей земле.
– Бесполезно, – устало проговорил я. – Закон на его стороне. Ты же не можешь бороться со всей римской армией.
Он посмотрел на меня глазами, горящими презрением.
– Ты трус, – медленно произнёс он. – Намочил штаны от страха.
Я слишком утомился, чтобы спорить.
– Я говорю, что так вполне может случиться, – ответил я. – Но, по крайней мере, я вырвал для нас лишний денёк. Рабы помогут тебе уложить вещи. Я договорюсь, из Мантуи пришлют повозку. Ты можешь вернуться домой со мной вместе.
Думаю, что мой тон удивил его, а может быть, даже пристыдил немного, потому что, несмотря на свою резкость, он всё-таки был справедливый человек. Он долго сидел понурившись. Затем безразлично произнёс:
– Прости, Публий. Ты сделал всё, что мог. Ты не виноват.
– Я виделся с Галлом. Он хочет нам помочь, но на это может понадобиться время.
Отец не шевельнулся. Его почти незрячие глаза уставились в пол под ногами.
– Это поместье – вся моя жизнь, – сказал он. – Ты ведь понимаешь? Если его отнимут, это убьёт меня. Я останусь как вырванное с корнем растение.
– Я знаю, отец, – промолвил я. – Знаю.
На следующий день мы выехали в Неаполь. Отец уселся позади возницы, сгорбившись, словно нахохленная ворона, и даже не оглянулся.
40
Решительные приготовления к войне начались с наступлением нового года – не раньше; Прокул оказался прав относительно перемены общественного мнения. Ужас, который навели проскрипции, оставил глубокую рану, и она затягивалась медленно; а тем временем к несправедливости земельных реквизиций триумвиры добавили ещё одну обиду – налог на собственность, чтобы покрыть всевозрастающие издержки на проведение кампании.
У Антония и Октавиана было двадцать восемь легионов против девятнадцати, имеющихся у республиканцев. Восемь они послали вперёд на север Греции, где обосновались Брут и Кассий. Оставшиеся пересекли Адриатическое море в течение лета. Прокул думал, что флот Помпея изрядно потреплет их, но Помпей был слишком занят укреплением собственных позиций в Сицилии, чтобы думать о благополучии союзников.
Поначалу Октавиан не принимал участия в походе: «сын божественного Юлия» (в начале года Цезарь был официально провозглашён богом) лежал в Диррахии[159]159
Диррахий — приморский город в Иллирии на Адриатическом море.
[Закрыть], корчась от колики. Антоний переправился с войсками и стал против республиканских армий. Октавиан присоединился к нему в сентябре, и две армии сшиблись при Филиппах.
Первое сражение у Филипп[160]160
Филиппы – город в Македонии. Здесь в 42 году до н.э. Октавиан и Антоний разбили войска Брута и Кассия.
[Закрыть] стало для республиканцев ошеломляющим бедствием. Брут и Кассий стояли лагерем рядом друг с другом к западу от города, блокируя Эгнатиеву дорогу. Южнее лежал болотистый участок, который должен был защитить лагерь от фланговой атаки и охранять пути сообщения. Пытаясь пробить в этом месте брешь, Антоний приступил к строительству гати, но на этот случай Брут и Кассий приготовили осадные укрепления. Антоний внезапно напал на эти укрепления, одновременно начав лобовую атаку на лагерь Кассия. И имел полный успех. Войска Кассия были наголову разбиты, а его лагерь разграблен. Не ведая о том, что Брут самостоятельно пошёл в атаку и фактически захватил лагерь Октавиана, Кассий решил, что битва проиграна. Как настоящий римлянин, он покончил с собой, отдав честь победы Антонию.
Антонию. Не Октавиану и Антонию, а Антонию. Октавиан, если слухи верны, прятался в это время где-то в болотах. Он явился только на следующий день, пешком, мокрый насквозь, весь облепленный тиной и без плаща. Когда Антоний спросил его, в чём дело, Октавиан только и мог ответить, что его врачу приснился сон, будто он (Октавиан) должен покинуть лагерь перед сражением. Где он находился всё это время? Октавиан так и не сказал.
Впоследствии Антоний как-то высмеял Октавиана за то, что он струсил, и пятно на репутации Октавиана осталось ещё надолго.
Октавиан, конечно, настоящий трус. Я знаю это по собственным наблюдениям: он, к примеру, панически боится грома и будет прятаться в подвале до тех пор, пока гроза не кончится. Но всё не так просто. С Октавианом всегда всё непросто.
Вспомните наши инстинктивные реакции. Если мы схватим руками что-нибудь слишком горячее – миску обжигающего супа, например, или раскалённое железо, – мы тут же это отбросим. Мы не рассуждаем: «Если я уроню миску, то суп разольётся» или «Если я брошу эту железку, то может начаться пожар». Никаких мыслей. Реакция непроизвольная.
У Октавиана всё по-другому. Между действием и реакцией он ухитряется вклинить мысль. Может, он и трус, но обладает способностью не дать трусости взять верх над собственными интересами. Возьмите, к примеру, его поведение во время испанской кампании или во втором сражении при Филиппах, когда он подхватил упавшее знамя и пронёс его сквозь пекло битвы. В этих условиях обстоятельства требовали, чтобы он показал мужество, и он его показал.
Я не сужу его, а лишь отмечаю факт. Возможно, он был по-настоящему храбр, победив собственный страх и подчинив его разуму. Не знаю. Но его поступки поражают хладнокровием и слишком хорошо согласуются с его расчётливой натурой. Его трусость до сражения при Филиппах меньше соответствовала его характеру, но зато свидетельствовала, что хотя бы в глубине души у него был проблеск человечности.
По смерти Кассия Бруту пришлось всю тяжесть борьбы взвалить на себя. От природы более осторожный, чем его товарищ, он ничего не предпринимал, в надежде, что приближающаяся зима сделает позиции врага непригодными для обороны: его флот угрожал снабжению неприятеля продовольствием, а Эгнатиева дорога[161]161
Эгнатиева дорога проложена римлянами вскоре после 146 года до н.э. от Диррахия до Фессалии.
[Закрыть] была единственным путём на юг. Но всё-таки дезертирство и давление собственных офицеров вынудило Брута к действиям. Двадцать третьего октября он пошёл в наступление. Республиканцы были разгромлены, и Брут, видя, что его дело погибло, лишил себя жизни.
Позвольте мне сразу сказать, что я разделял – и до сих пор разделяю – мнение о битве при Филиппах. Я не республиканец. Тот, кто всерьёз считает, что республиканское правительство принесло вред и продолжало бы причинять ущерб, если бы исход сражения был другим, – тот не может быть республиканцем. Чтобы финансировать кампанию, Брут и Кассий были совершенно беспощадны. Совместными усилиями они обескровили Азию. Когда один город, Ксанф[162]162
Ксанф — один из двух крупнейших городов Ликии – горной местности в юго-восточной части Малой Азии. В 43 году до н.э. Ликия стала римской провинцией.
[Закрыть], отказался платить, они осадили его. Чем сдаваться на сомнительную милость тираноубийц, жители Ксанфа подожгли свой город и совершили массовое самоубийство на Рыночной площади: мужчины, женщины, дети – все. По мне, так это достойно осуждения. Система управления, вызывающая подобную реакцию, – нравственно глубоко испорчена.
Свобода может расцвести на крови, но, как правило, это кровь невинных людей.
Мне больше импонирует Кассий, чем Брут. У Кассия, как и у Антония, была спасительная сила гнева – не могу найти более подходящего слова.
Он был истинно гомеровский герой, со всеми присущими герою лучшими качествами: храбростью, импульсивностью, великодушием и острым чувством чести. Естественно, он обладал и недостатками гомеровских героев: гордыней, опрометчивостью, неприкрытым эгоизмом и склонностью не столько к разумным, сколько к инстинктивным действиям. Можно восхищаться человеческими чертами Ахилла и Агамемнона[163]163
Агамемнон – мифический царь Микен. Когда Парис похитил Елену, жену своего брата Менелая, он встал в начавшейся по этой причине войне против Трои во главе греческого войска. Центральный образ гомеровской «Илиады».
[Закрыть], но вряд ли кто-нибудь захочет жить под их началом.
Брут отличался от Кассия. Это был анти-Октавиан: так же, как и его враг, холодный, самодовольный фанатик, но без правоты Октавиана. В конечном счёте на стороне Октавиана, по крайней мере, было право. Брут был просто опасен, и мир без него стал лучше.








