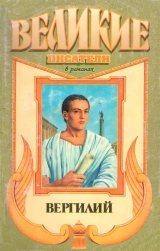
Текст книги "Я, Вергилий"
Автор книги: Дэвид Вишарт
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
46
Ликование по поводу заключённого в Бриндизи договора длилось недолго.
На этот раз виноват был не Антоний, не Октавиан, а Секст Помпей. Вполне понятно, что он почёл себя оскорблённым: когда Октавиан и Антоний считали, что он может быть полезен, каждый предлагал ему вступить в союз. После Бриндизи Помпей оказался в дураках, его выставили обратно на Сицилию, как преданного пса, который, хозяин знает, прибежит, махая хвостом, стоит лишь свистнуть.
В последние месяцы года Помпей вознамерился дать им почувствовать своё присутствие. Обосновавшись на Сицилии и Сардинии, он начал совершать оттуда набеги на побережье Италии, угрожая жизненно важным для Рима поставкам зерна. Цены на продукты возросли, и положение усугублялось тем, что ввели новые налоги, чтобы набрать денег на новую войну на море. В конце концов в середине сентября римская чернь взбунтовалась, и пришлось ввести войска.
Стало ясно, что с Помпеем, так или иначе, придётся считаться. Понимая, что их флот ещё недостаточно силен, чтобы рисковать всей кампанией, Антоний и Октавиан решились заключить мир. Они уговорили Помпея принять Корсику, Сардинию, Сицилию (по закону) и Пелопоннес в качестве провинции для управления в обмен на обещание хорошо себя вести.
На востоке положение было ещё хуже. Персия – огромная империя, лежавшая вблизи границ Рима, – захватила Сирию, и шаткие планы Антония насчёт буферных государств на восточной окраине римской территории покосились и рухнули, как прогнивший многоквартирный дом. Цари мелких государств один за другим сдавались захватчикам: Каппадокия[185]185
Каппадокия – область Малой Азии между реками Галис и Евфрат. Коммагена — область в Северо-Восточной Сирии. Галатия – область на центральном плоскогорье Малой Азии.
[Закрыть], Коммагена, Галатия... один за одним, Хуже всего, что командовал персидской армией римский военачальник, заместитель Цезаря Лабений, который изменил ему. К осени ситуация стала критической. Антоний выступил на восток, чтобы взять на себя руководство военными действиями, и в результате в Италии целый год царил мир.
Год после заключения договора в Бриндизи я жил то в Неаполе, то в Риме. Теперь, когда я согласился с планами Октавиана и Антония насчёт государства, я всерьёз принялся за пасторали. Как будто исчезло какое-то препятствие. Я больше не противился тому, чтобы дать стихам политическое звучание; по правде говоря, я, словно бык, который, однажды узнав вкус соли, опять и опять приходит лизать её, получал удовольствие, решая эту сложную задачу. Прежде всего, я заплатил свой долг, написав два стихотворения о конфискациях. К ним я прибавил ещё одно, о божественности Цезаря (недавно, по просьбе Октавиана, Антоний стал жрецом Божественного Юлия. Таким образом, стихи стали тройным комплиментом). Казалось, на некоторое время это смогло утолить страстное желание.
Здесь я, пожалуй, должен рассказать историю, которая является предостережением как для поэтов, так и для критиков: для поэтов – потому что критики могут вычитать в стихах то, чего в них и не подразумевалось; для критиков – потому что они, в силу своей профессии, могут приписать поэту намёки, которые он и не думал делать. Меценату понравились «политические» стихи, но, читая одно из других (неловкую смесь пасторали с эпикурейскими снадобьями), он вдруг неожиданно поперхнулся, что очень удивило меня.
– Я не вполне уверен, мой дорогой мальчик, – сказал он, – что мне нравится здесь иносказание.
Должно быть, я казался озадаченным, потому что он прибавил:
– Образ Силена[186]186
Силен – в греческой мифологии – человек с лошадиными ушами, хвостом и копытами, животным выражением лица. Часто Силены изображались толпами. Они любили музыку и танцы, часто проводили время в обществе нимф, позднее их стали связывать с символикой вина. Считались мудрыми, дружелюбными существами, иногда похотливыми. Им приписывали близкое родство с Сатирами и часто их путали.
[Закрыть]. Антоний может себе любить вино и женщин, но вряд ли ему понравится, что его изображают недоразвитым полубогом. Особенно интересующимся естественными науками.
Я успокоился. Объяснил, что тут нет намёка на Антония и что если Силен что-либо и олицетворяет, то только философское единство между инстинктивной и разумной сторонами человеческой души. Я видел, что Меценат не слушает. У меня создалось впечатление, что он был доволен и просто отшлифовывал сравнение, которое могло ещё пригодиться в будущем.
Не знаю, думал ли когда-нибудь сам Антоний, что я к нему непочтителен, вряд ли. Я по опыту знал, что похвалы люди имеют обыкновение замечать. Но когда их критикуют в аллегорической форме, то узнают себя неохотно. Другие, конечно, это понимают, особенно те, которые, как Меценат, легко мыслят символами, но порой они оказываются уж чересчур умны.
Я написал ещё одно стихотворение об этом периоде или, может быть, чуть более позднем, точно не помню: довольно короткий насмешливый стишок, посвящённый Галлу. Я упоминаю о нём, потому что, оглядываясь назад, вижу: это было обдающее холодом предвидение того, что должно было случиться. После одной из их бурных, но всегда непродолжительных ссор Киферида уехала в Милан с молодым кавалеристом, оставив Галла не таким уж безутешным (он никогда долго не печалился). В стихах же я изобразил его близким к самоубийству и готовым умереть ради любви; он частенько бродил по лесным полянам и клялся совершить отчаянный поступок. А Ликорида (так Галл называл Кифериду в своих собственных стихах) тем временем тащилась босая по студёному северу вслед за своим возлюбленным воином. Это был прелестный вздор в «александрийском» стиле, и Галл с Киферидой, когда она в конце концов, как я и предполагал, вернулась, – оба от души посмеялись над ним. Но тем не менее в стихотворении было зерно истины – разве не имеют поэты дар, подобно прорицателям, предвидеть будущее? – и я впоследствии вспомнил об этом, когда пришло время всерьёз оплакивать моего друга.
В течение двух следующих лет Антония не было в Италии, если не считать одного короткого, но важного визита. Отодвинув персов от границы, он устроил штаб-квартиру в Афинах, где жил с Октавией и новорождённой дочерью Антонией (нет, это всё-таки не был мальчик, несмотря на мои оптимистические пророчества в четвёртой «Эклоге»).
Октавия – один из «хороших» образов в моём рассказе. В какой-то мере она была похожа на Клеопатру.
Вижу, как вы удивлённо вскинули брови, но вот что я имею в виду. Их сходство проявлялось не во внешности (Октавия была намного красивее) и не в характере. И конечно, не в поведении. Но тем не менее обе женщины обладали огромной внутренней энергией, и это объединяло их. Для Клеопатры это была любовь к своей стране и к власти, для Октавии – любовь к семье и древним римским добродетелям – верности и преданности. Обе, каждая на свой лад, любили Антония, и он по-своему отвечал обеим на их чувство. Если кто-то и мог спасти его от самого себя, то это Октавия. Они жили вместе два года, он был образцовым мужем: трезвый, верный, внимательный. Он даже стал посещать лекции по философии, которую ненавидел, – философией больше интересовалась Октавия. Однако порок так глубоко въелся в натуру Антония, что даже Октавия не могла искоренить его. Подобно тому как человек, однажды отведавший пряного вина, уже больше не захочет пить всю жизнь пресную воду, так и Антония вновь повлекло от Октавии к Клеопатре, которая погубила его. Но даже и тогда Октавия не жаловалась. После смерти Антония она воспитывала его детей как своих собственных до тех пор, пока её брат не убил их.
Тем временем сам Октавиан женился, в третий и (до настоящего времени) в последний раз. Его почитатели говорят, это был чистейший брак по любви, но у меня нет такой уверенности. Секс для Октавиана был просто продолжением политики, и женитьба на Ливии дала ему доступ в высшее общество, которое было нужно ему позарез, плюс дополнительную премию в виде жены, обладающей даром политического анализа, превосходившим даже его собственный.
Для того чтобы жениться на Ливии, Октавиану пришлось развестись со своей второй женой Скрибонией. И он сделал это, в тот самый день, когда она родила ему дочь Юлию, под тем предлогом, что «она раздражает меня».
Я хотел бы встретиться со Скрибонией, которая казалась мне привлекательной, но познакомился с Ливией, которую нашёл просто пугающей.
Незадолго до свадьбы Октавиана опять стряслась беда из-за Секста Помпея. На этот раз последствия должны были быть значительно серьёзнее.
47
Я не собираюсь в подробностях описывать войну против Помпея, но должен всё же остановиться на ней, потому что она ярко высвечивает отношения Антония и Октавиана и способности Октавиана как командующего флотом (вернее, их отсутствие). Видите, я подготавливаю дело как юрист. Очень скоро Антоний станет рогатым чудовищем, пожирателем детей, которое ведёт против бедной дрожащей Италии целую тявкающую свору звероголовых восточных богов. Против него встанет защитник Италии; Цезарь-Аполлон, спокойный, сильный, безмятежный в своей мраморной холодности: Цезарь Победитель Пифона[187]187
Пифон — мифический дракон, который охранял оракул своей матери Геи близ Дельф. Аполлон убил Пифона стрелой и основал там свой оракул.
[Закрыть], Истребитель Демонов. Не буду задурять вам голову этой Санкционированной Версией. Недостатки (и неудачи) были у обеих сторон. Мне просто хочется, чтобы вы яснее их увидели.
Безошибочно почуяв, что его оттесняют на политическую обочину, Помпей забеспокоился. В конце концов он потерял терпение и отдал приказ своим пиратским кораблям совершать набеги на западное побережье Италии. Октавиан послал письма Антонию, прося о помощи. Антоний сразу же явился с частью своей флотилии, но к тому времени подкрепление было уже не нужно. Недовольный Антоний поплыл обратно в Афины. В конце зимы Октавиану досталось в битве при мысе Скилей[188]188
Мыс Скилей – восточный мыс Пелопоннеса на побережье Арголиды.
[Закрыть], где он потерял добрую половину своих кораблей. Он был вынужден проглотить свою гордость и вновь обратиться к Антонию, и Антоний опять пришёл на помощь.
Он привёл в Тарен[189]189
Тарент – город в Южной Италии на берегу Тарентинского залива.
[Закрыть]т весь свой флот. К счастью (как потом оказалось), он взял с собой жену Октавию. Однако Агриппа тем временем строил новые военные корабли. Октавиан отправил Антонию послание, где ещё раз сообщал, что его помощь не требуется. Антоний, вполне понятно, разозлился. Он не стал возвращаться домой; отношения между ними испортились настолько, что оказались на грани войны.
Вот тут-то вмешалась Октавия. Она металась между мужем и братом, объясняя, оправдывая, пытаясь как-то их помирить. В конце концов она привезла обоих в Тарент, и всё уладилось. Два верховных главы армии возобновили свои обязательства во взаимной поддержке, и Антоний с Октавией вернулись в Грецию.
Октавиан благоразумно предоставил командовать морским флотом Агриппе. К июлю следующего года новый флот был готов. Октавиан разработал сложный план нападения. В задачу Агриппы входило уничтожить флот Помпея, а тем временем Октавиан и Лепид должны были вторгнуться в Сицилию из Италии, с материка, и из Афин соответственно. Вторжение удалось лишь наполовину. Лепид благополучно высадил свои войска. А Октавиану вновь досталось, на этот раз его потрепал шторм, и из-за нанесённого им ущерба пришлось отложить планы на целый месяц.
Пожалуй, я расскажу здесь немного, что думали в то время об Октавиане. Это очень важно. Прежде всего, он создавал себе репутацию безбожника. После битвы у мыса Скилей Помпей отчеканил монеты, провозгласив себя «сыном Нептуна». Многие считали, что шторм, сокрушивший во второй раз флот Октавиана, это подтверждает; перед Играми[190]190
Игры, — Среди культовых празднеств важная роль отводилась Играм. Как правило, они устраивались регулярно с интервалом в один год или несколько лет и продолжались один или несколько дней. Во время Игр свободные граждане не работали. Игры сопровождались процессиями, другими ритуальными действиями, спортивными и музыкальными состязаниями, сценическими представлениями, увеселениями, а в Риме также цирковыми играми и гладиаторскими боями.
[Закрыть] Октавиан убрал из процессии статую бога, но это не помогло делу. Хороший полководец просто никогда ничего подобного не сделал бы. Народ вспомнил легенду о древнем флотоводце Аппии Клавдии[191]191
Аппий Клавдий, — Вероятно, имеется в виду консул 264 года до н.э., который открыл боевые действия во время Первой Пунической войны и разбил карфагенянина Ганнона и сиракузского тирана Гиерона под стенами Мессаны. Получил прозвище Caudex (что значит ствол, колода) за то, что переправился через Мессанский пролив на плоских судах или плотах.
[Закрыть], который, когда священные цыплята[192]192
Священные цыплята, — По клеванию цыплят в Риме предсказывали будущее. Существовали специальные цыплятники, кормившие их.
[Закрыть] отказались есть – худшее из предзнаменований, – швырнул их в море с криком: «Тогда пускай попьют!» – и проиграл битву.
Во-вторых, многие видели, что к военному делу Октавиан совершенно не способен. В то время ходила эпиграмма – не могу вспомнить, кто её автор, – которая била его по больному месту.
Дважды побитый на море, корабли потерял свои Цезарь.
Решив, что и так победит,
Он... в кости играл сам с собою.
Эта эпиграмма очень метко его характеризует, и, кстати, точно подмечена его страсть к авантюрам. Октавиан, по общему мнению, не мог выиграть сражение.
Его непочтительность к богам только усугубляла дело.
В августе Октавиан предпринял ещё одну атаку на Помпея и опять потерпел унизительное поражение, несмотря на то что его соратники были на высоте. На этот раз беда коснулась его лично. В бою его корабль протаранили, и он затонул. Октавиан уцепился за доску, и в темноте его прибило течением к берегу. С ним был один-единственный раб. Решив, что всё кончено, Октавиан умолял, чтобы тот убил его. Раб, к счастью для Рима, отказался и утром благополучно доставил его – хотя и изрядно промокшего и перепачканного – обратно в штаб-квартиру.
Агриппа был сыт по горло. Тактично, но твёрдо он потребовал, чтобы Октавиан взялся за что-нибудь, что у него получается лучше, и предоставил воевать тем, кто в этом смыслит. Октавиану не оставалось ничего другого, как проглотить свою гордыню и уступить.
Окончательная битва произошла при Навлохе[193]193
Навлох – город на северо-восточном побережье Сицилии.
[Закрыть] третьего сентября и под командованием Агриппы закончилась полной его победой. Предание гласит, что Октавиан был не в состоянии принять в ней участие – это очень даже понятно, – но ему пришлось подняться с постели, чтобы отдать приказ наступать. Правда это или нет, но Помпей был разбит. Он бежал с остатками своего флота на восток и впоследствии, по приказу Антония, был казнён.
Смерть Секста Помпея положила конец этому этапу гражданской войны. И расчистила сцену для двоих ведущих актёров. Следующий акт драмы должен был стать заключительным.
48
А я тем временем вдруг обнаружил, что стал знаменитым.
«Буколики» наконец-то были закончены и опубликованы, в значительной степени благодаря влиянию Мецената, хотя он и согласился оставить в силе прежнюю договорённость с Поллионом. Частично это было из дипломатических соображений, потому что Поллион был известен как человек Антония, а всё, что предполагало тесные отношения между Антонием и Октавианом, в то время было чрезвычайно желательно. Тот договор устраивал, конечно, и меня тоже: в последние несколько лет мы с Поллионом виделись редко, но всё же регулярно переписывались. Я его и до сих пор считаю одним из самых своих близких друзей, и мне бы в самом деле очень не хотелось оказаться неблагодарным. Но тем не менее Меценат дал понять, в самой деликатной форме, что эта книга стихов вышла при его собственной и Октавиановой поддержке, и это обусловило их немедленный успех.
Известность не доставляла – и не доставляет – мне радости. Публичные чтения приводят меня в ужас: я вынужден как следует сосредоточиваться, чтобы не сбиться и, как результат, не впасть в панику. Абсолютно незнакомые люди останавливают меня на улице и спрашивают о моей работе – совершенно спокойно, как будто имеют на это полное право. Частенько мне приходится вежливо отказываться от настойчивых приглашений отобедать, сопровождающихся маленькими «подарками», чтобы обеспечить моё согласие. Всё это вызывает у меня мучительное смущение. Если бы я мог оставаться в Неаполе и в Рим – ни ногой, то был бы счастлив. К сожалению, это невозможно. А теперь, конечно, об этом слишком поздно даже и мечтать.
Но я всё-таки нашёл одно преимущество в своём новом литературном положении, и это касалось Горация. Мы встречались с ним несколько раз, когда я был в Риме, и разговаривали, не только о поэзии, но и о жизни вообще. Каждый раз меня поражало, как мы с ним похожи и какие при этом разные.
Представьте себе треснутое зеркало. Оно отражает и одновременно искажает, уродуя совершенно нормальное лицо и делая его нелепым; нос разрастается до немыслимых пропорций, глаза оказываются на разных уровнях или искривляются в астигматизме. Переверните метафору, так чтобы отражение стало реальностью, а реальность – отражением. Теперь, вместо того чтобы обезображивать прекрасное, зеркало приукрашивает уродливую внешность – уменьшает и выпрямляет распухший нос, ставит глаза на одну линию. Гораций был моим зеркальным отражением. В нём я видел собственные недостатки и несовершенства, сглаженные и превращённые в достоинства.
Несколько раз я пытался свести Горация с Меценатом. Но каждый раз он отвергал это предложение.
– Я сам по себе, – говорил он. – Мне нечего предложить покровителю, что бы он согласился принять взамен или захотел оплатить. Спасибо тебе, Публий, но не стоит.
Я уговорил его наконец. Это случилось приблизительно в то время, когда шли переговоры в Таренте.
Я жил в доме Галла, как всегда, когда приезжал в Рим. Сам Галл уехал куда-то по делам, а мы с Горацием сидели в саду, обсуждая поэму Горация, которую он написал несколько месяцев назад на ту же тему, что и моя «Мессианская эклога». Он придерживался в ней пессимистического взгляда: подлинное счастье, мир и порядок совершенно не присущи этому миру. Чтобы найти их, нужно отвернуться от мира и отыскать мифические Острова Блаженных, утопическую страну за западным океаном, где проживают свою лишённую волнений жизнь боги и герои.
– Значит, ты не веришь, – сказал я, – что люди когда-нибудь построят идеальное общество?
Гораций горько рассмеялся:
– До сих пор они добились не так уж многого, не так ли? Человеческая история – это собачий завтрак. Почему мы должны ожидать, что что-нибудь изменится?
– Ты правда так думаешь?
Он внезапно посерьёзнел, отвернулся и стал смотреть на воробьёв, чирикающих на ветках сливового дерева.
– Может, и нет, – ответил он. – Может, однажды, когда-нибудь очень нескоро, нам удастся вылезти из этой гнилой, затягивающей жижи на твёрдую почву и правильно взглянуть на мир. Но всё равно нам будет нужна помощь, потому что человеческая природа, какая она есть, не позволит нам сделать это самостоятельно.
– Но нужно непременно попробовать, – сказал я. – Мы пытаемся. Может быть, на этот раз получится.
Он вновь обернулся ко мне, и его круглое, добродушное лицо было злым.
– Мы? – воскликнул он. – Кто это для тебя мы, Публий? Кто, по-твоему, собирается навести в мире порядок? Антоний? Или этот ублюдок Октавиан, которого ты вдруг так полюбил?
– Возможно.
Он уставился на меня, замотал головой.
– Ну нет, – возразил он. – Не Октавиан. Это уж точно. Ты знаешь, что он ответил после Филипп одному бедному гомику, который имел нахальство попросить денег на скромные похороны? «Попроси грифов»[194]194
Грифы – в античных народных поверьях считались стражниками золотых копей.
[Закрыть]! О Юпитер! Я сам это слышал. «Попроси грифов»! Если это и есть освободитель, на которого ты возлагаешь надежды, то можешь забыть о них, насколько я понимаю.
– Послушай, Квинт, – спокойно сказал я. – Ты веришь, что над миром трудятся боги. Так пусть же они пользуются какими хотят инструментами.
– Октавиан – это не божественный инструмент, он обыкновенный х... к тому же не очень-то чистый. – Гораций, когда злился, мог быть очень грубым и не выбирал выражений. – Я не хочу иметь с ним никаких дел. А значит, и с его подстилкой Меценатом.
Должно быть, я выглядел совершенно ошарашенным, что и было на самом деле, потому что Гораций немедленно раскаялся. Он смущённо улыбнулся.
– Прости, Публий. Я не то имел в виду. Я знаю, что Меценат твой друг.
– Он ещё и один из самых... образованных людей, которых я когда-либо встречал. А Октавиан запросто может быть обыкновенным х... – я так старательно выговаривал слова, что Гораций засмеялся, – но он – единственная надежда Рима.
– В таком случае – бедный Рим. – Гораций налил себе вина из кувшина, стоявшего рядом.
– Пошли познакомишься с ним, – внезапно предложил я. – Сейчас.
Гораций поперхнулся.
– С Октавианом?
– С Меценатом, – ответил я. – Поверь, он совсем не такой, как ты думаешь.
– Ты имеешь в виду, что он не педик? – ухмыльнулся Гораций.
– При чём здесь это? Я прошу тебя как друга дать моему другу шанс. Можешь ты это сделать?
Он долго смотрел мне в глаза. Затем медленно проговорил:
– Ну, ладно, Публий. Хорошо. Но если он заговорит о политике или начнёт делать какие-нибудь предложения, тогда я уйду. Немедленно, и больше никаких шансов, уйду и не оглянусь. И никогда снова туда не приду. Ты понял?
Я почувствовал, как пересохло у меня в горле, и жадно глотнул вина.
– Он не будет, – сказал я. – Обещаю тебе.
– Но только не прямо сейчас, – подмигнул Гораций. – У меня сегодня свидание с девушкой-сирийкой, я несколько месяцев добивался этого и не променяю его на дюжину Меценатов. Или даже на одну хорошую поэму.
– Уважительная причина, – согласился я. – Я как-нибудь договорюсь.
Мы отправились туда через два дня. Я предупредил Мецената (не сказать, чтобы ему это было нужно) об условиях Горация, и он не обманул моих надежд. Я заметил, улыбнувшись про себя, что Гораций не удосужился сменить тогу и что на ней было пятно от вина на верхней складке. Сам Гораций был так холоден, как будто наносил визит своему злейшему врагу, однако я видел, что он нервничал.
– Не волнуйся, Квинт, – лукаво шепнул я в ожидании, пока раб откроет внушительную парадную дверь. – Он не кусается.
Гораций усмехнулся.
– А если он это сделает, – ответил он, – то подцепит бешенство.
Меценат был в саду, так же как и в нашу первую встречу – но только на этот раз он не играл в мяч, а покойно откинулся на ложе со стопкой восковых табличек и грифелем в руках. На нём была надета простая туника, которую, как я знал, он любил больше всего; он никогда, если была возможность, не носил тогу, отдавая предпочтение греческой одежде, где только возможно. Когда он поднялся с места, чтобы поздороваться с нами, я облегчённо вздохнул, обратив внимание, что он говорит без своего обычного жеманства.
– Гораций! Рад, что ты смог прийти!
Гораций насупился и что-то невнятно пробормотал. Я вздрогнул. Меценат, казалось, ничего не заметил.
– Устраивайтесь поудобнее. Через минуту принесут вино. А пока что мне очень нужна ваша помощь.
– В чём? – Я улёгся на второе ложе. Гораций после некоторого колебания занял третье.
Меценат показал на восковые таблички.
– Кое-что из моей жалкой писанины. Никак не могу справиться. Вожусь уже несколько дней, но получается только хуже.
Это было что-то новенькое. Накануне я провёл с Меценатом несколько часов, а он ни словом не обмолвился, что трудится над стихотворением. Я почуял что-то неладное.
– Тогда давайте послушаем, – предложил я.
Меценат украдкой послал мне улыбку.
– Замечательно. – Он откашлялся и начал:
О, Ниоба[195]195
Ниоба – в греческой мифологии жена царя Фив Амфиона. Гордая своими детьми (у неё было семь сыновей и семь дочерей), Ниоба смеялась над богиней Латоной, родившей только двоих – Аполлона и Артемиду. Мстя за мать, Аполлон и Артемида поразили стрелами всех детей Ниобы. От горя Ниоба окаменела и была превращена Зевсом в скалу, источающую слёзы. Образ Ниобы стал символом надменности, а также олицетворением невыразимого страдания.
[Закрыть], ты словно плакучая ива,
Оплакиваешь тысячей слёз свою жалкую долю!
Трижды три сына и трижды три дщери ты прежде имела,
Но их безжалостный сразил Аполлон с Артемидой...
Я расхохотался. Не смог удержаться. Гораций вытаращил глаза, будто я спятил. Меценат замолчал и посмотрел на меня с потешным выражением удивления на лице.
– Что случилось? – спросил он.
Я едва мог вымолвить слово.
– Это ужасно! – с трудом выдавил я. – Я в жизни такой чуши ещё не слыхал.
Меценат, казалось, пал духом.
– Не очень хорошо, правда? Но я надеялся, что вы поможете мне поправить стихи.
– Тебе никто помочь не в состоянии. Это как одноногая кошка! Самое лучшее, что ты можешь сделать, – это избавить её от страданий.
Я заметил, что Гораций так и застыл с открытым ртом – я потом понял почему. Что бы я ни говорил, но он ожидал, что я буду Меценату льстить и что он за своё покровительство требует полного раболепства и униженной лести. Вместо этого Гораций увидел, что обычно застенчивый Вергилий ругает одного из самых могущественных людей в Риме, и, что более важно, этот вышеупомянутый влиятельный муж смиренно всё это сносит.
Всё это, конечно, с самого начала было подстроено Меценатом.
– Но ты, Гораций, не думаешь, что уже ничем нельзя помочь, не так ли? – Трогательная мольба Мецената была виртуозной. Я чуть было опять не разразился смехом, но это всё бы испортило.
– Ну, – Гораций закашлялся, – начать с того, что размер совершенно неправильный. – Он устроился поудобнее на своём ложе. – Но не так уж всё безнадёжно. Давайте поглядим, что можно сделать, а?
И мы вместе взялись за «стихи» Мецената. К тому времени, как мы закончили, лёд растаял.
Как я потом понял, я ошибался, думая, что Гораций целиком принял всё за чистую монету. Может быть, он и был прямолинеен, но он не был глупцом и прекрасно разгадал намерение Мецената. Но тем не менее, обладая чувством юмора и к тому же будучи добродушным, он оценил уловку и не обиделся.
– Человек, способный поставить себя в дурацкое положение для того, чтобы гость расслабился, – заметил он по дороге домой, – не может быть совсем уж плохим.
– Значит, ты придёшь к нему снова? – нетерпеливо спросил я.
– Пока с уверенностью не могу сказать, – улыбнулся Гораций. – Я мог бы иногда, когда сам захочу, если он примет меня...
– О, он примет тебя, Квинт!
–...но не сейчас. Дай мне время подумать, и я сделаю выбор. У меня ведь тоже гордость есть, ты знаешь.
В конце концов они, конечно, подружились, Меценат и Гораций. Но, несмотря на то, что у него ушло всего девять месяцев, чтобы изменить своё мнение, в то время как у меня – два года, он никогда так и не стал до конца человеком Мецената, не говоря уже об Октавиане. По сей день он так и остался необъезженным конём – готовым сохранять дружелюбные отношения со своими хозяевами, но не желающим продавать свою свободу за горсть бобов.
Гораций – моё выпрямленное отражение. Я завидую ему.








