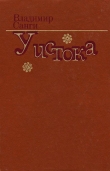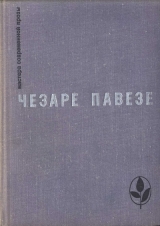
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
От соприкосновения с рекой я всякий раз испытывал прилив бодрости, которая сохранялась у меня на весь день. Казалось, солнце и мощное течение заряжали меня своей энергией, сообщали мне слепую, веселую и лукавую силу вроде той, которая свойственна дереву или лесному зверю.
Пьеретто тоже, когда приходил со мной, наслаждался утром на По. Спускаясь по течению к Турину, мы сохли, лежа в лодке, и промытыми, ясными от солнца и ныряния глазами глядели на берега, на холм, на виллы и на далекие купы деревьев, четко вырисовывающихся в воздухе.
– Если каждый день вести такую жизнь, – говорил Пьеретто, – превратишься в животное.
– Стоит посмотреть на землекопов…
– Нет, я не про них, – сказал он, – они только работают. Я имею в виду животное по здоровью и силе… И по эгоизму, – прибавил он, – по тому сладкому эгоизму, от которого жиреют…
– Мы же не виноваты, если нам хорошо.
– А кто тебя обвиняет? Никто не виноват в том, что родился. Виноваты другие, всегда виноваты другие. Мы себе плывем в лодке и курим трубочку, вот и все.
– Ну, мы еще не совсем животные.
Пьеретто смеялся.
– Кто знает, что такое настоящее животное, – сказал он, – рыба, дрозд, ящерица… Или, скажем, белка… Некоторые говорят, что в каждом животном заключена душа… неприкаянная душа. Мол, это чистилище… Ничто так не отдает смертью, – продолжал он, – как летнее солнце, яркий свет, роскошная природа. Ты нюхаешь воздух, чуешь запах леса и осознаешь, что растениям и животным нет до тебя никакого дела. Все живет и мучается само по себе. Природа – это смерть…
– При чем тут чистилище? – сказал я.
– Иначе природу не объяснишь, – сказал он. – Или она ничто, или в ней обитают души.
Он уже не раз заводил этот разговор. Это меня и раздражало в Пьеретто. У меня не такой характер, как у Ореста, который в подобных случаях только пожимал плечами и смеялся. Когда речь идет о природе, каждое слово задевает меня за живое. Я не находился, что ответить, и молча орудовал гребком.
Пьеретто тоже не мог равнодушно смотреть на бегущую воду. Это он сказал нам в прошлом году: «На что же вам дана река? Почему бы не пойти на По?» – и растормошил нас с Орестом, робевших сделать то или другое только потому, что до сих пор никогда этого не делали. Пьеретто лишь несколько лет назад приехал в Турин, а до этого жил в разных городах, таскаясь за отцом, беспокойным архитектором, который то и дело перевозил семью с места на место. Однажды в Пулье он даже поместил жену и дочь в женский монастырь, а сам с Пьеретто жил в келье мужского, где руководил реставрационными работами. «Мой отец, – говорил Пьеретто, – не находит общего языка со священниками и чувствует себя с ними не в своей тарелке. Он их терпеть не может и, когда мы жили в монастыре, грызся с ними из-за меня, потому что до ужаса боялся, как бы я не сделался священником или монахом». Теперь старик, гигантского роста мужчина, ходивший в рубашке с открытым воротом, угомонился и довольствовался Турином; вернее, семья жила в Турине, а он разъезжал. Я видел его всего несколько раз, и всегда Пьеретто и он подшучивали друг над другом, обменивались советами и разговаривали до крайности фамильярно – я и не знал, что сын может так разговаривать с отцом. В глубине души мне не нравились эти вольности, и я не понимал, зачем отец Пьеретто держит себя, как наш сверстник.
– Тебе было хорошо в монастыре, – говорил ему Пьеретто, – потому что ты жил там как холостяк.
– Глупости, – отвечал старик, – человеку хорошо там, где у него ни о чем душа не болит. Недаром монахи так жиреют.
– Есть и худые монахи.
– Это монахи по ошибке, нудные люди. Святость – дурной знак. С такими каши не сваришь.
– Это вроде как ездить на мотоцикле, – сказал Пьеретто. – Монах на мотоцикле разве похож на монаха?
Старик подозрительно посмотрел на него.
– А что ж тут плохого?
– Ничего, – сказал Пьеретто, – только святой в наше время – все равно что монах на мотоцикле…
– Анахронизм, – сказал я.
– Старая лавочка, – с раздражением сказал старик, – религия – это старая лавочка. Они это знают лучше нас.
В тот год старик работал в Генуе, где у него был какой-то подряд, и Пьеретто должен был поехать туда на морские купания. Его сестра уже уехала, и Пьеретто звал нас поехать с ним – людей посмотреть. Но у нас уже был план отправиться к Оресту, а дома у меня считали: хорошенького понемножку и, поскольку под носом По, можно обойтись и без моря. Я решил поэтому остаться в Турине, дождаться августа, когда вернутся Пьеретто и Орест, а потом вместе с ними, закинув за спину рюкзак, двинуться в путь.
Я не поверил бы, если бы мне сказали, что в начале лета в городе мне будет так хорошо. Один, без приятелей, не встречая на улицах даже знакомого лица, я вспоминал прошлые дни, ходил на лодке, рисовал себе что-нибудь новое, необычное. Самым беспокойным временем была ночь – понятное дело, Пьеретто испортил меня, – а самым прекрасным – середина дня, около двух, когда улицы пусты, только полоска неба зажата между домами. Часто я замечал какую-нибудь женщину у окна, скучающую, погруженную в себя, как это бывает только с женщинами, и, проходя, поднимал голову, мельком видел комнату, обстановку, краешек зеркала и уносил с собой удовольствие, которое мне это доставляло. Я не завидовал моим товарищам, которые в эти часы были на пляже, в кафе, среди бронзовых от загара полуголых курортников. Конечно, говорил я себе, они очень весело проводят время вдали от меня, но ведь они вернутся, а пока я хожу по утрам на реку, загораю, гребу и не жалуюсь на свою долю. Девушки тоже приходили на По, кричали с лодок, гомонили на берегах Сангоне[18]18
Сангоне – приток По.
[Закрыть]; даже землекопы поднимали головы и отпускали шуточки; я знал, что настанет день, когда я познакомлюсь с какой-нибудь из них и между нами что-то произойдет; я уже представлял себе ее глаза, ноги и плечи, видел перед собой изумительную женщину, а тем временем греб и курил трубку.
Трудно было на воде, стоя в лодке и отталкиваясь веслом, не разыгрывать из себя атлетически сложенного первобытного человека, не всматриваться орлиным взглядом в горизонт или в очертания холма. Я себя спрашивал, пришлись ли бы по вкусу людям вроде Поли такие удовольствия и поняли ли бы они мою жизнь.
Одну девушку и я в конце июля сводил на По, но не произошло ничего потрясающего или нового. Я ее знал, это была продавщица книжного магазина, костлявая и близорукая, но с холеными руками и томными манерами. Когда я рассматривал книги, она спросила меня, где я так загорел. Я ее пригласил покататься на лодке, и она с радостью обещала прийти в субботу.
Она пришла в белом купальном костюмчике, поверх которого была надета юбка, и юбку она сняла, повернувшись ко мне спиной и хихикая. Лежа на подушках на дне лодки, она жаловалась на солнце и глядела, как я гребу. Звали ее Терезина или попросту Рези. Время от времени мы обменивались несколькими словами о жаре, о рыбаках, о купальных заведениях Монкальери. Она говорила не столько о реке, сколько о плавательных бассейнах. Спросила, танцую ли я. Она щурила глаза и от этого казалась рассеянной.
Я причалил под деревьями, бросился в воду и поплыл. Она купаться не стала, потому что намазалась кремом от солнца – так и разило парфюмерией. Когда я вылез из воды, она сказала, что я здорово плаваю, и прошлась по берегу. Ноги у нее были недурные – длинные, розовые. Но мне почему-то стало ее жалко. Я принес ей подушки на камни, и она сказала, чтобы я взял баночку с кремом и намазал ее сзади, куда она не доставала. Тогда я стал на колени и принялся натирать ей пальцами спину, а она говорила, чтобы я натирал хорошенько, и смеялась, откидывая назад голову и прижимая затылок к моему рту. Потом она изогнулась и поцеловала меня в губы. Было ясно – она свое дело знает. Я сказал:
– Зачем ты намазалась этим кремом?
А Рези, касаясь носом моего носа:
– А ты что задумал, негодник? Не выйдет, запрещено.
Продолжая смеяться и щуря глаза, она спросила, почему бы и мне не натереться маслом. Тут я прижал ее к себе. Она вывернулась и сказала:
– Нет-нет, натрись маслом.
На большее, чем поцелуи, она не согласилась, хоть и пошла со мной в кусты. В первый момент меня взяла досада, но потом я уже не жалел, что тем дело и кончилось. На солнце, в траве наши тела и этот приторный запах были как-то неуместны; есть вещи, которые хороши только в городе, в комнате. На вольном воздухе голое тело выглядит некрасиво. У меня было неприятное чувство, что мы оскорбляем эти места. Сдавшись на просьбу Рези, я отвез ее в один бассейн, и там она получила полное удовольствие, разглядывая других купальщиков и потягивая через соломинку шипучку.
VIII
К Рези я больше не показывался, потому что был сыт по горло историей с кремом, плавательным бассейном, подразумеваемыми правилами игры. В конечном счете мне было лучше одному, и Рези была не первая девушка, разочаровавшая меня. Что же, думал я, вместо того чтобы похвастаться Пьеретто потрясающим любовным приключением, я ему скажу, что нет женщины, которая стоила бы солнечного утра на воде. И я уже знал ответ: «Утра – нет, а ночи – да».
Я не мог себе представить Ореста на море вместе с Пьеретто. В прошлом году, когда я поехал туда с Пьеретто и его сестрой, Орест не присоединился к нам, а сразу же помчался в свое селение, затерявшееся среди холмов. «Что он там находит, – сказал тогда Пьеретто, – надо и нам побывать в этих местах». Так родился план отправиться туда пешком, но уже зимой Орест стал отговаривать нас, доказывая, что лучше провести месяц на винограднике, чем на дорогах. В его словах была доля правды, но Пьеретто не соглашался. Такой уж у него был характер, ему не сиделось на месте, и в прошлом году, когда мы с ним ходили на По, он каждое утро искал новый пляж, повсюду совал свой нос и везде заводил знакомства. Захудалая харчевня или шикарная гостиница – ему было все равно. Не зная ни одного диалекта, он говорил на всех. Бывало, скажет: «Сегодня вечером – в казино», и, кого бы ему ни приходилось для этого обхаживать, будь то уборщик купален, хозяин или старуха, содержащая меблированные комнаты, он у каждого находил слабое место и добивался своего – проводил вечер в казино. Можно было помереть со смеху, глядя на этого проныру. Но у женщин он не имел успеха. На женщин его ухватки не действовали. Он их захлестывал, затоплял потоком слов, а потом терял терпение, начинал хамить и ничего не добивался. Впрочем, я даже не уверен, что он так уж хотел добиться своего.
– Чтобы нравиться женщинам, надо быть глупым, – сказал я как-то раз, чтобы утешить его.
– Нет, – ответил он, – этого недостаточно. Хотя, кроме всего прочего, надо быть глупым.
Пьеретто был невысокого роста, смуглый, с тонким лицом и вьющимися волосами – с виду настоящий сердцеед: казалось, стоит ему посмеяться или поглядеть на девушку, он отобьет ее у кого угодно. К тому же по сравнению с верзилой Орестом и со мной он был, без сомнения, куда более пылким. Однако и на море он не одержал никаких побед.
– Ты слишком нахраписто действуешь, – говорил я ему, – не даешь толком познакомиться с тобой. Всякая девушка хочет знать, с кем имеет дело.
Мы шли по дороге вдоль обрывистого, скалистого берега, отыскивая один маленький пляжик.
– Вот женщины, вот и купание, – сказал Пьеретто.
Внизу, крохотные на расстоянии, раздевались Линда и Карлотта, сестра Пьеретто и ее подруга, красивая девушка постарше нас, на которую мы оба непременно обернулись бы, если бы встретили ее на улице.
– Вот так штука, – сказал Пьеретто, – они нас ждут.
– Линда привела ее для тебя.
Пьеретто поднял руку и крикнул. Но рокот моря, который до нас едва доносился, должно быть, заглушил его голос. Тогда мы стали кидать камешки. Девушки подняли головы и встрепенулись. Они, видно, что-то кричали, но мы не слышали.
– Спустимся, – сказал я.
На пляж мы добрались с моря, плывя в зеленой воде. Мы долго дурачились с девушками, лазали по скалам, брызгались. Потом я лег жариться на солнце, глядя на пену, окаймлявшую песок, а Пьеретто тем временем занимал сестру и ее подругу.
Разговор шел о том, что даже на пустынных пляжах валяются косточки от фруктов и обрывки газет. Пьеретто говорил, что в мире уже не осталось ни одного девственного уголка. Что многих потому и тянет сюда, что в облаках и в морском горизонте есть что-то дикое и первозданное. Что древняя претензия мужчины на обладание женщиной, еще не потерявшей невинности, – пережиток того же пристрастия, той же глупой жажды опередить всех. Карлотта сидела, опустив голову, и волосы падали ей на глаза; она не понимала шутки и смеялась нехотя, с кислым видом. Надо же было Пьеретто завести этот разговор именно с ней. Карлотта была девушкой немудрящей – шла ли речь о море, о ребенке или о кошке, говорила просто-напросто: «Мамочка моя, до чего же красиво». У нее, правда, были приятели, с которыми она болтала на пляже и танцевала, но она говорила, что терпеть не может встречаться в городе с теми, кто видел ее полуголой на взморье. С Линдой она гуляла под ручку.
Пьеретто не унимался. Линда, лежавшая на скале, сказала, чтобы он перестал. Пьеретто заговорил о крови. Он сказал, что пристрастие к нетронутому и дикому есть пристрастие к пролитию крови. «С женщиной спят, чтобы нанести рану, пролить кровь, – объяснил он. – Буржуа, который женится, и непременно на девственнице, тоже хочет удовлетворить это желание…»
– Перестань! – крикнула Карлотта.
– Почему? – сказал он. – Все мы надеемся, что когда-нибудь это случится и с нами…
Линда встала, потянулась и предложила поплавать.
– По той же причине ходят в горы, на охоту, – говорил Пьеретто. – Сельское уединение вызывает жажду крови…
С этого дня прекрасная Карлотта не стала больше ходить на нетронутые места. Линда сказала нам:
– Вот вы и достукались.
Так Пьеретто отпугивал девушек и еще утверждая, что ловко вел себя и остался в выигрыше. Потом он открывал новые места, находил новых людей и заводил разговор на другую тему. Но за весь сезон он так ни с кем и не подружился, если не считать хозяина какого-то кабачка и стариков пенсионеров.
Что до меня, я долго вспоминал этот укромный пляжик. По совести сказать, море, такое огромное и изменчивое, мало что говорило моему сердцу; мне нравились замкнутые места – ложбины, проулки, террасы, оливковые рощи. Порой, распластавшись на скале, я подолгу смотрел на какой-нибудь камень величиной с кулак, который на фоне неба казался огромной горой. Вот такие вещи мне нравятся.
Теперь я думал об Оресте, который в первый раз видел море. Пьеретто, уж конечно, не давал ему спать, а вместе они, я знал, были способны на все – от купания нагишом до причащения таинств бутылки во всех ночных заведениях. К тому же там была Линда со своими подругами и был отец Пьеретто, а при его взбалмошном характере невозможно было предугадать, что ему взбредет в голову. Я не без грусти вспоминал о том, как мы, бывало, вставали перед рассветом и, потихоньку выйдя из дому, гуляли вдоль берега моря при теплом свете последних звезд. Конечно, Орест и без всяких приправ наслаждался бы каникулами. Но мне не терпелось услышать от него, плывя с ним в лодке по По, убедился ли он, как прекрасен мир.
Однако против моих ожиданий ни он, ни Пьеретто не вернулись в Турин. Вернулась одна Линда, работавшая в какой-то конторе, и в первых числах августа позвонила мне.
– Слушайте, – сказала она, – ваши приятели ждут вас в одном селении – забыла, как оно называется. Давайте повидаемся, и я объясню вам, как туда добраться.
Я сразу назвал ей селение среди холмов, где жил Орест. Так и оказалось. Эти обормоты уже уехали туда.
Мы встретились с Линдой под вечер перед ее любимым кафе. В первый момент я ее не узнал, до того она загорела. Она и на этот раз заговорила со мной шутливо, как говорят с ребятишками.
– Угостите меня вермутом? – сказала она. – Пляжная привычка.
Она села, заложив ногу на ногу.
– Скверная штука возвращаться в августе, – вздохнула она. – Хорошо вам, вы никуда не уезжали.
Мы поговорили о Пьеретто и Оресте.
– Не знаю, как они провели время, – сказала она, – я предоставила им барахтаться самим. Они уже не маленькие. В этом году у меня были свои приятели, взрослые люди, слишком взрослые для вас…
– А что Карлотта, прекрасная Карлотта?
Линда рассмеялась во все горло.
– Пьеретто часто перебарщивает. В нашей семье все такие. Это бывает и со мной. Мы ужасные люди. А с годами становимся все хуже.
Я не стал ей возражать и, щурясь, посмотрел на нее. Она заметила это и сделала мне гримасу.
– Мне, правда, уже не двадцать лет, как вам, – проговорила она, – но и не такая уж я старая.
– Старыми не становятся, – сказал я, – старыми рождаются.
– Ни дать ни взять, изречение Пьеретто, – воскликнула она, – типичное изречение Пьеретто!
Я в свою очередь сделал гримасу.
– Мы их произносим по одному в день, – проговорил я, – когда наберется достаточно, тогда и кончим.
IX
Дом Ореста, как розовый балкон, возвышался над морем лощин и оврагов, от которых рябило в глазах. Я все утро ехал по равнине, по знакомой равнине, и в окошке вагона мимо меня промелькнули памятные с детства оросительные каналы, обсаженные деревьями, зеркала воды, луга, выводки гусей. Я еще думал обо всем этом, когда поезд пошел между отвесных скал, где, чтобы увидеть небо, надо было задирать голову. Проехав через узкий туннель, он остановился. Я оказался на маленькой площади, где было жарко и пыльно, а вокруг, куда ни кинь взгляд, видны были лишь выжженные солнцем косогоры. Жирный возчик показал мне дорогу; нужно было идти в гору и в гору, селение находилось наверху. Я бросил чемоданчик на повозку, и мы стали подниматься вместе следом за медлительными быками.
Мы шли через виноградинки и сухое жнивье, и, по мере того как раздвигался горизонт, я различал все новые селения, новые виноградники, новые косогоры. Я спросил у возчика, кто посадил столько винограда и хватало ли рук возделывать его. Он с любопытством посмотрел на меня и повел разговор издалека, стараясь выяснить, кто я такой. Потом сказал:
– Виноградники всегда были, это ведь не то что построить дом.
Когда мы добрались до каменной кладки, укреплявшей террасу, на которой стояло селение, я хотел было спросить, зачем это дома ставят наверху, но, взглянув на угрюмое лицо возчика с узкими щелочками глаз, предпочел промолчать. Дул легкий ветерок, пахло фигами, и здесь, на этом склоне холма, мне почудилось веяние моря. Я вздохнул полной грудью и проговорил:
– До чего же хороший воздух.
Мы вошли в селение. На каменистую улочку выходили дома с внутренними двориками и несколько вилл с балконами. Мне бросился в глаза сад, где было полным-полно далий, циний, герани – преобладало красное с желтым – и цветов фасоли и тыквы. В прохладных закоулках между домами, лестницами, курятниками сидели старые крестьянки. Дом Ореста находился на углу площади, у изгиба опорной кладки, и был окрашен в переливчатый розовый цвет – настоящая маленькая вилла, обшарпанная вьюнками и ветром. Потому что тут, наверху, даже в этот час дул ветер – я заметил это, как только вышел на площадь и возчик указал мне дом. Я порядком вспотел и направился прямо к двери, поднялся по трем ступенькам и постучал бронзовым дверным молотком.
Ожидая, пока мне откроют, я огляделся вокруг и подумал, что для Ореста это хорошо знакомые места, где он родился и вырос, и что все здесь – и освещенная солнцем шероховатая штукатурка, и кустик травы на балконе, вырисовывающийся на фоне неба, и глубокая полуденная тишина, нарушаемая только тарахтением удаляющейся повозки, – должно быть, близко и дорого его сердцу. Подумал о том, сколько на свете мест, которые вот так принадлежат кому-нибудь, с которыми кто-нибудь кровно связан и о которых другие не имеют понятия. Я опять постучал в дверь, на этот раз рукой.
Мне отозвалась через притворенные ставни какая-то женщина. Что-то воскликнула, забормотала, спросила, кого мне надо. Ни Ореста, ни его товарища не было дома. Женщина сказала, чтобы я минутку подождал; я извинился, что пришел в такой час; наконец мне открыли.
Со всех сторон показывались женщины – старухи, прислуги, девочки. Мать Ореста, дородная женщина в переднике, суетливо встретила меня, осведомилась, как я доехал, провела в полутемную комнату (когда открыли ставни, я увидел сервизы и картины, мебель в чехлах, бамбуковый треножник, вазы с цветами и понял, что это гостиная), спросила, не хочу ли я кофе. В комнате стоял затхлый запах хлеба и фруктов. Усадив меня, хозяйка села сама и с такой же, как у Ореста, слегка снисходительной улыбкой поговорила со мной. Она сказала, что Орест скоро вернется, что все мужчины скоро вернутся, что через час подадут на стол и что у Ореста все товарищи славные – наверное, и учимся мы вместе. Потом она встала и, сказав: «Ветер поднялся», закрыла ставни. «Не взыщите, – извинилась она, – вам придется спать в одной комнате. Не хотите ли умыться?»
К тому времени, когда вернулись Орест и Пьеретто, я уже знал весь дом. Наша комната выходила в пустоту, на далекие холмы, а умывались здесь в тазу, разбрызгивая воду на красные кафельные плитки. «Не обращайте внимания, если замочите пол, – сказала мать Ореста, – мух меньше будет». Я уже успел выйти на балкон, спуститься в кухню, где женщины возились у плиты, в которой потрескивали дрова, полистать календари и старые школьные книжки в кабинете отца Ореста, куда он потом вошел, крича во все горло, – у него были усы, и я узнал его по фотографиям, висевшим в гостиной. Он дал мне прикурить, и мы разговорились. Его интересовало, был ли я тоже на курорте, есть ли земли у моего отца и учусь ли я на священника, как мой приятель. На всякий случай я осторожно спросил:
– Это вам Орест сказал про него?
– Знаете, как бывает, заходит разговор про божественное – женщины в такие вещи верят, хотят верить, – вот оно и сказывается. Этот Пьеретто что твой священник, дока по части закона божьего и всего такого прочего, видно, учился в семинарии… Моя свояченица хочет рассказать о нем настоятелю.
– Это он просто так, дурака валяет. Неужели вы его еще не раскусили?
– Я так думаю, – сказал усач, – вся эта божественность – пустые выдумки. Но женщины из-за нее теряют голову.
– То же самое говорит его отец. – И я рассказал ему, как Пьеретто попал в монастырь, и объяснил, что он насмотрелся там на монахов и священников, понял, что они за птицы, и так же, как его отец, ни во что это не верит. – Он валяет дурака, вот и все.
– Ну и потеха, – сказал он, – ну и потеха. Ради бога не выдавайте его. Смотрите-ка, жил в монастыре.
Пришли черные от загара Орест и Пьеретто, в легких рубашках, без пиджаков, и дружески похлопали меня по плечу. Они были голодные как волки, и мы сразу пошли к столу. На главное место сел отец; взад и вперед сновали женщины, старые тетки, сестренки Ореста. Я познакомился с жертвой Пьеретто, свояченицей Джустиной, бодрой старухой, сидевшей на другом конце стола. Девочки шутили, подсмеивались над ней, говорили о каких-то цветах для алтаря, которые пономарь поставил в святую воду. Кто-то упомянул об Успении. Я следил за всеми, ожидая потехи, но Пьеретто, казалось, был предупрежден: он ел и помалкивал.
Так ничего и не произошло. Мы поговорили о морских купаниях, где побывал Орест. Я сказал, что загорал на По и что там полно курортников. Девочки внимательно слушали. Отец Ореста дал мне кончить, потом сказал, что солнца везде хватает, но в его времена на Ривьеру ездили только больные.
– Туда едут не из-за солнца, – сказал Пьеретто, – и не из-за воды.
– А для чего же туда едут? – сказал Орест.
– Чтобы видеть своего ближнего таким же голым, как ты сам.
– А на По тоже есть купальные заведения? – стараясь замять этот разговор, спросила меня мать Ореста.
– А то как же, – сказал Орест, – и там поют и танцуют.
– Нагишом, – сказал Пьеретто.
Старая Джустина фыркнула.
– Я понимаю мужчин, – сказала она с презрением, – но что туда ходят девушки – это просто срам. Им бы следовало предоставить мужчинам ходить туда одним.
– Не хотите же вы, чтобы мужчины танцевали с мужчинами, – сказал Пьеретто, – это было бы неприлично.
– Еще неприличнее, когда девушка раздевается на людях! – крикнула старуха.
Мы продолжали уплетать за обе щеки, а разговор перескакивал с одного на другое, то затухая, то оживляясь. Время от времени речь заходила о домашних делах, о сельских сплетнях, о работе, о земле, но, стоило раскрыть рот Пьеретто, затрагивалась какая-нибудь щекотливая тема. Быть может, это забавляло бы меня, если бы мы не имели друг к другу никакого отношения и его поведение не становилось бы в глазах хозяев также и моим. Что до Ореста, то он с довольным видом смотрел на меня и у него смеялись глаза: он был рад видеть меня в своем доме. Я украдкой показал ему кулак и, переставляя два пальца по столу, изобразил ходьбу. Он не понял и комично завращал глазами – подумал, что мне надоело сидеть за столом.
– Хорошенькую шутку вы сыграли со мной, – сказал ему я. – Разве мы не договорились проделать путь пешком?
Орест пожал плечами.
– Не бойся, мы еще находимся по косогорам и виноградникам, – сказал он, – для того мы и приехали, чтобы гулять в свое удовольствие.
Отец Ореста не понял, о чем мы говорим. Мы объяснили ему, что собирались прийти сюда пешком из Турина. Сестренка Ореста ахнула и зажала рот руками. Отец сказал:
– Какой смысл, ведь есть же поезд.
Тут выскочил Пьеретто:
– Когда все ездят на поезде, становится шиком идти пешком. Это такая же мода, как морские купания. Теперь, когда у всех есть ванна в доме, становится шиком принимать ванны под открытым небом.
– Говори за себя, ведь это ты был на море.
– Ну и народ, – сказал отец, – в мои времена за модой тянулись только женщины.
Мы поднялись из-за стола отяжелевшие и осовелые. Женщины ни на минуту не оставляли мою тарелку пустой, а отец Ореста, сидевший рядом со мной, непрестанно наполнял мой стакан.
– Пойдите поспать, – сказали мне, – сейчас самая жара.
Мы втроем поднялись по лестнице в нашу комнату, где воздух был горячий, как в бане. Я ополоснул лицо в белом тазу, чтобы немножко взбодрить себя, и сказал Оресту:
– Сколько времени продолжается праздник?
– Какой праздник?
– А что же это тогда? Нас откармливают как на убой. Здесь в один присест съедают столько, что хватило бы на полк солдат.
Пьеретто сказал:
– Если бы ты пришел пешком, тебе и этого было бы мало.
Орест смеялся, стоя у окна с прикрытыми ставнями. Он скинул рубашку, обнажив загорелое мускулистое тело.
– До чего хорошо, – сказал он и бросился на постель.
– Орест пристрастился танцевать и играть на гитаре, – сказал Пьеретто. – На танцах вокруг него прямо море бушевало. Ему еще до сих пор мерещится запах моря, когда он видит девушку.
– А здесь и вправду пахнет морем, – сказал я, подходя к окну. – Да и ширь такая, как будто море раскинулось. Посмотри.
Пьеретто сказал:
– Первый день – твой. Пожалуйста, любуйся видом. Но завтра – всё.
Я дал им немножко позубоскалить, потом сказал:
– Что-то вы больно веселы. В чем дело?
– А что? – сказал Пьеретто. – Ты поел и попил, чего тебе еще?
А Орест:
– Может, хочешь выкурить трубочку?
Их заговорщический тон, звучавший в темной комнате особенно интригующе, действовал мне на нервы. Я сказал Пьеретто:
– Ты уже напугал всех женщин в доме. Ты все такой же. Дело кончится тем, что тебе покажут на дверь.
Орест вскочил и сел на кровати.
– Вот что, шутки в сторону, – сказал он. – Вы не уедете отсюда, пока не пройдет сбор винограда.
– Что же мы будем делать весь август? – пробормотал я, снимая майку, а когда выпростал голову, услышал, как Пьеретто говорит:
– …Смотри-ка, он тоже черный, как жук…
– Солнце греет как на Ривьере, так и на По, – проговорил я, а они опять принялись смеяться.
– В чем дело? Вы пьяны?
– Покажи нам пупок, – сказал Орест.
Я шутки ради оттянул вниз брючный ремень, показав бледную полоску на коже живота.
Орест и Пьеретто загоготали и заорали:
– Позор! И он тоже! Ясное дело!
– Ты еще меченый, – усмехнулся Пьеретто на свой манер, точно плюнул в физиономию. – Пойдешь с нами на болото. Тут не церемонятся. От солнца ничего не надо прятать.
X
Мы отправились туда на следующий день. Посреди котловины, отделявшей наш холм от неровного плато, меж виноградников и кукурузных полей протекал ручей, сбегая в обрывистую расщелину, заросшую желтой акацией и ольшаником. В расщелине вода застаивалась, образуя цепочку бочагов, и тот, кто спускался в нее, оказывался как бы на дне колодца, откуда видно лишь небо да кромку зарослей ежевики. В полуденные часы туда падали отвесные лучи солнца.
– Что за селение, – говорил Пьеретто, – чтобы раздеться догола, приходится прятаться в землю.
Потому что в этом и состояла их игра. Они уходили из дому примерно в полдень и голые, как змеи, проводили час или два в этой расщелине, купаясь и валяясь на солнце. Цель была в том, чтобы стереть с себя позорное пятно, чтобы загорело все тело, не исключая паха и ягодиц. Потом они шли обедать. В день моего приезда они пришли как раз оттуда.
Теперь я понял, что означали недомолвки и смешки женщин. В доме не знали о выдумке Пьеретто, но купание посреди полей, хотя бы даже купались одни мужчины, хотя бы даже в трусах, поражало воображение.
Я узнал в этот день и многое другое. На новом месте поначалу не спится, даже если все отдыхают после обеда. В то время как дом погружался в сон и во всех комнатах только мухи жужжали, я спустился по каменной лестнице на кухню, откуда доносились негромкие голоса и глухие шлепки. Я нашел там одну из сестренок и мать Ореста, которая, засучив рукава, месила тесто на столе. Седая старуха, наклонившись над лоханкой, мыла посуду. Они улыбнулись мне и сказали, что готовят ужин.
– Так рано? – удивился я.
Старуха, обернувшись ко мне, засмеялась беззубым ртом и прошамкала:
– Готовить – не есть: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Мать Ореста сказала, вытирая лоб:
– Ничего. В этом доме нас, женщин, хоть отбавляй. Двое ли мужчин или четверо – все одно, не перетрудимся.
Девочка с русыми косами, перестав поливать муку водой из половника, как завороженная смотрела на меня.
– Ты что, ополоумела? Пошевеливайся, – сказала ей мать и снова принялась месить тесто.
Я постоял, поглядел. Сказал, что мне не хочется спать. Подошел к ведру, висевшему на стене, и хотел напиться из ковшика, но мать Ореста крикнула:
– Ну-ка, Дина, подай ему стакан.
– Не надо, – сказал я, – когда мальчишкой я жил в деревне, у нас пили из ведра.
Так я заговорил о моем селении, о хлевах, о поливных огородах, о гусях.
– Это хорошо, что вы уже жили в деревне, – сказала мать. – Значит, вам не привыкать, вы знаете, что это такое.