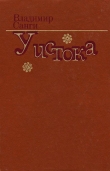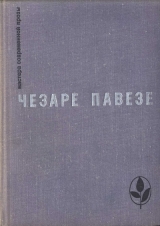
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
– Вам будет скучно, – сказала вдруг Габриэлла. – Здесь у нас ночью одни сверчки. Ваш друг хорошо сделал, что уехал…
– Сверчки и луна, – сказал Поли. – И мы.
– Только бы вы этим удовольствовались, – сказала Габриэлла, играя розой, лежащей перед ней. Потом подняла глаза и бросила: – Я слышала, что в Турине вы с Поли посещали ночные заведения?
Она посмотрела на нас и рассмеялась.
– Ну-ну, что это у вас сделались такие похоронные физиономии? – воскликнула она. – Все мы грешники. Вернулся блудный сын, заколем же тельца.
Поли запыхтел и посмотрел исподлобья.
– Синьора, – крикнул Пьеретто, – я поднимаю тост за тельца!
– Какая я вам синьора, – сказала она, – мы можем звать друг друга по имени. У нас достаточно общих знакомых.
Поли, помрачнев, сказал:
– Послушай, Габри. Дело кончится, как вчера.
Габриэлла зло усмехнулась.
– Не хватает музыки, – сказала она, – и сегодня никто не пьян. Тем лучше, мы можем поговорить откровенно.
Пьеретто сказал:
– Выпить можно потом.
– Если ты хочешь музыки, – сказал Поли, поднимаясь, – я могу поставить пластинку.
Я увидел, как тонкая рука Габриэллы сжала розу, которую минуту назад она уронила на стол, и не решился посмотреть ей в лицо.
Поли уже сел, не поставив пластинку.
– Музыка требует веселья, – сказал он. – Сначала выпьем еще немного.
Он протянул руку к рюмке Габриэллы. Она дала налить себе вина и выпила. Выпили и мы все. Я думал об Оресте и о его винограднике.
Когда мы в молчании закурили сигареты, Габриэлла вдохнула дым, посмотрела на нас и засмеялась.
– Мы не поняли друг друга, – сказала она насмешливо. – Искренность не преступление. Я ненавижу преступления, совершенные в состоянии аффекта. Мне хотелось бы только, чтобы кто-нибудь мне сказал, был ли Поли очень комичен в ту ночь, когда, сидя в автомобиле, он открыл жизнь без фальши…
XVIII
– Дайте мне сказать, – проговорила Габриэлла. – Когда люди вдвоем, они мало говорят и заранее знают, что услышат в ответ. Что быть вдвоем, что одному – почти все равно… Я хотела бы только, чтобы кто-нибудь мне сказал… вы ведь тоже были с Поли в ту ночь… объяснил ли он честной компании, что живет с чувством внутренней чистоты… Он открыл это в Турине, я знаю. Но я хотела бы видеть, какими были лица у всех тех, кто его слушал. Потому что Поли искренен, – сказала Габриэлла убежденно. – Поли наивен и искренен, каким должен быть человек, и не всегда понимает, что душевные кризисы не для всех. Эта наивность – его прекрасная черта, – добавила она и улыбнулась. – Но скажите мне, как приняли это другие.
И она с лукавством, жестким и смеющимся взглядом посмотрела на нас.
Когда разговор принял такой оборот, Поли не смутился. Казалось, он ожидал худшего.
Пьеретто сказал:
– С бешенством, с пеной у рта. Со скрежетом зубовным. Кто-то даже затрясся от злости.
Мне не понравилось лицо Поли. Он пристально смотрел на нас, прищурив глаза с опухшими веками.
– Quos Deus vult perdere[20]20
Кого бог хочет погубить (подразумевается – лишает разума) (лат.).
[Закрыть],– добавил Пьеретто. – Бывает.
Габриэлла с минуту смотрела на него как завороженная, потом засмеялась глупым смешком. Вдруг, изменив тон, она предложила:
– Не выйти ли нам подышать свежим воздухом?
Мы молча встали и спустились по ступенькам. Нас встретила песнь сверчков, и в лицо пахнуло запахом неба.
– Пойдемте в рощу, посмотрим на луну, – сказала Габриэлла. – Потом будем пить кофе.
В ту ночь Пьеретто пришел ко мне в комнату. При мысли о том, что мне предстоит спать в этом доме и назавтра проснуться в нем, а потом спуститься вниз, снова встретиться с Поли и Габриэллой, сесть с ними за стол и опять полуночничать, – при этой мысли меня бросало в жар.
Мы допоздна сидели под соснами при луне. Габриэлла больше не поминала о прошлом. Она непринужденно расспрашивала нас о себе. Но от напряжения, настороженности, ощущения чего-то невысказанного у меня слова застревали в горле. Теперь я знал, что все они одинаковы, включая и Поли, и Габриэллу, все готовы сорваться с цепи, чтобы убить вечер. Прошлой ночью эти деревья и луна, должно быть, видели черт знает что. К чему было столько двусмысленных фраз, маскирующих некую яму, когда все мы знали, что это за яма.
Я сказал это Пьеретто, когда он зашел ко мне в комнату.
– Ты можешь мне объяснить, что мы делаем в этом доме? – сказал я ему, куря последнюю сигарету. – Эти люди нам не компания. У них есть деньги, есть друзья, есть возможность бездельничать круглый год. Где это видано, чтобы ели за столом, усыпанным цветами? Весь этот шик и блеск не для нас. Нам лучше на винограднике Ореста, на болоте. Орест это сразу понял…
– Однако Габриэлла тебе нравится, – перебив меня, бесстрастно сказал Пьеретто.
– Габриэлла? С ней не поладишь. Она уже видит нас насквозь и не знает, что с нами делать. Посмотри на Ореста…
– Вот увидишь, Орест вернется, – опять перебил меня Пьеретто.
– Надеюсь. Мы завтра же…
– Не кричи, – сказал Пьеретто. – Меня отсюда силком не вытащишь. Уж больно занятно смотреть на эту комедию… Интересно, долго ли она будет продолжаться.
Тут мы заговорили о Поли, о его странной судьбе – о том, что у него просто дар выводить из себя женщин.
– Ну и тип, – говорил Пьеретто. – Ему бы надо стать отшельником. Он рожден для того, чтобы жить в келье, только не знает этого.
– Я бы не сказал. Женщин он умеет выбирать.
– Ну и что? В том-то и беда. Они допекают его, как фурии.
– Что же, он на это идет. Как-никак, Габриэлла его жена. Не ты же спишь с ней.
Тут Пьеретто посмотрел на меня на свой манер, с таким видом, как будто я сморозил что-то смешное и нелепое, и сказал:
– До чего ты глуп. Габриэлла не спит с Поли. Это всякому ясно. Где твои глаза?
Он насладился моим изумлением и продолжал:
– Ни он, ни она об этом и не думают. Я не знаю даже, почему они живут вместе.
Он с минуту помолчал и добавил:
– Впрочем, может быть, они даже не задаются вопросом, почему они живут вместе.
Спалось мне хорошо – постель была мягкая, пуховая. К тому же в течение многих дней мы спали втроем в одной комнате, а тут я был один и от этого проснулся свежий и как бы проясневший, точно небо, которое я утром приветствовал из окна. Все уже пробудилось, ожило, все дышало росной свежестью, и солнце, заливавшее равнину, которая виднелась внизу, за соснами, убедило меня, что вокруг раздолье и что мы славно проведем время в Греппо – полюбуемся лесами и полями, поболтаем, подурачимся, всем телом вберем в себя очарование этого царства. Нас ждали буераки, полянки, длинные дни, заполненные прогулками, ждал грот Габриэллы, куда мы собирались еще раз сходить.
Было еще утро, когда, трезвоня, как почтальон, велосипедным звонком, приехал Орест вместе с Пиноттой, ходившей за покупками к Двум Мостам. Самое забавное, что он действительно привез почту – открытки для нас с Пьеретто, и Габриэлла крикнула ему из окна:
– Если это нужно для того, чтобы вы бывали у нас, я скажу всем моим друзьям, чтобы они писали мне.
Мы вместе с ней вошли в гостиную и посидели там в ожидании Поли. Орест с веселым видом рассказал нам, что видел стан птиц и слышал хлопанье крыльев и писк, предвещавшие охотничий сезон.
– Неужели вы так кровожадны, Орест? – воскликнула Габриэлла. – Послушайте, – сказала она, – не лучше ли нам звать друг друга по имени? Ведь для того и приезжают в деревню, чтобы освободиться от условностей, правда?
Орест вернулся к охоте и сказал, что Поли не должен спать так поздно. Летом на охоту ходят спозаранок, еще до рассвета, чем скорее привыкнешь вставать в это время…
– Только не с собаками, – вскричала Габриэлла, – для собак это плохо. Роса притупляет им нюх. – Она рассмеялась в лицо ошеломленному Оресту. – Вы этого не знаете… Девочкой я проводила лето в Бренте, среди охотников за жаворонками. Там только и были слышны выстрелы и лай собак…
– А где старый пес Рокко? – бросил Орест.
– Наверное, сдох, – сказала она. – Спросите у Поли. Кстати, Поли не хочет больше убивать животных. Он вам не говорил?
Орест вопросительно посмотрел на нее.
– Ему это уже не по душе, – объяснила Габриэлла. – Это не согласуется с новой жизнью, которую он начал. – Она улыбнулась. – Но бифштексы он ест…
– Я так и подозревал, – фыркнул Пьеретто.
Орест не понимал, почему мы развеселились, и с заинтригованным видом смотрел на нас, переводя взгляд с одного на другого.
– Вчера вечером мы говорили о Поли, – объяснила Габриэлла. – Вы непременно должны остаться с нами. Здесь все разыгрывается к ночи.
Немного погодя Габриэлла исчезла. Мы побродили по комнатам, прилегающим к веранде, – там были книги, старые книги в переплетах, карточные столики, биллиард. Мне нравился зеленый свет, сочившийся в окна сквозь ветви сосен. В одном уголке я нашел романы, иллюстрированные журналы и рабочую корзиночку Габриэллы. Из кухни доносился приглушенный стук. Я еще не видел садовника.
– У тебя столько земли, – сказал Пьеретто Поли, – почему бы тебе не пахать ее?
Поли ответил на это только смутной улыбкой, а Орест сказал:
– Это не для него. Он не попользуется ею даже для охоты. Кончится тем, что его отец все продаст.
– А зачем ему пахать землю? – спросил я Пьеретто, подняв глаза от журнала.
– Человек, переживающий душевный кризис, всегда пашет землю, – сказал Пьеретто. – Это наша общая мать, и она никогда не обманывает своих детей. Ты бы должен был это знать.
– Но как бы то ни было, – проговорил Поли, – в сентябре вы сможете устроить здесь облаву.
Никто ничего не сказал. Я подумал, что до сентября осталось каких-нибудь десять дней, и спросил себя, удобно ли здесь жить все это время. Вроде бы подразумевалось, что мы останемся. Я ничего не сказал и снова открыл журнал.
К завтраку Габриэлла спустилась в халате, и от нее пахло солнцем. Она села в углу, затененном опущенными жалюзи, и, смеясь, опять завела с Орестом разговор об охоте.
XIX
Итак, Орест тоже остался жить в Греппо. Иногда он уезжал на велосипеде и приезжал опять. Холм, можно сказать, пекся на августовском солнце: жимолость и дикая мята образовывали вокруг него невидимую стену, и хорошо было бродить по его склону и, добравшись до той границы, за которой начинался грабовый лес, возвращаться назад, подобно насекомым и птицам, которых отпугивала густая тень. Казалось, мы, как мухи в меду, увязаем в этой духмянной и солнечной благодати. В первые дни мы после полудня спускались все вместе по крутым откосам к заросшим травой виноградникам, а однажды, обойдя весь холм, через заросли ежевики вышли к маленькой почерневшей и полуразвалившейся беседке, в которой сквозь щели видно было небо. Но ни от ограды, ни от аллеи, которая вела к ней, не осталось и следа; склон был сплошной целиной, хотя когда-то здесь был сад с красивым павильоном. Орест и Поли называли эту беседку китайской пагодой и вспоминали то время, когда она еще утопала в жасмине. Теперь, подходя к ней, мы услышали шорох в крапиве – должно быть, там бегали полевые мыши или ящерицы. Но это запустение не навевало грусти – тем более дикой и девственной казалась окрестность. Наши голоса, глохшие в кустарнике, не могли нарушить ее покой. Мысль о том, что от зарослей, озаренных ярким летним солнцем, веет смертью, была верна. Здесь никто не жил, никто не вскапывал землю, чтобы извлечь из нее что-нибудь: когда-то попробовали и бросили.
Пьеретто сказал Габриэлле:
– Не понимаю, почему вы с Поли не проводите зиму в этой беседке. Питались бы кореньями. Обрели бы душевное спокойствие… Летом природа отвратительна. Настоящая оргия плоти и соков. Только зимой душа вступает в свои права.
– Что это тебя разбирает? – сказал Орест.
Габриэлла бросила;
– Вот сумасшедший.
Поли улыбнулся. А Пьеретто продолжал:
– Будем искренни. Природа в августе непристойна. Откуда берется столько мешков семян? Так и несет совокуплением и смертью. А цветы, животные в течке, падающие с деревьев плоды?
Поли смеялся.
– Зимой, – крикнул Пьеретто, – земля по крайней мере погребена. Можно подумать о душе.
Габриэлла посмотрела на него, посмотрела на Поли, и на губах ее промелькнула улыбка.
– Зиму я знаю, как провести, – проговорила она, – а этот непристойный запах мне нравится.
В первые дни, когда Поли и Пьеретто вели долгие беседы, мы вместе с Габриэллой частенько спускались до середины склона и, сидя на краю откоса, курили, глядя на крохотные деревья, видневшиеся на равнине.
В отличие от Поли, который ни слова не говорил об окрестностях, Габриэлла расспрашивала Ореста об окружных селениях, дорогах, церковках. Ее интересовало, как живут крестьяне, и где прошло детство Ореста, и где здесь охотятся. Мне больше всего нравилось смотреть с высоты на дубовое урочище, красноземное Момбелло двоюродных братьев Ореста. Когда мы однажды заговорили о нем, Габриэлла с любопытством спросила, не там ли живет девушка Ореста. Я ответил: нет, но зато там живут два дельных человека, которые обрабатывают свои виноградники и ни в ком не нуждаются. Орест молчал. Мне казалось, что, восхваляя Давида и Чинто, я говорю о нем. Габриэлла сказала:
– Почему же они работают, раз они хозяева земли?
Я принялся объяснять ей, что то-то и хорошо, что только те, кто обрабатывает свою землю, достойны жить на ней, а все остальное – крепостничество. Она иронически покривила губы, казавшиеся бледными, оттого что лицо было такое загорелое, и проронила!
– Видно, это птицы невысокого полета.
Прогуливаясь с ней и с Орестом по склонам холма, дышавшим запахом мяты и пересохшей земли, я не мог избавиться от мысли, что для тех, кто находится на винограднике в Сан-Грато, этот холм обозначает горизонт и что на фоне неба он кажется им островком в океане. Не знаю, думал ли об этом Орест, вообще говоря, не в его характере было думать о таких вещах. Я сказал ему шутя:
– Если бы ты родился в Греппо, у тебя на горизонте было бы вон что. – Я указал пальцем на равнину, где белели поселки. – Тебе не хочется больше уехать, поколесить по свету?
– Там одни только рисовые поля, – сказал Орест, – а за ними Милан…
– О, Милан, – протянула Габриэлла, – не говорите о нем плохо, рано или поздно мне придется туда вернуться.
В эти первые дни я думал также о том, что Габриэлла мне нравится и что нет ничего худого в том, чтобы быть с ней рядом. Одни – Орест, Габриэлла и я – мы могли говорить непринужденно, тогда как в присутствии Поли чувствовали себя не в своей тарелке. Нам не приходила в голову мысль ни о нем, ни о Розальбе, и, если кто-нибудь из нас случайно упоминал о тех днях, которые мы провели с ними в Турине, Габриэлла первая, улыбнувшись, переводила разговор на другую тему. Но по большей части мы разговаривали мало: Орест по обыкновению молчал, а я не мог окончательно избавиться от скованности, потому что чувствовал какую-то отчужденность Габриэллы, чувствовал наигранность даже в том, как она смеялась, хлопая в ладоши. Пьеретто, может быть, мог преодолеть это чувство, но и он при ней следил за собой. В глубине души я больше всего любил думать о ней, о том, что мы живем в Греппо и она тоже здесь живет и так же, как мы, вдыхает запахи зарослей. Лучше всего было, когда мы спускались к гроту или к виноградникам – есть дикие плоды, валяться на траве, жариться на солнце. Мы всегда находили какой-нибудь уголок, пригорок, буерак, где мы еще не были, что-нибудь такое, чего мы еще не видели, не трогали, не вобрали в себя. В воздухе был разлит крепкий, как нигде, августовский солоновато-горький настой земли. И так приятно было думать обо всем этом ночью, при яркой луне, не затмевающей лишь редкие звёзды, и слушать доносящиеся со всех сторон отзвуки тайной жизни холма.
Орест назвал нам животных, которые водились в Греппо. Тут были сороки, сойки, белки, попадались сони. Были зайцы и фазаны. Но мне довольно было одних сверчков и стрекоз, которые пели днем и ночью, словно это был голос самого лета. Иногда я вздрагивал всем телом от их ошалелого стрекота – должно быть, он отдавался даже под землей, в змеиных норах, в путанице корней.
Я спрашивал себя, любили ли эту землю, эту дикую гору, как, мне казалось, любил ее я, хозяева Греппо – не Поли и Габриэлла, о которых не стоило и говорить, а их предок-охотник и сторожа, когда-то охранявшие имение. Уж конечно, они знали ее куда лучше, чем мы.
Присутствие Габриэллы, с которой я мысленно разговаривал, как подчас про себя спорил с Пьеретто, помогло мне понять одну вещь: запустение, царившее в Греппо, было символом неправильной жизни, которую вели она и Поли. Они ничего не давали холму, и холм ничего не давал им. Дикое расточительство земли и жизни не могло принести иных плодов, кроме внутренней пустоты и неудовлетворенности. Я снова и снова вспоминал виноградники Момбелло, грубое лицо отца Ореста. Чтобы любить землю, нужно возделывать ее и поливать своим потом.
На следующий день после того, как мы побывали в так называемой китайской пагоде, мы снова вернулись туда, и я улыбнулся, вспомнив слова Пьеретто о том, что природа летом отдает совокуплением и смертью. На эту мысль наводило даже оглушительное жужжание насекомых. И знойная духота в тени плюща, и жалобное квохтанье куропатки. Я оставил в полуразвалившейся беседке Габриэллу и Ореста, которые топали ногами и орали, чтобы вспугнуть куропатку, и вышел на солнце.
XX
По вечерам мы сидели на веранде, пили, слушали пластинки, играли в карты.
– До чего я никчемная, – говорила Габриэлла. – Меня не хватает даже на то, чтобы развлечь вас всех.
Время от времени она танцевала с кем-нибудь из нас и, пройдя круг-другой, садилась на место. В первые вечера мы молча слушали музыку и следили за ее на, за полетом голубой юбки.
– До чего я никчемная, – сказала она как-то раз, откидываясь на спинку кресла и вытягивая ноги. – Я устала жить.
– Кажется, она говорит серьезно, – заметил Пьеретто.
– Устала ото всего, – сказала Габриэлла. – Устала просыпаться по утрам, вставать, одеваться, устала от ваших умных разговоров. Я хотела бы пойти в остерию и напиться с грузчиками.
– Это мазохизм, – сказал Поли.
– Да, – сказала она, – я хотела бы, чтобы какой-нибудь мужчина задушил меня. Я не заслуживаю ничего другого.
– О, мы переживаем душевный кризис.
– Вот именно, – холодно отрезала Габриэлла. – Душевный кризис. Здесь это в моде. Будьте осторожны, Орест, не то и вы докатитесь до этого.
– Вы предостерегаете только его? – сказал Пьеретто.
Габриэлла скривила рот.
– По сравнению с ним мы шваль, – сказала она, и по ее взгляду я понял, что в это «мы» она включает и меня. – Только он один среди нас искренний и здоровый человек.
Орест так воззрился на нее, что мы засмеялись. Улыбнулась и Габриэлла.
– Ведь правда, вы всегда искренни и не знаете поэтому никаких душевных кризисов? – сказала она ему. – Вы хоть раз в жизни солгали, Орест?
– Кризис кризису рознь… – начал Поли.
– Еще бы, – добродушно сказал Орест. – Кому не случается приврать?
Тут Поли начал жаловаться и обвинять всех нас, Габриэллу, вообще людей в том, что они останавливаются на поверхности вещей, сводят жизнь к жалкой комедии, ограничиваются бессмысленными жестами и этикетками. Он говорил, что люди лезут вон из кожи и идут против совести ради самых пошлых материальных целей. Кто думает о местечке, кто о своих мелких пороках, кто о завтрашнем дне. Все копошатся, как муравьи, и заполняют дни болтовней и суетой.
– Но если мы хотим быть искренними, – сказал он, – что нам до этих пустяков? Конечно, все мы шваль. Так в чем же выход для человека, который переживает душевный кризис? Уж конечно, не в том, чтобы напиться с грузчиками, которые ни на волос не лучше нас. Выход только в том, чтобы углубиться в самих себя и понять, кто мы.
– Это пустая фраза, – сказал Пьеретто.
– Разве все остальное имеет какое-нибудь значение? – упрямо продолжал Поли. – Все остальное можно купить, все остальное могут сделать за тебя другие…
– Не у всех есть для этого средства, – перебил его Орест.
– Ну и что? Я сказал «могут», а не «делают». Все это вещи, которые не зависят от нас. Только одно никто не может сделать за тебя: сказать тебе, кто ты…
– Но ведь мы – шваль! – выкрикнула Габриэлла. – О Поли, неужели ты не согласен, что мы шваль?
– Поли утверждает другое, – заметил Пьеретто. – Что все мы склонны удовлетворяться этикеткой, ходячим мнением. Недостаточно знать, что мы шваль, этого слишком мало. Надо спросить себя почему, надо понять, что мы можем не быть швалью, что и мы созданы по подобию бога. Так приятнее.
Габриэлла подошла к проигрывателю и поставила новую пластинку. При первых нотах она обернулась, протянула руки и пропела умоляюще:
– Кто меня пригласит?
Встал Орест, а мы трое продолжали разговор. Теперь Поли принялся рассуждать о том, что если бог внутри нас, то незачем искать его вовне, в деятельности, в поступках.
– Если нам дано походить на него, – проговорил он, – то в чем же надо искать это сходство, как не во внутреннем мире человека?
Я следил глазами за голубой юбкой и думал о Розальбе. Я чуть было не сказал: «Эта сцена уже была», но тут заметил, как лицо Пьеретто осветилось странной улыбкой.
– Ты уверен, что это не старая ересь? – проговорил он.
– Это меня не интересует, – резко сказал Поли. – Для меня достаточно, чтобы это было верно.
– Тебе так важно походить на отца небесного? – сказал Пьеретто.
– А что же еще имеет значение? – убежденно сказал Поли. – Ты боишься слов? Назови это как хочешь. Я называю богом абсолютную свободу и уверенность. Я не задаюсь вопросом о том, существует ли бог; мне достаточно быть свободным, уверенным и счастливым, как он. А чтобы достичь этого, чтобы быть богом, человеку достаточно спуститься в самую глубину своего «я», познать себя до конца.
– Да бросьте вы! – крикнул Орест через плечо Габриэллы.
Мы не обратили на него внимания. Пьеретто весело сказал:
– И ты достигаешь этой глубины? Часто ты туда спускаешься?
Поли без тени улыбки кивнул.
– А я думал, – продолжал Пьеретто, – что лучше всего познают себя, когда рискуют собственной шкурой. К примеру, ты знаешь, что бы ты сделал, если бы наступил потоп?
– Ничего.
– Ты меня не понял. Я спрашиваю, не что бы ты хотел сделать, а что бы ты сделал. Что ноги заставили бы тебя сделать. Убежал бы? Упал бы на колени? Затанцевал бы от радости? Кто может сказать, что знает себя, пока не попал в переплет? Самопознание – всего лишь яма для нечистот; душевное здоровье обретают на вольном воздухе, среди людей.
– Я был среди людей, – сказал Поли, понурив голову, – я с детства среди людей. Сначала колледж, потом Милан, потом жизнь с ней. Я поразвлекся, ничего не скажешь. Думаю, это происходит со всеми. Я знаю себя. И знаю людей… Нет, это не тот путь.
– Мне не хочется умирать, – проплывая мимо нас, сказала Габриэлла, – потому что тогда я больше никого не увижу.
– Вы себе танцуйте! – крикнул Пьеретто. – Но она права, – сказал он Поли. – А вот ты, значит, видишь бога в зеркале?
– Как это? – сказал Поли.
– В силу логики. Раз мир тебя не интересует и твой взгляд устремлен на бога, которого ты несешь в себе, то, пока ты жив, ты будешь видеть его в зеркале.
– Почему бы нет? – сказал Поли со спокойным видом, который меня поразил. – Никто не знает собственного лица.
Музыка смолкла. В тишине сквозь оконные стекла был слышен стрекот сверчков.
– На нас опять нападает тоска, – сказала Габриэлла, подойдя к нам под руку с Орестом. – Вы нам надоели.
Мы все вышли из дома и при свете огромной луны, всходившей в это время, пошли по дороге.
– Хорошо бы было, если бы поблизости находилось какое-нибудь заведение, – сказал Пьеретто, – тогда у нас была бы цель.
Габриэлла, которая вместе с Орестом шла впереди нас, сказала:
– Негодник. Смотрите, если вы опять заговорите о потопе.
Я шел между двумя парами, вдыхая запахи земли, луны, жимолости. Мы прошли мимо насыпи, где росли кактусы. На кустах и стволах деревьев, рассеянных по склонам, играли отсветы луны. Чувствовалось легкое дуновение ветерка, словно дыхание ночи.
Впереди Орест болтал о том, что с ним случилось, когда как-то раз он ехал верхом, а позади Поли спорил с Пьеретто:
– Есть своя ценность в чувственной жизни, в грехе. Немногие люди знают пределы собственной чувственности… вернее, знают, что она безмерна, как море. Для этого требуется мужество, и человек может освободиться, только исчерпав ее до дна…
– Но у нее нет дна.
– Это нечто такое, что переносит нас по ту сторону смерти, – говорил Поли.
XXI
Я подтрунил над Орестом по тому поводу, что он уже три дня не ездил в селение и спал в комнате на первом этаже, рядом с комнатой кухарки.
– Ему я доверяю, – сказала Габриэлла.
По утрам Орест поднимался наверх, будил меня, и мы курили у окна.
– Сегодня я встал еще затемно, – сказал Орест, – с раннего утра бродил по лесу.
– Что же ты не свистнул мне? Я бы пошел с тобой.
– Мне хотелось побыть одному.
Я сделал такое лицо, какое сделал бы в подобном случав Пьеретто, и мне самому стало неприятно. Орест опустил глаза, как нашкодившая собака.
– Тут кто-нибудь замешан?
Орест, не отвечая, глядел на свою сигарету.
– Пойдем на балкон, – сказал он.
На балкон вела деревянная лестничка, кончавшаяся люком. Мы никогда не поднимались туда. Там в полдень загорала Габриэлла.
Мы на цыпочках прошли по коридору. Лестничка чертовски заскрипела под нашей тяжестью. Орест вылез первый.
Мы попали в маленькую лоджию, которую заливало утреннее солнце. Снаружи ее закрывал кирпичный парапет, а на столбиках, обегавших ее вокруг, были укреплены рейки, служившие подпорками для вьющихся растений. На парапете стояли вазы с ярко-красной геранью, а из-за него выглядывали темные верхушки сосен.
– Неплохо. Эта женщина умеет жить.
Орест в замешательстве смотрел по сторонам. У стены стояли скамеечки для ног и сложенный шезлонг, на крючке висели купальные халаты. Я подумал, что тому, кто лежит в шезлонге, должно быть, видно только небо и герань.
– Милый мой, – сказал я Оресту. – Нет надобности брать ее на болото. Она уже чернее нас.
– Ты хочешь сказать, что она загорает таким же манером?
– Тебя она не приглашала сюда? – сказал я, улыбаясь, и мне опять стало неприятно. Орест не сводил глаз с купальных халатов.
– Вот счастливцы муравьи и шершни, – сказал я. – Ну, пошли.
Кто был виноват в том, что произошло? Я со своими шуточками? Еще теперь, думая об этом, я во всем виню Греппо, луну, разговоры Поли. Я должен был бы сказать Оресту: «Поедем домой». Или поговорить об этом с Пьеретто. Он, пожалуй, мог бы его спасти. Но Пьеретто, который понимает все, в эти дни ничего не замечал.
Впрочем, и мне самому нравилась тайная игра. Приближался полдень, и Габриэлла, которая все утро разгуливала по дому в шортах, болтала, хлопала дверьми, гоняла туда и назад Пинотту, Габриэлла вдруг исчезала, оставляя нас на освещенной солнцем лужайке среди сосен или на покойной веранде, где мы по очереди читали вслух. Мы с Орестом обменивались быстрым взглядом – это был наш секрет, и время для нас как бы приостанавливалось, слишком медлительное, тягучее в этот солнечный час. Однажды утром, когда Поли пошел наверх и немного задержался там, я заметил, что Орест бледнеет. Я не испытывал ревности к Оресту; я всерьез не думал о Габриэлле, да и не задавался вопросом, думает ли он о ней. Мне доставляла удовольствие эта игра, вот и все; она была такая же безобидная, как тайна болота, и все же, я скрывал ее от Пьеретто. С его характером он был способен заговорить об этом за столом.
Когда я подумал, не сказать ли Оресту: «Но ведь тебя ждет Джачинта, разве не так?», я понял, что уже поздно. Это было в то утро, когда на мое обычное подмигивание Орест не ответил: его будто подменили. Габриэлла объяснилась с ним. На заре, после ночной грозы, они вместе вышли из дому, и я видел из окна, как они, смеясь, шли назад. Как раз в это утро Поли не вышел из своей комнаты. Внизу я нашел Пьеретто и Пинотту, которые о чем-то вполголоса разговаривали, и Пинотта угрюмо посмотрела на меня. Пьеретто сказал, что опять началась старая история.
– Этот кретин нанюхался.
Пинотта рассказала, что ее позвали очистить блевотину с одеял.
– И часто это бывает?
– Всякий раз, как они перепьются, – сказала она.
Накануне вечером мы не пили ничего, кроме апельсинового сока. От духоты и первых вспышек молний всем было как-то тягостно, не по себе, а у меня это настроение обратилось в ощущение неловкости, даже в настоящее чувство вины, и, переведя разговор на Греппо, где мы загостились, я сказал, что пора уезжать. Все – в том числе и Габриэлла – набросились на меня: мол, здесь нам очень хорошо и предстоит еще много всего.
– Ни у кого, кроме Пинотты, нет оснований жаловаться, – сказал Поли. – Но Пинотта не может жаловаться.
Тогда (молнии озаряли сосны) я сказал, что не понимаю, зачем они приехали в Греппо побыть наедине, если нуждаются в нашем обществе.
– Вот нахал, – сказала Габриэлла, но тут загремел гром, мы пошли домой, и больше об этом разговора не было.
Теперь Пьеретто поднялся со мной в мою комнату, и мы заговорили о рецидиве наркомании у Поли.
– Я этого ожидал, – говорил Пьеретто. – Этот кретин не на шутку пристрастился к кокаину. Что толку, что отец держит его в деревне. Через час Поли поднимется, – продолжал он. – Опасности нет. С избранниками бога это бывает.
– В данном случае тут замешан Орест, – заметил я.
Пьеретто скривил рот. Он думал о Поли.
– Это испорченный ребенок, – сказал он. – Виноват в этом наш мир, где некоторые загребают деньги лопатой. Получается так, что их дети, вместо того чтобы отплывать от берега, как все, оказываются в глубокой воде, когда еще не умеют плавать. Вот они и захлебываются. Ты знаешь, какую жизнь он вел в детстве по милости родителей?
Он рассказал мне скверную историю о служанках и гувернантках, которыми Поли был окружен в Греппо до тринадцати-четырнадцати лет. Они научили его разным глупостям, главной из которых было, что богатыми рождаются и что его маму другие женщины должны почитать, хотя перед богом, разумеется, все – его дети. Одна, служанка взяла его к себе в постель, когда ему еще не было двенадцати лет, и в течение нескольких месяцев высасывала из него все соки. Мало того, она водила его в лес, и там они тоже баловались, так что он сделался развратником еще раньше, чем стал мужчиной.
– Для него жизнь и состоит из таких вещей, – говорил Пьеретто. – Он таскал у матери снотворное, чтобы одурманить себя. Жевал табак. Бил по щекам служанок, чтобы иметь предлог обнимать их и прижиматься к ним…
– Он свинья, вот и все, – сказал я нетерпеливо. – Причем тут деньги? Не все, кто ровня ему, похожи на него.
– То-то и есть, что похожи, – сказал Пьеретто. – Но что бы там ни говорила его жена, он наивнее других. И знаешь, он всерьез верит в то, что говорит. Увидишь, если он не умрет, то сделается буддистом.