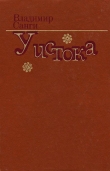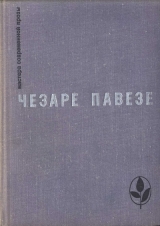
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
– У тебя один недостаток. Не умеешь доводить дело до конца.
Но дела – они своим чередом идут. Карлетто никуда не уехал. Однажды вечером меня кто-то окликнул. Передо мной стоял Карлетто. Он был без пальто.
– Продал, – сказал он, – я снова на мели. Ты чего не здороваешься?
За разговором мы незаметно дошли до «Маскерино». Увидев, что я хочу пройти мимо, он с обычной своей усмешкой сказал:
– Не волнуйся. Там уже давно никто не бывает.
Мы вошли в бар.
– Ты что, в больнице лежал? – спросил он.
– Я бы не прочь, да только не кладут туда тех, у кого аппетит хороший.
Я подумал: «Еще неизвестно, кому из нас двоих хуже». Протянул ему недокуренную сигарету и с грустью посмотрел на его осунувшееся лицо.
– Ты с тех пор никого не видел? – спросил он.
– Никого.
Я заказал крутое яйцо и сказал ему:
– Ешь.
– А ты что же, не будешь? – удивился он. – Раньше ты вроде на аппетит не жаловался.
В тот вечер мною овладело злое веселье. Карлетто наконец-то на все открыл мне глаза. Мы закусили, выпили, я слегка похлопал его по горбу и сказал:
– Знаешь, я даже рад, что Лубрани снова надул тебя.
– А ведь в Риме меня Дорина ждет, – сказал он. – Там уж с голоду не умрешь.
– Ты уверен, что ждет?
– Ручаться никогда нельзя, – засмеялся он, – никогда.
Мы еще несколько раз виделись с ним после этого. Спал Карлетто в театре, в каморке ночного сторожа.
– Лубрани мне хоть ложе предоставляет, – сказал он, – а вот Лили это и в голову не пришло.
– Ты ее больше не видел?
– Я же тебе говорил, что продал пальто.
Мне было приятно помочь ему. За обеды платил я. Словно со мною рядом была женщина, которая нуждалась в помощи.
– Как только заработаешь немного денег, купишь себе билет и укатишь в Рим, – сказал я. – А жаль расставаться.
– Когда вернусь в Рим, сразу расплачусь с тобой.
– Болван ты. Разве о деньгах речь?
Как-то он даже зашел ко мне домой. Карлоттина встретила моего друга весьма недружелюбно и метнула на него свирепый взгляд. Карлетто сказал ей:
– Почему бы нам не попробовать петь вместе? – Он взял гитару и стал ее настраивать. – Создадим трио. Мы с вами, синьора, будем петь, а Пабло играть. Станем шататься по площадям, и вы будете обходить народ с шапкой.
Он еще долго донимал ее, Карлоттина в ответ что-то бурчала себе под нос. Того и гляди обзовет его «проклятым горбуном». Тогда я взял гитару и вышел с ним на улицу.
Наконец Карлетто нанялся петь по вечерам в кино. Где-то у черта на рогах, далеко за Дора.
– Поверь мне, что театр, что кино – разницы большой нет, – объяснял он.
Там ему больше помогал горб, чем голос. Он пел песню про одного еврея, у которого горб рос быстрее, чем у беременных женщин живот. Потом появлялись две девушки, колотили Карлетто по спине трехцветным флажком, поддавали ему под зад и распевали «Убирайся вон из Италии». В зале кто смеялся, кто свистел.
Лишь несколько вечеров выступал он там, заработал двадцать лир, а потом его выгнали на все четыре стороны. Чтобы подбодрить его, я предложил вместе ходить по дворам и петь.
– На худой конец обольют нас водой.
– Ну что ж, я готов, – сказал Карлетто.
Я взял гитару, и мы отправились с ним по глухим дворам. Пошел я на это скорее из любопытства. Я мог больше заработать за одну поездку с Мило, но мне хотелось помочь Карлетто. И мне даже доставляло какую-то горькую радость это добровольное унижение. Я тешил себя мыслью, что вот, кажется, я уже совсем прибит к земле, раздавлен, а все не сдаюсь. Так мы бродили по дворам все утро. Потом перенесли свои концерты со дворов на улицу. Мне было все равно где играть, но Карлетто совсем охрип. Я только подыгрывал ему и следил, не покажется ли привратник. Но подбирать деньги, которые бросали служанки, я не мог. Мне это казалось столь же унизительным, как собирать окурки. Я очень удивлялся, когда сверху сыпались монеты.
– Это твои, ты и собирай, – говорил я Карлетто. Обычно и двух лир не набиралось.
Я бросил Мило и связался с Карлетто. С ним день тянулся не так долго. О Линде мы не говорили. С меня хватало того, что Карлетто и так все знал. Я все еще был оглушен тем, что со мной произошло. Меня грызла тоска, я не мог смотреть на женщин. По утрам еще было совсем свежо, а вечерами привольно, как в поле. Должно быть, так сейчас на море. Иногда я думал, что Линда ведь могла бы ко мне вернуться, и мне становилось жалко и ее тоже. Сколько раз она бросала Лубрани и возвращалась ко мне. Может, она-то и страдала больше всех и шутила потому, что наперед знала, чем все кончится. Наверно, и Амелио понял ее игру, которая и мне теперь стала ясна. Значит, все было заранее решено с того самого дня, когда она впервые зашла в магазин и спросила, как ей найти Пабло. И снова мне стало так тошно: ведь, выходит, я был лишь игрушкой в ее руках.
– С тобой, Карлетто, не случалось, – спросил я, – чтобы все было решено еще до того, как ты что-либо сделал?
Он ответил, что со всеми такое бывает. Всегда находится человек, который становится тебе поперек дороги, и ты хочешь поступить по-своему и не можешь.
– А ведь хорошо всегда поступать по-своему.
– Конечно, но слишком многим хочется тобой командовать.
– Но я не о том говорю. Я говорю о том, что делается под настроение. Ну там стаканчик выпьешь, сигаретку выкуришь, с девушкой погуляешь.
– Слишком многие и тут хотят командовать. Насчет выпивки и курева тоже решает хозяин.
– Ну а насчет девушек?
– За тебя решает хозяин. Если не получишь работы и останешься без гроша, можешь с девушками распрощаться.
Я не понимал, куда он гнет. А он ждал, и в глазах у него зажегся лукавый огонек. У меня-то ведь другое на уме было, совсем другое.
– Посмотри, что они сделали с Италией, – сказал он. – Можешь ты по своему желанию хоть пальцем пошевелить? Дадут тебе работу, если ты разные там документы не представишь? Позволят тебе хоть на кусок хлеба заработать, если ты им низко не поклонишься?
– Вожу ведь я машину без всяких прав.
– Ты можешь только на гитаре играть. Да притом украдкой. И даже петь не имеешь права, не то с тебя штраф сдерут.
Да, гитара, подумал я. На гитаре я, конечно, могу играть, когда мне вздумается. С Карлетто поболтать. Конечно, в таких мелочах я сам себе хозяин. Но есть ведь вещи поважнее, те, что человека к земле пригибают и от нас не зависят. Придавят, точно грузовиком, будешь задыхаться, как от воспаления легких, и при этом всегда кто-нибудь стоит сзади да руки от удовольствия потирает.
– Так ты, значит, думаешь, что бог всеми делами заправляет? – сказал Карлетто. – Тогда выходит, – задумчиво добавил он, – что бог повсюду: он и с нищими и с теми, кто на Торре Литториа в роскоши живет.
Наступили по-весеннему теплые, душистые вечера. Я бы многое отдал, чтобы, как прежде, ходить с Линдой в «Парадизо». Такие ночи и впрямь созданы для любви. Теперь я часто останавливался у витрин, где была выставлена дамская одежда. Мило уговорил меня брать в поездки гитару. Однажды в воскресенье в Пьянецце он заставил меня играть, сидя на парапете моста, когда мимо проходили девушки. Они даже танцевать стали. С моста было видно всю долину, и мне казалось, что я стою у балюстрады в Генуе. Тут я понял, что свихнулся не на шутку. Мне вдруг захотелось сбросить этих девушек с моста, и счастье еще, что у нас с собой было вино и что Мило поднял меня на смех. Нет, с меня довольно. Я понял: отныне все, что связано с Турином, – и работа, и родной дом, и улицы, по которым я бродил, – не могут принести мне успокоения. И даже мысль о том, что Карлетто есть нечего, меня больше не волновала. Я стал бесчувственной скотиной. Мне надоело видеть его голодные глаза, ведь я знал, что, будь у него деньги, он бы тоже бросил меня.
– Можешь этого не опасаться, – сказал он, – не поеду же я в Рим оборванцем, не имея костюма. В таком виде мне там нельзя показываться.
Он говорил о Риме с упоением, как Мило о женщинах. Рассказывал, что Рим огромный город, где все что-то едят и другим есть дают.
– Там такое изобилие, что это даже в воздухе чувствуется. Никто на ночь дверей не запирает. Пьют и едят прямо на улице.
– А таких вот, с Торре Литториа, в Риме много?
Он понизил голос и, подмигнув, сказал:
– Кое-кто там думает и об этом. Я знаю парней что надо.
Потом он рассказал, что улицы в Риме как бы убегают вверх, а за домами видны пинии.
– Можешь дневать и ночевать на улице, – добавил он. – Сейчас в Риме настоящее лето. Весь город – как одна большая остерия, и небо там всегда ясное. Ходишь-бродишь, куда душе угодно, а хочешь – отправляешься за город. Повсюду люди закусывают, веселятся. Ты бы со своей гитарой там разбогател.
Кончилось тем, что однажды утром я сказал Мило;
– Я еду в Рим.
– Это тебе не Пьянецца, – ответил он. – Туда и обратно шесть дней езды.
– Я хочу остаться в Риме.
– Поезжай лучше поездом, дешевле выйдет.
– Да ведь нас двое.
Мило посмотрел на меня и сказал:
– Ладно, договорились.
XII
Когда я приехал в Рим на грузовике, который раздобыл для нас Мило, я был доволен, что проделал такой длинный путь и что на свете существуют другие края, города и горы и столько всяких мест, которых я никогда не видел. Приехали мы ночью. Карлетто спал, прислонившись к плечу шофера. Мы остановились поужинать в горном селении; там в маленькой таверне, где на стене висели воловьи рога, а крестьяне кричали и ругались не хуже господ, я перестал наконец вспоминать о доме. «Хорошо, – подумал я, – что хоть здесь Амелио никогда не был».
– На этот раз, – сказал я Карлетто, – мы поступили как хотели.
– Как знать, – ответил он. – Просто нам пока везет.
Ночь выдалась холодная; шофер по моей просьбе высадил нас у какого-то селения на берегу реки. Я не хотел ночью вламываться в чужой дом и будить людей.
– Пойдем до Рима пешком, – предложил я, – часа через три начнет светать.
Но у нас был багаж и еще гитара.
– Ну а если ночной патруль заметит? – с тревогой спросил Карлетто.
Дорина жила на площади возле моста.
– Это мост Мильвио, – сказал Карлетто.
Я шел и все оглядывался по сторонам. Дома здесь высокие, попадаются даже десятиэтажные, и все холмы залиты светом. На улицах не было ни души.
– Знаешь, Карлетто, мы точно по центру Турина идем, а ведь это самая окраина, – с удивлением заметил я.
Проснулся я в незнакомой комнате и увидел, что лежу на низеньком диванчике. Ночевал я не в доме Дорины. Ночью, завидев нас, Дорина, ее мать и дочки подняли такой крик, что выбежали все соседи, и, поскольку у Дорины в доме свободного места не оказалось, меня приютила толстая старуха, которая выскочила на лестницу в ночной рубашке. Они с Дориной начали орать не своим голосом, точно случилось несчастье. Но оказалось, что это обычный разговор двух римлянок, и старуха спокойно сказала, что я могу переночевать у нее – живет она одна, и ей очень нравится, когда молодые люди играют на гитаре. Она уложила меня в постель, и я был рад, что Карлетто и Дорина смогут насладиться встречей.
Разбудил меня уличный шум, но в доме было очень тихо, хотя время уже близилось к полудню. Я вдруг заметил, что воздух здесь совсем другой – более сухой и прозрачный, небо было июльской голубизны, каким бывает в Турине ясным январским днем.
– Чем это пахнет? – спросил я у старухи, которая убирала комнату.
– Кофе варится, – ответила она. – Не хотите выпить чашечку?
Но когда я вышел, то понял, что это был не только запах кофе. На площади перед двумя статуями, увенчивавшими мост, дорожные рабочие суетились вокруг котла с кипящим гудроном. «А ведь и Рим культурный город», – подумал я.
Мы договорились, что ночевать я буду у старой Марины. Каждый день я встречался с Карлетто, и мы шли с ним к Дорине обедать. Дорина оказалась еще толще, чем на фотографии. Она скорее походила на мать Карлетто, но лет ей было не так уж много. Она расхаживала по дому в халате и все время покрикивала на своих двух дочек. Муж ее, социалист, сидел в тюрьме. Странное дело, Дорина понимала толк в пении, да и сама прежде была певицей, но об искусстве никогда и не заговаривала. Вообще она обращалась со мной и с Карлетто, как с двумя повесами и бездельниками. Но, оставшись вдвоем со мной, она сразу сказала, что я просто сокровище, что я не должен ни о чем беспокоиться и спокойно отдыхать. Я предложил ей денег, но она отказалась. Карлетто она объявила, что в театре его ждут. Он отправился туда, и его сразу приняли. Я подумал, что когда женщина относится к тебе как к сыну, то либо она уже замужем, либо ты горбун. Но как это Карлетто мог, ни о чем не задумываясь, жить с ней, у меня просто в голове не укладывалось. Нет, он еще настоящий мальчишка, этот Карлетто. Когда я ему сказал, что все могу понять, но не представляю себе, как можно украсть жену у человека, который сидит в тюрьме, он ответил, что жену всегда у кого-нибудь крадут и надо устраиваться – ведь в один прекрасный день ее и у тебя украдут.
– Но ведь он в тюрьме, – сказал я.
– Он это заранее знал, – невозмутимо ответил Карлетто. – Тот, кто садится в тюрьму, понимает, что женщине нужен друг сердца. В Риме нельзя жить без любовника.
Мы вышли вместе с Дориной и отправились в тратторию поужинать. Она любила провожать своего Карлетто до варьете. Представления давались на небольшой сцене кинотеатра в центре города, зрители в зале кричали и переговаривались между собой, словно они собрались на площади. Карлетто, как только кончался его номер, присоединялся к нам. Мы ели салат и блинчики, пили сухое вино. Сначала оно мне пришлось не по вкусу, но потом я распробовал его как следует и пил с удовольствием.
– Судьба моя такая, – пожаловался я как-то Дорине, – куда ни приеду, только и знаю, что в остериях время провожу.
– У тебя, наверно, нет своего дома, – сказала она.
Вообще-то на «ты» мы перешли с ней позже, но в тот вечер она впервые так обратилась ко мне.
– Да я только что из дому: мне там мать и сестра уже порядком надоели.
– У нас тебе будет хорошо, – сказала она, – и, если захочешь обзавестись собственным домом, оставайся здесь.
Я смотрел на нее и смеялся. Мне нравилась в Риме эта лень, которая точно была разлита в воздухе. Здесь и вино пили по-иному, чем в Турине, не торопясь и не до бесчувствия. Все – и люди, и дома, и белое вино – нравилось мне и вселяло бодрость. Я знал, что смогу здесь жить и работать, что столько дорог и гор осталось позади; и каждый день мне казалось, будто я только что слез с грузовика и что мне теперь никакие пути не заказаны. Если мною овладевала тоска по Турину, я сжимал кулаки, начинал кружить по комнате и, устремляя свой взор вверх, твердил про себя: «Пабло, ведь ты в Риме». И постепенно успокаивался. Да, теперь я стал другим.
Пока я жил на свои скромные сбережения, и горя не знал. Марина брала за комнату сто лир, да еще поила меня кофе и стирала белье. Взамен я угощал ее апельсинами и однажды даже сыграл на гитаре. Она тоже была толстой, но такой старой, что с трудом двигалась. По утрам она бродила по дому в одной рубашке и юбке, смотрела, как я бреюсь, и все удивлялась, до чего же я еще молодой. Раньше на этой кровати, рассказывала она, спала красивая девушка, еще красивее Дорины, свежее и моложе ее. Она тоже причесывалась перед этим зеркалом, умывалась над этим вот умывальником. Она была брюнеткой, звали ее Розария.
– Сколько она берет? – не поворачиваясь, спросил я.
Марина громко рассмеялась.
– Вы, туринцы, народ хороший, – продолжала она болтать. – Только вот финоккьо [24]24
Финоккьо – съедобный корень тмина.
[Закрыть] есть не умеете. Хотите сразу до мякоти добраться и все вкусное выбрасываете. А у финоккьо мякоти нет.
– Иногда он в горле застревает, – ответил я.
Она добавила, что насчет Розарии я ошибаюсь. Два года назад ей счастье привалило: она была в Фреджене и подцепила там богатого синьора. Теперь ей, наверно, половина Рима принадлежит.
– Понятно, финоккьо, значит, купается в оливковом масле, – пошутил я.
Марина стала объяснять мне, что Рим – это бездонная бочка. Она ерзала на стуле и вздыхала.
– Эх, если бы я не была такой старой, – сокрушалась она. – Мы, римлянки, очень уж любим сладко поесть и побездельничать. А что из этого получается, по мне и Дорине видно. Раньше-то, в молодости, я жила в Кампителли; в воскресенье, пока доберешься сюда, всю душу вытрясет. Ты небось думаешь, что все эти дома, дороги и дворцы на виа Фламинио и до самой этой площади римляне строили? Уж можешь мне поверить, не они. Другие строители, такие же парни, как ты, из разных там городов. У нас были только камни, а кто знал, что это деньги?
– Я тоже не знал, что из камней можно делать деньги, – пошутил я.
– Не разыгрывай из себя Карлетто, – сердито сказала она. – Я вот вижу, ты с гитарой не расстаешься, и так мне за тебя больно. Хоть мне и приятно слушать твою игру, но я хочу, чтобы ты добился большего. Возьми, к примеру, дуче. Он ведь тоже из ваших краев.
Поговорив с ней, я выходил из дому и шел бродить по городу. Рассматривал улицы и дворцы, среди них были такие старые, что их, конечно, только римляне и могли построить. Мне как-то не верилось, что эти дворцы могли воздвигнуть простые парни, вроде меня. Здесь и дышалось по-иному, словно сам воздух был другой. Я останавливался на мосту, смотрел, слушал, как тараторили римляне. Таких холмов и таких ярких цветов в наших краях и не встретишь. Эта толстуха Марина много всякой ерунды наболтала. Мне хорошо здесь потому, что все кажется новым, необычным. И все-таки, когда я проходил иногда лунным вечером по мосту Мильвио и смотрел на холмы, встающие за Тибром, на чернеющие вдали рощи, мне казалось, что это рощи по берегам моего родного По и склоны Сасси. С холмов все местности одинаковы. Мне эти места нравились больше, чем дворцы Рима. От моста шла платановая аллея, напоминавшая мне Валентино или Ступиниджи. По мосту мчались грузовики, уезжавшие из города. В остериях обедали дорожные рабочие и каменщики, стоял запах извести, а на дороге целый день раздавались удары кувалд и кирок.
– Видишь, и в Риме работают вовсю, – сказал мне Карлетто. – Наш импресарио восседает в Палаццо Венеция[25]25
Палаццо Венеция – резиденция Муссолини.
[Закрыть]. Откуда только такие деньги берутся, никто не знает. Строят башни, мосты, уборные. Неважно что, лишь бы строить.
– Но ведь люди живут.
– Люди живут и на каторге. Там даже кормят бесплатно.
А однажды старая Марина меня отчитала. Она пересмотрела всю мою одежду и осталась очень недовольна.
– Так ты, значит, не фашист, – разочарованно сказала она. – Даже черной рубашки у тебя нету.
– Разве это обязательно?
– Священника по сутане узнают. Тебе мать что, этого не говорила? Ты в Рим зачем приехал – зарабатывать деньги или проживать последнее? – Она покачала головой и добавила: – Ты поберегись. И похитрей тебя люди за решетку попадали.
Карлетто и Дорина ненавидели фашистов смертельной ненавистью. Но это не мешало Дорине порой набрасываться на Карлетто. Когда ее дочки не возвращались вовремя домой, когда они что-нибудь разбивали или их прогоняли с площади мальчишки, члены балиллы, бабушка начинала причитать, что живут они, как на улице, а другие еще носят эту форму. Дорина принималась кричать, что если уж мужчина не понимает, что кругом делается, то чего можно требовать от них, женщин? В каких только грехах не обвиняла она Карлетто и своего арестованного мужа. Денег они не накопили, отравили ей лучшие годы, и все ее мечты разлетелись в прах. Карлетто она упрекала за то, что он умеет лишь смеяться да издеваться над другими, а муж ее как был наивным мечтателем, так и остался.
– Будь я мужчиной, – восклицала она, – уж я бы…
– Ну, что бы ты сделала? – смеялся Карлетто. – Ведь ты и сейчас получше многих живешь.
Я вспомнил, как однажды мы сидели вечером с Амелио в кабачке и зашел разговор о политике. Кто-то стал громко доказывать, что дуче все правильно делает и теперь нам, итальянцам, живется лучше, чем прежде, а болтать языком попусту всякий умеет. «Поэтому ты лучше и помолчи», – сказал Амелио. И так посмотрел на защитника дуче, что у того пропала всякая охота говорить.
Но наедине со мною Дорина никогда не заводила разговора о фашистах. Когда мы выходили вместе из дому, чтобы встретить Карлетто, она расспрашивала меня о Турине, об ателье мод и сама рассказывала, что пошла в театр так, из каприза, и тогда в Генуе все продала: шубы, драгоценности, даже голос. И смеялась.
– Не знаю уж почему, но вы, туринцы, мне нравитесь, – как-то сказала она. – Вы сумасшедшие, насмешники и упрямцы. И все-таки, не будь у меня семьи, я, может, и решилась бы…
Я вел ее под руку и думал о Турине. «Пабло, помни, ты теперь в Риме, – настойчиво твердил я себе, – ты в Риме».
– А по Турину ты не скучаешь? – вдруг спросила она. Потом стала грустной и заговорила о своих годах: – Старшая дочка уже кокетничает с мальчиками, знаешь.
Тут подошел Карлетто и сказал:
– Ага, попались.
В нашей траттории Дорина была общей любимицей. Поначалу я решил: верно, потому, что прежде она пела в театре, да и теперь ее еще частенько просили спеть. Но однажды вечером я услышал, как один из сидевших за столиком с восхищением сказал приятелю: «Вот это женщина!» – и понял, что обоим им Дорина кажется красивой. Мне страшно захотелось рассказать о своем открытии Карлетто. «В Риме у людей даже вкусы другие, – в изумлении подумал я. – Вот ведь какие им женщины нравятся». Когда мы возвращались домой, я заметил, что многие мужчины оборачивались ей вслед. «Что ж, Дорине это только приятно», – порадовался я за нее.
Почти полдня мы проводили в остерии, и очень скоро я убедился, что Карлетто прав, когда говорил, что Рим – одна большая остерия, где жизнь бьет ключом. И верно, в остерию приходили целыми семьями, приносили с собой цыпленка, салат, фрукты, заказывали вина и с аппетитом принимались за еду. Я вспомнил «Маскерино», куда постоянно заглядывали артисты. Теперь я понял, что «Маскерино» просто грязная, жалкая дыра, которую посещали лишь захудалые артисты да проститутки. Здесь же собирались люди со всего квартала, и все пели, веселились, попивали вино, закусывали. Я вспомнил ту ночь в «Маскерино», когда мы сидели с Карлетто и его друзьями, римскими артистами, и следующий день, и еще следующий, и столько всего вспомнил.
Наступил апрель и принес тепло; двери домов распахнулись, в остерию залетал свежий ветерок, и все улицы были словно усыпаны звездами. Ко мне приставали, чтобы я принес в остерию гитару – нашлись там и другие гитаристы. Я играл, Карлетто сыпал шутками, и скоро все начали называть меня просто Пабло.
XIII
Немножко заработать оказалось не так трудно, и скоро я убедился, что в Риме полным-полно таких вот Пабло. Все приятели убеждали меня сговориться с хозяином какой-нибудь остерии и играть там для посетителей. Теперь Карлетто не нуждался в моей помощи, и я, гуляя по городу, заглядывал в мастерские, заходил в гаражи и спрашивал, не нужен ли им работник. Я хотел и в Риме устроиться механиком или шофером. Но одни требовали от меня шоферские права, другим надо было дать взятку, третьи не верили, что я из Турина.
– Да ведь я приехал на грузовике, – доказывал я. – И водить его умею.
«Какую я глупость сделал, что не записал номер того грузовика, на котором мы с Карлетто приехали в Рим».
В двух шагах от дома Марины, на виа Кассиа, была мастерская, где ремонтировали велосипеды, а иногда седла и конскую сбрую. Даже непохоже было, что эта мастерская находится в Риме.
Паренек, работавший в этом сарае, сказал мне:
– Тебе надо поговорить с Бьондой[26]26
Бьонда – по-итальянски блондинка.
[Закрыть].
Я и в самом деле ожидал увидеть блондинку, но ко мне вышла женщина с лицом цыганки, в брюках и клетчатой блузе. Она посмотрела на мой галстук и ботинки – галстук был приличный, ботинки дырявые – и спросила:
– А рекомендации у тебя есть?
– Пока что нет.
Она взяла меня на работу.
Неподалеку от мастерской рабочие строили мост, и вечно кому-нибудь требовалось починить велосипед. Пиппо, подручный Бьонды, лишь проверял отремонтированные велосипеды да развозил заказы. Хозяйка была вдовой, ее муж недавно умер, и она боялась, как бы не растерять всех клиентов. На нас она бросала злые взгляды и говорила только по делу, видно, не доверяла нам. Она была из тех женщин, которые могут прогнать своего мужа, а потом плакать о нем по ночам. Пиппо сказал мне, что ночью она бродит по дому, как лунатик; лицо у нее было худое, глаза мрачные, как и полагается вдове. Она целые дни просиживала в задней комнате и через окошечко в стене наблюдала за нами. Вечером подсчитывала у себя за столиком выручку и платила мне поденно. Спала она в темном углу, и воздух в ее комнатушке был спертый, пахло керосином. Когда я приходил утром, она ждала меня у дверей, потом исчезала, даже не поздоровавшись. На вид ей было лет тридцать.
Первым делом я как следует вычистил нашу мастерскую и потребовал от Бьонды положить Пиппо определенное жалованье: до этого он жил на чаевые. Я велел ему накачивать велосипедные камеры и часто посылал с поручениями. Установил для него распорядок дня, но нередко разрешал ему уйти пораньше. Потом я сказал Бьонде, что нам нет смысла возиться с упряжью, тем более что никто из нас не умеет ее толком чинить. Иногда у нашей мастерской останавливалась разукрашенная, как на карнавале, тележка возчиков вина из окрестных селений, которым надо было починить подпругу – грошовая работа. Я убеждал Бьонду не браться за это, но она и слушать не хотела – ее родные всю жизнь только этим и занимались. Я ничего ей не возразил, но возчикам стал отвечать, что мы с Пиппо заняты. Бьонда поняла мою хитрость, но предоставила нам действовать по-своему. Зато старая Марина никак не могла примириться с тем, что я работаю поденным рабочим.
– Нашел себе работу в какой-то дыре, – возмущалась она. – И что ты за человек такой? Зачем, спрашивается, ты в Рим-то приехал? Разве здесь кто знает, что ты играть умеешь?
Потом она принималась за Дорину и доказывала ей, что я вовек не выбьюсь в люди, если буду работать как простой поденщик.
– А твой Карлетто пальцем не пошевелит, чтобы ему помочь, – упрекала она Дорину, – пусть Пабло хоть с голоду подыхает, как последний нищий. У парня золотые руки, а он и в ус не дует.
Но Дорина сказала ей, что со мной в Турине приключилась одна неприятность. После этого она на несколько дней умолкла, а Дорина, едва завидев меня, начинала улыбаться и лукаво подмигивать. Они о чем-то тайком переговаривались с Мариной, но Карлетто, конечно, вскоре узнал эту тайну и тоже стал загадочно посмеиваться. Наконец однажды вечером Марина отозвала меня к окошку и спросила, отпраздновал ли, я уже Пасху. Я не сразу понял, к чему она клонит; она живо сунула мне в руки образок.
– Носи его всегда в кармане, он тебе счастье принесет.
– Я не верю в талисманы, – засмеялся я.
– Не говори так, ведь он священный, тебе поможет.
– Но я же не больной.
– Все мы больные, понял? Ты некрещеный, что ли?
Она была страшно рада моей уступчивости и, когда на следующий день Карлетто стал ей многозначительно подмигивать, весело сказала:
– Он еще мальчик, и женщине легче легкого его терзать.
Я не обращал внимания на все эти разговоры и продолжал работать у Бьонды. Как приятно было выйти вечером в город, зная, что в кармане лежат заработанные тобою деньги. Спускалась ночь, теплая римская ночь, цветы и деревья благоухали так, словно уже наступило лето. Я шел в тратторию и, проходя по мосту, все смотрел на темневшие вдали холмы с редкими пиниями и никак не мог понять, почему холмы эти голые, точно выжженные.
– Город пожирает все вокруг, – сказал Карлетто.
– Будет тебе чепуху нести.
– А ты думаешь, там земля такая, что ничего не растет? Посмотри, сколько зелени в самом Риме. Просто город точно утюгом прошелся по окрестным селениям и оставил после себя пустыню.
Когда я спросил у Карлетто, видно ли с холмов или с Собора святого Петра хоть клочок моря, он ответил, что мне надо самому поскорее съездить к морю. Не сказав никому ни слова, я в одно прекрасное утро сел в трамвай и поехал за город. Слез я в Остии и пошел на пляж. Вспомнил, как мне приснилось, что я бегу за Лили по берегу моря. Давно уже мне не снились женщины. Я шел по мокрому песку, и мне казалось, что я иду по лугу. Потом сел на песок и стал глядеть, как, пенясь, набегают на берег волны. Посидел немного и пошел дальше, к черневшим вдали пиниям, на ходу отшвыривая ногой мусор. Внезапно мне вспомнилось, как Амелио нашел на пляже шарф Линды.
Вернулся я домой вечером и все еще чувствовал на губах соленую влагу моря. Теперь я понимал, почему в Риме люди на улицах шумели и весело смеялись, и не только толстосумы, но и бедняки с окраин. Стоило лишь взглянуть на небо над головой, чтобы понять, что море рядом. Сидя у окон, у дверей, на балконах домов, все, даже последние бедняки, вдыхали этот запах моря. Подсобные рабочие, каменщики, ребятишки, молоденькие девушки, весь бедный люд Рима высыпал на улицу, громко разговаривая и смеясь. Однажды утром мне повстречался отряд фашистов. Они тоже хохотали. Только что закончился их слет, и теперь они, горланя песни, возвращались домой.
– Они тут как сыр в масле катаются, – зло сказал Карлетто. – Ты когда-нибудь видел, чтобы человек пил и ел вволю и был недоволен?
– С виду они вроде народ добродушный.
– Это тебе не Турин. В Рим приезжают, чтобы жирку поднакопить, фруктов всласть поесть. Вот попробуй отнять у этих добродушных фашистов лакомый кусочек, тогда увидишь, что будет.
– А сколько здесь таких, что одни кости грызут, ты не считал? – спросил я Карлетто. – В Италии тьма-тьмущая бедняков, которым есть нечего, а спроси их, так они все за фашистов.
И тут у меня с ним начался такой же разговор, как прежде с Амелио. Но Амелио скажет, бывало, несколько слов, потом тряхнет головой и добавит: «В общем, это пустяки», – и умчится на мотоцикле в Новару, где его ждали друзья. Я понимал, что он не доверяет мне, ведь я никогда газет не читал и о политике не любил говорить. Обо всем этом я часто думал здесь, в Риме. Как хотелось бы мне, чтобы он вдруг оказался рядом.
А сейчас Карлетто говорил со мной, как тогда Амелио. Он сказал, что кое в чем я сам виноват. И объяснил, что таких, как я, много; все мы ничего не делаем, а только поглядываем. Почему победили фашисты? Потому что многие умыли руки. Вот им и удалось захватить Рим. Нам нужно было выступить всем вместе, сопротивляться.
– Что же ты собираешься делать? – спросил я. – Отвоевывать Рим обратно?
В тот вечер мы бродили с ним, пока не погасли уличные фонари. Подолгу стояли у перил моста и не могли наговориться. Карлетто рассказал, что многие старые антифашисты уцелели и готовы продолжать борьбу. Некоторые эмигрировали за границу, другие сидят по тюрьмам. Все борются по мере сил и держат связь друг с другом.