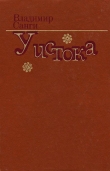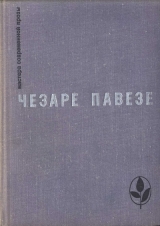
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)
Разговор зашел о Пьеретто, который жил только в городе и привык к другой жизни.
– Ничего, его жалеть не приходится, – сказал я смеясь, – ему еще никогда не было так хорошо.
И я рассказал о его сумасшедшем отце, который таскал их с места на место, так что им случалось жить и в монастырях, и на виллах, и в мансардах.
– Он любит позубоскалить и почесать язык, но не по злобе – просто у него такой веселый характер, – сказал я. – Когда познакомишься с ним поближе, видишь, что он лучше, чем кажется.
Мать продолжала месить тесто.
– Не взыщите, здесь, кроме как с Орестом, вам будет не с кем поговорить, – сказала она. – Мы женщины темные.
Это было наименьшее из зол. Я не сказал ей этого тут же, но был рад, что в доме были только пожилые женщины и девочки. Представьте себе только девушку нашего возраста, скажем родную сестру Ореста, и нас вокруг нее. Или ее подругу, какую-нибудь Карлотту. А тут самой старшей девочкой была одиннадцатилетняя Дина, та, что за столом, засмеявшись, зажимала себе рукой рот.
Когда я спросил, нет ли в селении табачной лавочки, мать велела Дине проводить меня туда. Мы вышли на площадь и пошли в ту сторону, откуда я утром пришел. Ветер улегся; в тени сидели женщины и старики, выбравшиеся из дому подышать свежим воздухом. Мы прошли мимо сада с далиями, и я заметил, что между домами зияет пустота, а вдали вровень с нами вырисовываются вершины холмов, как острова в воздушном океане. Люди подозрительно поглядывали на нас; маленькая Дина шла рядом со мной, чистенькая и причесанная, и что-то болтала себе под нос. Я спросил ее, где папины виноградники.
– У нас хозяйство в Сан-Грато, – сказала она и указала на желтый гребень нашего холма, горбатившийся над домами за площадью. – Там белый виноград. А еще в Розотто, где мельница. – И она указала на долину, где по пологому склону стлались луга и заросли кустарника. – А там, за станцией, справляют праздник. В этом году он уже был. Пускали фейерверк. Мы с мамой смотрели с балкона…
Я спросил, кто обрабатывает землю.
– Как это кто? – сказала она и от удивления даже остановилась. – Крестьяне.
– А я думал, ты и твои сестрички с папой.
Дина хихикнула и испытующе посмотрела на меня, стараясь понять, не шучу ли я.
– Что вы! – сказала она. – Нам некогда. Мы должны следить, чтобы батраки работали как следует. Папа всем командует, а потом продает урожай.
– А тебе хотелось бы обрабатывать землю?
– Это мужская работа, от нее делаются черными – солнце печет.
Когда я вышел из лавочки, помещавшейся в полуподвале, где пахло серой и сладкими рожками, Дина чинно ждала меня.
– Многие женщины загорают на море, – сказал я. – Теперь это модно – загорать до черноты. Ты уже видела море?
Разговора на эту тему Дине хватило на всю дорогу. Она сказала, что на море она поедет, когда выйдет замуж, не раньше. На море одна не поедешь, а кто ее мог отвезти туда сейчас? Орест был еще молод для этого.
– Мама.
Мама, по словам Дины, была женщина старой закваски и считала, что нельзя шагу ступить, пока не выйдешь замуж.
– Пойдем посмотрим церковь, – сказал я.
Церковь была на площади – большая, из белого камня, с ангелами и святыми в нишах.
Я откинул портьеру, и Дина проскользнула внутрь, перекрестилась и стала на колени. Мы огляделись в прохладной полутьме. В глубине церкви, как кусок торта, белел алтарь, виднелось множество цветов и горела лампада.
– Кто приносит цветы мадонне? – шепнул я Дине.
– Девочки.
– А когда в поле собирают цветы, разве не загорают? – сказал я тихо.
Выходя из церкви, мы в дверях столкнулись со старухой – это была Джустина. Она степенно посторонилась, потом узнала меня, узнала девочку и расплылась в улыбке. Воспользовавшись ее изумлением, я спустился по ступеням. Но Джустина, не выдержав, обернулась и сказала мне вслед:
– Вот это я понимаю. Прежде всего бог. Вы уже видели благочинного?
Я пролепетал, что зашел сюда невзначай, просто из любопытства.
– Чего вы стесняетесь? – сказала она. – Вы прекрасно поступили. Не поддавайтесь ложному стыду. Вы меня очень утешили…
Мы оставили ее на ступенях, а когда шли через площадь, Дина сказала мне, что старуха вечно торчит в доме священника и бросает стирку, стряпню, любую работу по дому, лишь бы не пропустить службу.
– Где бы мы были, если бы все поступали так же, как ты? – говорила ей мать.
– В раю, – отвечала Джустина.
Были в этот день и другие происшествия, другие встречи, а вечером мы пили, ели и гуляли по селению при свете звезд. Я думал обо всем этом на следующий день, лежа голый в луже под палящим солнцем, в то время как Орест и Пьеретто плескались, как дети.
В этой яме было настоящее пекло, а над собой я видел раскаленное добела небо, и у меня кружилась голова и рябило в глазах. Мне вспоминались слова Пьеретто о том, что в полях пылающее августовское солнце вызывает мысль о смерти. Он был прав. В той сладкой дрожи, которую мы испытывали от сознания, что мы голые и прячемся от всех взглядов, в том упоении, с которым мы купались и валялись, как бревна, на солнцепеке, было что-то зловещее – скорее звериное, чем человеческое. Я замечал корни и плети, которые, как черные щупальца, выглядывали из высокой стены расщелины – то были знаки внутренней, тайной жизни земли. Орест и Пьеретто, более, чем я, привыкшие ко всему этому, возились, прыгали, болтали. Они вдоволь поиздевались над моими бедрами, пока еще постыдно бледными.
Никто не мог застать нас врасплох в этой норе – через кукурузу бесшумно не пройдешь. Мы были в безопасности. Орест, лежа в воде, говорил:
– Загорайте, загорайте. Прожаримся на солнце – станем здоровыми, как быки.
Странно было, находясь здесь, думать о том, что происходит наверху, о людях, о жизни. Накануне вечером мы погуляли по селению, прошлись вдоль низкой каменной стены, опоясывающей площадь. Возбужденные вином и свежим воздухом, мы смеялись, здоровались с людьми, которых встречали, слушали, как поют. Кучка молодых парней приветливо окликнула Ореста; священник прогуливался в тени и поглядывал на нас. Незначащие слова и шутки, которыми мы, почти не различая лиц в сгущающейся темноте, обменивались то с женщиной, то со стариком, то между собой, вселяли в меня странное веселье, праздничное и беспечное чувство, а веяние теплого ветра и мерцание звезд и далеких огней сулили продлить его на всю жизнь. Ребятишки, оглушительно крича, гонялись друг за другом по площади. Мы строили планы, говорили о селениях, рассеянных по склонам и гребням холмов, где мы собирались побывать, о винах, которые надо попробовать, об удовольствиях, которые нас ждут, о сборе урожая.
– В сентябре, – сказал Орест, – будем ходить на охоту.
Тут я вспомнил о Поли.
XI
Мы сразу заговорили о нем под стрекот сверчков.
– Греппо внизу, – говорил Орест, – там, где вон та кучка звезд. Оно только чуть выглядывает из-за плато: на заре виднеются вершины сосен…
– Двинем туда. Пошли, – сказал Пьеретто.
Но Орест сказал, что на ночь глядя туда идти не стоит и что Поли наверняка еще на Ривьере.
– Если только он там не загнулся.
– Он чувствовал себя хорошо. Теперь уж он поправился…
– А может, в него пульнула другая.
– Что же, это ему на роду написано?
– Как, – крикнул Пьеретто, и ветер подхватил его голос, – разве ты не знаешь, что то, что с тобой случается один раз, потом повторяется? Что как ты поступил один раз, так поступаешь и всегда. Не случайно некоторые люди не выбираются из бед. Это называется судьба.
О Поли опять зашел разговор на следующий день за столом, когда мы вернулись с болота. Орест, обведя взглядом домашних, сказал:
– Знаете, кого я видел в этом году?
Когда он рассказал историю с ранением, рассказал про Розальбу, зеленую машину, ночные поездки и после града жадных вопросов и восклицаний наступило ошеломленное молчание, мать сказала:
– Он был такой красивый ребенок. Помню, как они проезжали в карете с раскрытыми зонтиками от солнца. Его держала на руках кормилица в кружевной наколке… Это было в тот год, когда я ждала Ореста.
– Ты уверен, что это Поли из Греппо? – бросил отец.
Орест снова принялся рассказывать всю историю, начиная с той ночи на холме.
– А кто эта женщина? – спросила мать, бледная от волнения.
Девочки слушали с раскрытым ртом.
– Мне жаль отца, – сказал отец Ореста. – Такой человек! Он был, можно сказать, хозяином Милана. Вот чем иногда кончается дело, когда денег куры не клюют.
– Ничего, – сказал Пьеретто, – с деньгами не пропадешь. Отец Поли все уладил. Такие вещи сплошь и рядом случаются в хороших семьях.
– Только не здесь, – сказал Орест. – У нас такого не бывает.
Тут вмешалась старая Джустина. До сих пор она только слушала, переводя взгляд с одного на другого, готовая в любую минуту ринуться в бой.
– Синьор прав, – сказала она, стреляя глазами в Пьеретто, – везде водятся эти грехи. Если бы родители не давали детям воли, не предоставляли бы их самим себе, как собак, а держали бы в руках, спрашивали бы с них…
Она долго продолжала в том же духе, опять напустившись на танцы и морские купания. Сестра раз-другой что-то шепнула ей и взглядом указала на Дину и младших девочек, но не смогла ее остановить. К счастью, это удалось старой Сабине, то ли служанке, то ли бабушке, то ли тетке, сидевшей в конце стола, которая, моргая глазами, спросила, о ком идет речь.
Когда ей объяснили – старуха была туга на ухо, и, чтобы она расслышала, приходилось кричать, – она пропищала, что дом в Греппо отперт, что муж портнихи со станции видел, как туда повезли баулы, что насчет Поли она не знает, а женщины наверняка уже там.
В тот день мы поднялись в Сан-Грато, на гребень холма, где нас встретил отец Ореста, который с сиесты был на виноградниках. Его батраки опрыскивали шпалеры купоросом. Сгорбленные, в заскорузлых от пота блузах и штанах, пестревших синими пятнами, они кружили на солнцепеке, накачивая из железных ранцев голубоватую воду. С виноградных листьев капало, насосы шипели. Мы остановились у большого бака, полного этой невинной на вид воды, глубокой и непрозрачной, как голубое око, как перевернутое небо. Мне было странно, что надо обрызгивать грозди этой ядовитой жидкостью, которой были изъедены широкие шляпы батраков, и я сказал это отцу Ореста.
– Ведь когда-то, – заметил я, – выращивали виноград без этого.
– Кто его знает, – сказал он и что-то крикнул парню, ставившему в траву бутылку, – кто его знает, как поступали когда-то. Только теперь полно болезней.
Он опасливо посмотрел на небо и пробормотал:
– Лишь бы ненастье не нагрянуло. А то обмоет виноград, и придется его сызнова опрыскивать.
Орест и Пьеретто позвали меня сверху; они прыгали под развесистым деревом.
– Идите, идите есть сливы, – сказал мне отец Ореста, – если только их птицы не склевали.
Я прошел через выжженное солнцем жнивье и присоединился к ним на макушке холма. Чудилось, мы на небе. Внизу, под нами, виднелась площадь селения, казавшаяся отсюда крохотной, и неразбериха крыш, лестниц, сараев. Хотелось прыгать с холма на холм, хотелось все обнять взглядом. Я посмотрел на восток, где кончалось плато, отыскивая вершины сосен, о которых говорил Орест. В распадок между склонами лился ослепительно яркий свет, и горизонт дрожал перед глазами. Я невольно зажмурился, не различив ничего, кроме марева.
Отец Ореста подошел к нам, подпрыгивая на комьях пашни.
– Благодать у вас тут, – сказал Пьеретто с набитым ртом. – Дурак ты, Орест, что не живешь здесь.
– Я хотел, – сказал отец, глядя на Ореста, – чтобы этот парень занимался в агрономическом училище. Обрабатывать землю становится все труднее.
– У нас в селении, – вмешался я, – говорят, что любой крестьянин понимает в этом больше агронома.
– Само собой, – сказал отец, – первое дело практика. Но теперь никак не обойдешься без химии и удобрений, и чем учиться на врача, чтобы приносить пользу другим, лучше бы он научился хозяйствовать с выгодой для себя.
– Медицина – это тоже агрономия, – весело сказал Орест. – Здоровое тело что поле, которое дает урожай.
– Но если не исхитришься, тебе это ничего не даст.
– А что, много болезней у винограда? – спросил Пьеретто.
Отец Ореста обернулся и обвел взглядом виноградник, где над шпалерами поднимались голубоватые облачка.
– Хватает, – сказал он. – Земля вырождается. Может, и верно, что когда-то, как говорит ваш товарищ, в деревне не знали всех этих хвороб, но факт тот, что теперь стоит на минуту отвернуться, назавтра жди беды…
Не видя Пьеретто, я почувствовал, что он ухмыляется.
– Земля вроде женщины, – продолжал отец Ореста. – Вы еще холостые, но в свое время узнаете: у женщины каждый день что-нибудь не слава богу – то голова болит, то спину ломит, то месячные пришли. Ну да, должно быть, все дело в месяце – всходит он или заходит… – Он невесело подмигнул.
Пьеретто опять ухмыльнулся.
– Что ты там рассказываешь, – вдруг набросился он на меня, – будто деревня изменилась. Деревню делают люди. Ее делают плуги, химикалии, нефть…
– Ясное дело, – сказал Орест.
Поддакнул и отец.
– …В земле нет ничего таинственного, – сказал Пьеретто. – Мотыга тоже научный инструмент.
– Я вовсе не говорил, что земля изменилась! – воскликнул я.
– Боже мой, – сказал отец Ореста, – как много значит мотыга, видно, когда поле не обрабатывают. Тогда его не узнать. Оно кажется пустошью.
Теперь я в свою очередь посмотрел на Пьеретто и усмехнулся, но ничего не сказал. Он сам заговорил:
– Болото – другое дело.
– Что значит – другое дело?
– Ну, не то что, например, этот виноградник. Тут царствует человек, а там – жаба.
– Но ведь жабы и змеи водятся повсюду в деревне, – сказал я. – И сверчки тоже, и кроты. И растения везде одинаковые. На пустоши и здесь корни одни и те же.
Отец Ореста рассеянно слушал нас. Вдруг он обернулся и сказал:
– Хотите видеть, что такое пустошь, – ступайте в Греппо. Боже мой, у меня сегодня целый день не выходит из головы этот малый и его отец. Теперь кое-что становится понятно. А ведь какое имение! Когда был жив дед, они покупали только масло и соль. Паршивое дело – иметь землю и не жить на ней…
XII
Каждый день мы спускались к болоту, а по дороге вволю болтали и смеялись. Хорошо было утром: в низинах трава была еще мокрая от росы и, даже когда мы уже лежали в расщелине под палящим солнцем, спину еще холодила сыроватая, остывшая за ночь земля. Теперь нам знаком был каждый уголок в зарослях кустарника, каждый просвет, каждый утренний шорох или шелест. Подчас в самую жару наплывало огромное белое облако, и тогда на затененной поверхности воды четче обозначались перевернутые отражения крутого откоса, каких-то цветков, неба.
Эти солнечные ванны стали для нас, можно сказать, порочной привычкой, хотя мы уже загорели везде. В первое воскресенье, когда мы не отправились на болото, а пошли к обедне и, стоя на паперти среди принаряженной толпы, в которой взад и вперед шмыгали ребятишки, слушали службу, заглушаемую звуками органа и колоколов, я про себя думал о том, как хорошо было бы сейчас лежать голым на солнцепеке, чувствуя под собой влажную землю. Я шепнул Пьеретто, который угрюмо смотрел в затылок Оресту:
– Ты представляешь себе этих людей голыми на солнце, как мы?
Он даже ухом не повел, и я вернулся к своим мыслям. У нас с Орестом вышел спор на винограднике (вторую половину дня мы обычно проводили в Сан-Грато, а в тот раз Пьеретто куда-то запропастился): существует ли где-нибудь такой заповедный уголок, такая глухомань, куда никто никогда ногой не ступал, где испокон века времена года, дождь и вёдро сменялись без ведома человека. Орест говорил, что нет, что не сыщется ни буерака, ни лесной чащобы, которых не потревожили бы рука или глаз человека. По крайней мере охотники, а в былые времена разбойники побывали везде. Нет, а крестьяне, крестьяне, говорил я. Охотники не в счет. Охотник живет той же жизнью, что и дичь, за которой он охотится. Меня интересовало, добрался ли крестьянин, именно крестьянин, до самых глухих мест, всю ли землю он общупал. Можно сказать, изнасиловал.
Орест сказал:
– Кто его знает.
Но видно было, что он не понимает, какое это имеет значение. Он тряхнул головой и бросил на меня насмешливый, как у матери, взгляд.
Мы сидели на валу виноградника и, когда поднимали глаза, видели, как колышутся молодые побеги. Если смотреть снизу на виноградник, который взбирается к самой вершине холма, кажется, что ты где-то между небом и землей. У ног – пересохшие комья пахоты и искривленные корневища, а перед глазами – зеленые фестоны листьев и ряды лоз, которые касаются облаков. А тишина такая, что невольно вслушиваешься в себя.
– Тот возчик, которого я встретил на станции, – вдруг вырвалось у меня, – сказал, что виноградники всегда были.
– Возможно, – сказал Орест, – только в былые времена, говорят, плети сосисками подвязывали, а под кустами текло молоко.
– Ты вот смеешься, – сказал я, – а даже города были всегда. Пусть грязные, захудалые – кучки лачуг да пещер, но были. Где человек, там и город. Надо признать, что Пьеретто прав.
Орест пожал плечами. Так он всегда оканчивал споры – способ не хуже всякого другого.
– До чего ему, наверное, не по нутру, – сказал он вдруг, – когда мать на ночь запирает дверь. Ведь он полуночник – бывало, до утра один шатался по всему Турину.
– Надо будет нам как-нибудь ночью выйти погулять, – сказал я. – Мне хочется посмотреть на холмы при луне. Вчера уже показался серпик месяца.
– На море мы купались при луне, – сказал Орест. – До чего приятно: как будто пьешь холодное молоко.
Они ни разу мне не говорили об этом. Мне вдруг стало грустно. Я почувствовал себя одиноким, и во мне шевельнулась зависть.
– Время идет, а виноград все никак не созреет, – сказал я. – Когда же мы вернемся в Турин?
Орест не мог про это слышать. Он сказал, что не понимает, чего мне еще надо: я ем досыта, пью хорошее вино, целый день ничего не делаю…
– Вот то-то и оно, – сказал я. – Мы ничего не делаем, а твоя мать работает. Все здесь работают на нас.
– Тебе скучно? – сказал Орест. – Или ты боишься, что доставляешь слишком много беспокойства? Ерунда. Ты даже тете Джустине угодил.
(Это я настоял, чтобы мы пошли к обедне – просто из уважения к семье Ореста.)
– Ну что, сегодня на мельницу не пойдем?
Мы каждый день спускались с холма в котловину, где находилась вторая усадьба, слонялись по гумну, пили пиво, которым угощал нас отец Ореста. Но что было хорошо в Россотто, так это сенокос, луга, заросшие клевером, выводки гусей. Под вечер мы играли в шары с работниками Пале и Кинто, а Орест ходил по делам на станцию.
– По-моему, – говорил Пьеретто, – тут дело нечистое. Из Генуи он каждый день кому-то отправлял письма.
Орест, когда с ним заговаривали об этом, только смеялся и качал головой. Так было и в тот раз, когда, проходя мимо домика с геранью на окнах у железной дороги, он крикнул «добрый день» и ему откликнулся молодой и веселый голос. Орест сказал нам, чтобы мы шли дальше, и завернул за угол.
– Так, значит, – сказал Пьеретто, когда он показался на гумне, – это дочь начальника станции?
Орест опять засмеялся и ни слова не сказал.
Благословенным уголком была эта Мельничная котловина. Даже у шлагбаума, где скоплялись повозки и ревела скотина, чувствовалось какое-то особенное, ласковое веяние: станционные домики и клумбы приводили на память городскую окраину в майские вечера, когда девушки гуляют по бульвару и откуда-то тянет запахом сена. И даже раздетые и разутые батраки из Россотто под впечатлением проносящихся поездов толковали о пиве и о велосипедных гонках.
Вечером после сенокоса мы пили не пиво, а вино. Отец сказал нам: «Приходите засветло» – и, накинув на плечи пиджак, стал подниматься вверх по тропинке. На станции царило какое-то праздничное оживление, и Оресту пришлось извиняться за то, что он задержался там дольше обычного. Из погребов Россотто достали бутылку, потом другую. От этого вина все больше пересыхало в горле. Мы трое пили его под навесом, выходившим в луга. Я не понимал, то ли от воздуха такая сладость в вине, то ли от вина – в воздухе. Казалось, я пью аромат сена.
– Это фрагола[19]19
Фрагола – вино, выделываемое из американского сорта винограда, имеющего земляничный привкус.
[Закрыть],– сказал Орест. – Ее привезли нам мои двоюродные братья из Момбелло.
– Ну и дураки мы, – говорил Пьеретто, – днем и ночью ломаем себе голову, в чем секрет деревни, а этот секрет у нас здесь, внутри.
Потом мы задумались, почему это в Турине мы любили захаживать в остерию, а с тех пор, как были в деревне, ни разу по-настоящему не выпили.
– Для этого нужно идти куда-нибудь вечером, – сказал я, – не можем же мы пьянствовать в твоем доме.
– Зато теперь пей сколько влезет, – говорит Орест, – здесь нам никто не помешает.
Зашел разговор о лошадях. В Россотто была двуколка, как раз на троих, и Орест сказал, что ее в любое время можно заложить.
– Поедем к моим двоюродным братьям в Момбелло, – предложил он. – Мне хочется их повидать. Они парни что надо. Рано утром уедем, а вечером вернемся.
– Тогда мы останемся без купания, – проговорил я. – Сегодня утром я был от этого сам не свой.
– Ну и наплевать, – промычал Пьеретто. – Мне опротивело видеть тебя голым.
– Тем хуже для тебя, – сказал я.
– Но ты же урод уродом! – крикнул Пьеретто. – Только пьяный я смогу и дальше переносить это зрелище.
Орест налил нам опять.
– Вот уж это невозможно, – бросил я. – Нельзя быть голыми и пьянствовать.
– Почему нельзя? – спросил Орест.
– И нельзя спать с женщиной в лесу. В настоящем лесу. Любовь и выпивка требуют такой обстановки, в которой живут цивилизованные люди. Однажды я катался на лодке…
– Ничего ты не понимаешь, – перебил меня Пьеретто.
– Ну, ты катался на лодке… – сказал Орест.
– С одной девушкой, и она не кобенилась. Мы бы с ней поладили. Но я не смог. Сам не смог. Мне казалось, что я кого-то или что-то оскорбил бы.
– Это потому, что ты не знаешь женщин, – сказал Пьеретто.
– Но ведь ты же раздеваешься догола на болоте? – сказал Орест.
Я признался, что делаю это с замиранием сердца.
– Мне кажется, что я совершаю грех, – сказал я. – Может, потому-то это и приятно.
Орест, улыбаясь, кивнул. Я понял, что мы пьяны.
– Недаром, – добавил я, – такие вещи делают тайком.
Пьеретто сказал, что тайком делают много таких вещей, в которых нет ничего греховного. Это просто вопрос обычая и хороших манер. Грешно только не понимать, что ты делаешь.
– Возьми Ореста, – сказал он. – Он каждый день тайком ходит к своей девушке. Это в двух шагах отсюда. Они не делают ничего непристойного. Сидят в саду, разговаривают, может быть, держатся за руки. Она его спрашивает, когда он получит диплом и станет самостоятельным. Он отвечает, что ему еще год учиться, потом отбывать военную службу, потом найти место коммунального врача – выходит, через три года, так ведь? – и виляет хвостом, и целует ей косу…
Орест, пунцовый от смущения, тряхнул головой и потянулся за бутылкой.
– И ты считаешь, что это грех? – сказал Пьеретто. – Эта сценка, это жениховство, по-твоему, грех? Но Орест мог бы нам довериться и рассказать о ней. Настоящие друзья так не поступают. Скажи же нам что-нибудь, Орест. Скажи хотя бы, как ее зовут.
Орест, красный как рак, улыбаясь, сказал:
– Как-нибудь в другой раз. Сегодня лучше выпьем.
XIII
Но я уже все знал от Дины. Как-то раз я застал ее на балконе, где она чинно сидела на табуретке и шила.
– Значит, ты скоро выходишь замуж, – сказал я.
– Сперва ваш черед, – в тон мне ответила она, – вы же молодой человек.
– Молодым людям спешить некуда, – сказал я. – Посмотри на Ореста, он об этом и не думает.
Последовала шутливая перепалка, и Дина, наслаждаясь моим изумлением, выложила мне все, что знала. Понизив голос и лукаво поблескивая глазами, она сказала, что Орест ухаживает за Чинтой; что домашние Чинты об этом знают, но здесь, у них, – никто; что Чинта дочь путевого обходчика и работает у портнихи; что она ловкая, умелая – сама шьет себе платья и ездит на велосипеде. Дина даже знала, что Чинта не пара Оресту – ее отец сам мотыжил свой виноградник – и поэтому в селении Оресту приходится делать вид, что между ними нет ничего серьезного.
– Она хорошенькая? – спросил я. – Тебе она нравится?
Дина пожала плечами.
– Мне-то что. Оресту жениться, пусть он и смотрит.
И в день сенокоса не кто другой, как Дина, заметила, что мы выпили.
– Сегодня вечером мы говорили с Орестом о Чинте, – шепнул я ей, когда мы сидели на ступеньках крылечка при свете молодой луны. А она, уставившись на меня широко раскрытыми глазами:
– Вы распили бутылку? И небось не одну?
– Откуда ты знаешь?
– За ужином вы все время прикрывали рукой стакан.
Я спрашивал себя, что за женщина выйдет из маленькой Дины. Смотрел на старух, на Джустину и других, на мать Ореста, сравнивал их с девушками из селения, которых можно было видеть на полевых работах, – черноволосыми, крепконогими, коренастыми и сочными. Это ветер, холм, густая кровь делали их такими ядреными и налитыми. Подчас, когда я пил или ел – суп, мясо, перец, хлеб, – я спрашивал себя, не стал ли бы и я таким же от этой грубой и обильной пищи, от земных соков, которыми здесь был напоен даже ветер. А вот Дина была беленькая, миниатюрная, тоненькая, с осиной талией. «Должно быть, и Чинта, думал я, хрупкая и стройная как лоза. Наверное, она ест только хлеб и персики».
Разразилась гроза, и проливной дождь, к счастью без града, исхлестал поля и размыл дороги. Это случилось в то утро, когда мы собирались уехать на двуколке. Мы провели его в доме, переходя от одного окна к другому, среди женщин и девочек, которые шарахались и визжали при вспышках молнии. Отец Ореста сразу надел сапоги и вышел. На кухне потрескивал хворост в печи, и трепещущие красноватые отсветы падали на гирлянды из цветной бумаги, медную утварь, изображения божьей матери и оливковую ветвь, висевшие на стене. От разделанного кролика на окровавленной доске для резки мяса пахло базиликом и чесноком. Дрожали стекла. Кто-то кричал сверху, чтобы закрыли окна. «А Джустины-то нет дома!» – ужасались на лестнице. «Ничего, – услышал я голос матери Ореста, – уж у нее-то всегда есть где схорониться».
Наступил момент какой-то странной уединенности, чуть ли не покоя и тишины во время потопа. Я постоял под лестницей, куда через слуховое окно летели брызги дождя. Слышно было, как падает и ревет плотная масса воды. Я представлял себе затопленные и дымящиеся поля, бурлящее болото, обнажившиеся корни и дождевые потоки, врывающиеся в самые сокровенные уголки земли.
Гроза кончилась так же внезапно, как началась. Когда мы с Диной и другими вышли на балкон, откуда были слышны громкие голоса, раздававшиеся во всех концах селения, усеянный листьями цемент кое-где уже просох. С долины дул ветер, и в небе, как вспененные кони, неслись облака. Почти черное море холмов, рябившее белесыми гребнями, казалось, придвинулось в приливе. Но не облака и не горизонт потрясали меня. С ума сводила упоительная свежесть, которая ощущалась во всем – и в сыром воздухе, и в мокрых ветвях и примятых цветах, и в остром, солоноватом запахе озона и напоенных влагой корней. Пьеретто сказал:
– Какое наслаждение!
Даже Орест жадно дышал и смеялся.
В это утро мы пошли не на болото, а в Сан-Грато, куда позвал нас отец Ореста посмотреть, велики ли убытки. Там наверху земля была усыпана паданцами, а попадались и сорванные с крыши, разбитые черепицы. Вместе с девочками мы собирали в большие корзины валявшиеся в грязи яблоки и персики, а кое-где поднимали прибитые к земле побеги. Любо было смотреть на маленькие, слабенькие цветочки, пестревшие на разлезшейся пахоте виноградника, которые, не успело выглянуть солнце, уже выпрямлялись и расправляли лепестки. Густая кровь земли была способна и на это. Все говорили, что скоро в лесах будет полным-полно грибов.
Но мы не пошли по грибы, а поехали на следующий день к двоюродным братьям Ореста. От станции лошадка повезла нас по проселочной дороге, поднимавшейся по отлогому склону. По сторонам тянулась кукуруза; изредка промелькнет рощица и опять кукуруза да кукуруза. Утреннее солнце уже сделало чудеса. Если бы не твердая и бугристая от засохшей грязи дорога и не освеженный ветром воздух, никто не сказал бы, что вчера бушевала непогода. Почти не замечая подъема, мы ехали среди полей то в легкой тени желтой акации, то между двумя стенами тростника.
Хутор двоюродных братьев Ореста, затерявшийся среди тростниковых зарослей и дубняка, находился в глубине плато, между невысокими холмами.
Мы уже подъезжали к нему, а я то и дело оборачивался, потому что незадолго до того, когда мы выехали из узкой ложбины между грядами валунов, Орест сказал, указывая куда-то в небо:
– Вон оно, Греппо.
Взглянув поверх тянувшихся к солнцу виноградных лоз, я увидел огромный лесистый косогор, темный от сырости. Он казался необитаемым – ни пашни, ни крыши.
– Это и есть имение? – проговорил я.
– Вилла на вершине, ее заслоняют деревья. Оттуда видны селения, которые лежат на равнине.
Стоило нам спуститься в низину, как Греппо скрылось из виду, и я все еще искал его среди деревьев, когда мы подъехали к хутору.
Сначала я не понял, почему Орест так восторженно говорил о своих двоюродных братьях. Это были взрослые мужчины – один даже с проседью, – рослые и плотные, с волосатыми ручищами, оба в клетчатых рубашках и штанах из чертовой кожи. Они вышли во двор и, не выказав никакого удивления, взяли нашу лошадь под уздцы.
– Это Орест, – сказал один из них.
– Давид! Чинто! – крикнул Орест, соскакивая на землю.
К нам бросились три охотничьи собаки; они то скалили зубы и рычали, то прыгали вокруг Ореста. На широком дворе земля была бурая, почти красная, как на виноградниках, через которые мы проезжали. Каменный дом был подсинен купоросом, которым опрыскивали вьющийся виноград. Одно окно на нижнем этаже зияло черным проемом.
Первым делом лошадь отвели в тень, под дуб, и оставили там остыть.
– Всё врачи? – спросил Давид, подняв на нас глаза.
Орест с жаром объяснил ему, кто мы такие.
– Пойдемте в холодок, – сказал Чинто и повел нас за собой.
Мы пили до конца дня, а в августе дни длинные. Время от времени один из братьев вставал, скрывался в винном погребе и выходил оттуда с полным графином. Наконец мы тоже спустились в погреб, и там Давид стал угощать нас вином прямо из бочки – продырявив мастику, наполнял запотевший стакан и затыкал отверстие пальцем. Но это было уже под вечер. А до этого мы обошли дом и виноградники, пообедали полентой, колбасой и дынями, смутно разглядели в темноте женщин и детей. Помещение было низкое, неуютное, как хлев; выходило оно в поля с вкрапленными там и тут дубами, над которыми тучей носились скворцы.
Возле хлева был колодец, и Давид достал из него ведро воды, набросал туда гроздей винограда и сказал, чтобы мы ели. Пьеретто, сидя на чурбане, смеялся как ребенок и без умолку говорил с набитым ртом. Чинто, тот, что помоложе, крутился вокруг колодца, слушал разговоры, любовно поглядывал на лошадь.