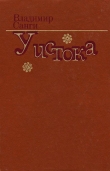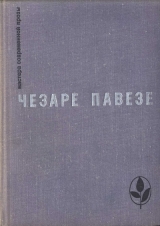
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Чезаре Павезе
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Мы говорили о том о сем – об урожае, об охоте, о грозе, о круговороте времен года.
– Зимой, – сказал я, – вы здесь, в низине, должно быть, оторваны от всего мира.
– Если надо, мы поднимаемся наверх, – сказал Давид.
– Ты не понимаешь, для них зима – самая лучшая пора, – сказал Орест. – Знаешь, как хорошо охотиться, когда выпадает снег?
– Да и весь год хорошо, – добавил Давид. – Надо только выбирать подходящий день.
Казалось, собаки поняли, о чем идет речь. Они поднялись и настороженно уставились на нас.
– Да ведь здесь вас никто не контролирует, – сказал Пьеретто, – кто знает, сколько зайцев вы настреляли в августе?
– Скажите это Чинто, – расхохотался Давид, – скажите это Чинто. Он стреляет фазанов.
Тут Орест поднял голову, точно принюхиваясь.
– Что, и теперь еще на Взгорьях есть фазаны? – сказал он и переглянулся с Чинто и с Давидом. – А вы знаете, что Поли из Греппо подстрелили, как фазана?
Братья спокойно выслушали рассказ Ореста, и, пока он с пылом говорил, Давид налил ему вина. Слушая, я заметил, что эта история, теперь уже давняя, звучала здесь как-то неправдоподобно, фальшиво. Что общего имела она с этим вином, этой землей, этими двумя людьми?
Кончив рассказывать, Орест посмотрел на братьев, потом на нас.
– Ты не сказал, что он нюхает кокаин, – заметил Пьеретто.
– Ах, да, – сказал Орест, – у него уже мозги не на месте.
– Он сам должен знать, что делает, – сказал Давид. – Хорошо еще, что он уже на ногах.
– Мы не знаем, вернулся ли он в Греппо, – сказал Орест.
– Кто-то там живет, – спокойно сказал Чинто, – оттуда ходят за покупками к Двум Мостам.
– А что же говорит сторож? – встряхнувшись, спросил Орест.
Чинто недобро осклабился. Давид ответил за него:
– Был тут разговор насчет тростника. По перьям видно, сколько мы птицы настреляли, а этому, поди ж ты, дался тростник… Но ты же понимаешь… Не стоит об этом и говорить.
XIV
Мы уехали, когда уже показалась луна и повеяло вечерней прохладой. Жаль было покидать этот хутор, одинокий, как остров, эту бескрайность красной земли, эти тощие лозы под раскидистыми дубами. Но Орест сказал:
– Поедем, уже темнеет.
Лошадка понеслась, как охотничья собака. Когда мы проезжали под яблоней, Пьеретто поднял руку, и на нас градом посыпались яблоки. «Э-ге-гей!» – орали мы и прищелкивали языком.
– Случалось с тобой когда-нибудь, – сказал Пьеретто, – чтобы ты столько выпил, а голова была бы такая ясная?
– Когда пьют под открытым небом, на вольном воздухе, – сказал Орест, – никогда не пьянеют.
Потом они перемигнулись и стали приставать ко мне:
– А ты что скажешь?.. Ведь, по-твоему, на природе не гоже ни пить, ни спать с женщиной…
Я отмахнулся от них и сказал:
– Мне понравились твои братья.
Тут мы заговорили о Давиде и Чинто, о винах, о ведре с виноградом, о том, как прекрасна простая, естественная жизнь, а ветерок от быстрой езды шевелил нам волосы.
– Замечательно, в какой строгости они держат женщин, – говорил Пьеретто. – Мы себе прохлаждаемся во дворе, пьем и разговариваем о всякой всячине, а женщины и ребятишки сидят на кухне, чтобы не мозолить глаза.
Солнце шло на закат над самыми виноградниками и окрашивало густой киноварью каждый ствол и каждый ком земли.
– А между тем они работают, – сказал я, – обживают эту землю.
– Дурак ты, Орест, – говорил Пьеретто. – Что тебе Турин, что тебе анатомичка? Тебе бы нужно жениться на этой девушке и тихо-мирно обрабатывать свою землю…
Орест, глядя прямо перед собой, в затылок лошади, спокойно сказал:
– А откуда ты знаешь, что я не собираюсь так и сделать… Дай только время.
– Что вы за люди… – заметил я. – Одного отец прочит в монахи, другого – в агрономы. Вы об этом слышать не хотите и портите родителям кровь, а кончится тем, что ты, Пьеретто, будешь монахом-безбожником, а ты, Орест, – сельским врачом.
– Отцу это, во всяком случае, не повредит, – сказал Пьеретто с довольной улыбкой. – Нужно, чтобы он понял, что жизнь трудна. Если же потом, как и следует, ты придешь к тому, чего он для тебя хотел, ты должен убедить его, что он был не прав и что ты это сделал только ради него.
– А ты в самом деле женишься на этой девушке? – спросил я Ореста.
– Он все отмалчивается, – сказал Пьеретто. – Мол, пьяные, что с ними разговаривать.
Луна была красивая, еще по-вечернему бледная, не белая, но и не желтая, и я представил себе, как она будет светить ночью над всем этим краем, над землей, над плетнями. Мне вспомнился косогор Греппо, но, обернувшись, я увидел, что он исчез, словно растаял в чистом воздухе. «Это и есть Взгорья?» – хотел я спросить, но как раз в эту минуту Орест заговорил.
– Ее зовут Джачинта, – сказал он, не глядя на нас. Потом, размахивая кнутом, крикнул: – Боже мой, этим летом я сойду с ума!
Прошлой ночью ему и Пьеретто не спалось, и они принялись вспоминать жизнь на взморье. Орест рассказал, что, когда он был ребенком, низкие холмы, среди которых мы ехали сейчас, казались ему островами в морских далях и, глядя на это таинственное море, он в воображении бросался в него с высоты балкона.
– Тогда мне так хотелось сесть в поезд, уехать, побывать в других краях. А теперь мне и здесь хорошо. Не знаю даже, нравится ли мне море.
– Но ведь на Ривьере ты чувствовал себя как рыба в воде.
Мы приехали, распевая песни, а пока поднялись пешком из Россотто, нам опять захотелось выпить. Такие вещи женщины понимают – они поставили на балкон столик и принесли нам бутылку вина.
– Ну-ну, отведите душу, посидите при луне, – сказала мать Ореста. – Луна всякое слышала.
Ночь была тихая, безветренная, селение спало, только где-то лаяли собаки. В эту ночь Орест раскрыл душу – все рассказал нам про Джачинту. Когда луна закатилась и запел петух, Пьеретто сказал:
– Вот собака, даже у меня слюнки потекли.
Назавтра было воскресенье. Как бежали недели! Мы опять слонялись по площади среди вырядившихся, как чучела, мужчин и закутанных в покрывало женщин, которые наводили на мысль о палящем солнце и о болоте. Так, глядя на небо, мы и отбыли обедню. Я спрашивал себя, существуют ли праздники для молчаливых братьев из Момбелло, прерывают ли они свою обыденную жизнь, привязанную к гумну, полю, винному погребу, чтобы смешаться с другими людьми. Для них праздником была охота, терпеливое ожидание, сумеречные часы в сторожкой глуши. Когда служба кончилась, я стал смотреть на выходящих из церкви, переводя глаза с одного на другого – не встречу ли такой же взгляд, такое же выражение лица, спокойное и вместе с тем угрюмое, замкнутое, как у Давида и Чинто. Вышли и наши женщины. Джустина воззрилась на нас и, дергая за руки девочек, которым не стоялось на месте, начала нам выговаривать: зачем мы пошли к обедне, раз даже не вошли в притвор.
– Что такое притвор? – спросил Орест.
А Пьеретто еще и не то отчебучил. Он сказал, что дом божий – весь мир и что даже святой Франциск преклонял колени в лесу.
– На то он и был святой, – проворчала Джустина, – он верил в бога.
– А в церковь ходят те, кто не верит в бога, – сказал Пьеретто. – Не говорите мне, что ваш священник верит в бога. У него на лице написано, что он за птица.
Вокруг нас толковали о предстоящих праздниках и ярмарках, потому что середина августа в деревне – пустое время, когда между уборкой зерновых и сбором винограда можно передохнуть, и крестьяне, как говорится, бьют баклуши, точат лясы, живут без забот и в ус не дуют. Во всей округе гуляли, и только об этом и шел разговор.
– Превыше всего служение богу, – сказала Джустина, – служение богу. Те, кто не почитает священнослужителей, не христиане и не итальянцы.
– Блюсти религию не значит только ходить в церковь, – сказал отец Ореста. – Жить, как велит религия, не так-то легко. Надо воспитывать детей, содержать семью, быть со всеми в ладу.
– Послушаем теперь вас! – вскричала Джустина, обращаясь к Пьеретто. – Что такое религия?
– Религия, – сказал Пьеретто, – это понимание сути вещей. Святая вода тут ни при чем. Говорить с людьми надо, понимать их, знать, чего хочет каждый из них. Ведь все хотят чего-нибудь достичь в жизни, стремятся к чему-то, а к чему, и сами толком не знают. Так вот, у каждого это стремление от бога. Значит, достаточно понимать и помогать другим понимать…
– Ну и что же ты поймешь, когда тебе придет время помирать? – сказал Орест.
– Проклятый могильщик, – сказал Пьеретто. – Когда люди умирают, у них уже нет никаких стремлений.
Они продолжали этот разговор за столом и после обеда. Пьеретто сказал, что признает святых, что больше того – на его взгляд, на свете только и есть святые, потому что каждый в своем стремлении как бы святой и, если бы ему дали осуществить это стремление, оно принесло бы плоды. А священники цепляются за какого-нибудь одного святого познаменитее и говорят: «Поступайте, как он, и спасете душу свою», но не принимают в расчет, что на свете нет даже двух одинаковых капель воды и что каждый день – новый день.
Теперь Джустина молчала, только зыркала глазами на Пьеретто. Было часа четыре, мы сидели в тени на балконе и пили кофе, а из пылающей зноем окрестности до нас доносились приглушенные голоса, шорохи, шелест ветра. Отсюда, сверху, косогоры напоминали бока улегшихся коров. Каждый холм с рассеянными по его склонам – то крутым, то пологим – виноградниками, полями, лесами был особым миром. Видны были дома, рощицы, синие дали. И сколько бы ты ни смотрел, все открывалось что-нибудь новое – необычное дерево, изгиб тропинки, гумно, невиданный оттенок цвета. Закатное солнце подчеркивало каждую деталь, и даже странная морская прозелень, в которой, словно окутанное облаком, тонуло Греппо, манила больше обычного. На следующий день мы должны были поехать туда на двуколке, и, чтобы скоротать вечер, хорош был любой разговор.
XV
Особым миром был и холм Греппо. Дорога туда шла по Взгорьям – спускалась в лощинки и взбегала на бугры, минуя дубовое урочище. Подъехав к подножию холма, мы увидели на его гребне черные против света деревья, вырисовывающиеся на фоне неба. На середине подъема Орест, обернувшись назад, показал нам, как далеко простираются земли Поли. Мы слезли с двуколки, и лошадь шагом повезла ее за нами по дороге, куда более широкой, чем проселок, по которому мы ехали вначале. Эта широкая дорога – местами еще покрытая асфальтом – с выбросами туфа на крутых откосах прорезала дремучие склоны.
Но поражала дарившая здесь запущенность, одичалость: тут заглохший, заросший травой виноградник, там опутанные вьющимися растениями фруктовые деревья, смоковницы и вишни вперемежку с ивами, желтой акацией, платанами, бузиной. В начале подъема был лес из высоких грабов и тенистых тополей, где даже веяло прохладой, потом, по мере того как мы выходили на солнце, растительность мельчала, но к знакомым формам примешивались необычные – олеандры, магнолии, иногда кипарисы и странные деревца, которых я никогда не видел, и вся эта неразбериха придавала особую уединенность попадавшимся кое-где лужайкам.
– Про это и говорил твой отец? – спросил я Ореста.
Он ответил, что настоящую пустошь, поросшую лесом равнину, где все, кому вздумается, пасли скот и заготовляли дрова, мы уже прошли.
– Здесь собирались сделать заповедник. Видишь, какую дорогу проложили. Когда был жив дед Поли, сюда целыми компаниями приезжали господа. Но тогда равнину обрабатывали, и старик день и ночь разъезжал с ружьем и хлыстом. Папа его знал. Он был родом из долины.
Мне вдруг ударил в нос стоявший в воздухе смешанный запах соков, бродящих в опаленных солнцем растениях, земли и раскаленного асфальта. Этот запах приводил на ум автомобиль, гонку, дороги на побережье, приморские сады. С насыпи над дорогой свешивались бледные тыквины, в которых я узнал головки кактусов.
Мы вышли на вершину холма из зарослей кустарника, которые здесь переходили в настоящий парк – сосновую рощу, окружающую виллу. Теперь под ногами у нас был гравий, а между стволами деревьев проглядывало небо.
– Точно остров, – сказал Пьеретто.
– Естественный небоскреб, – отозвался я.
– Такой, как он есть, – сказал Орест, – он никому не нужен. Вот если бы здесь была клиника, современная клиника со всем необходимым оборудованием. В двух шагах от дома, представляешь?
– Запах мертвечины уже есть, – сказал Пьеретто.
Гнилью тянуло из водоема метров десяти в длину и ширину, с валуном в центре, выступающим из зеленой стоячей воды, заросшей белыми цветами.
– Вот тебе и бассейн с живой водой, – сказал я Оресту. – Бросаешь туда мертвых, и они воскресают.
Между соснами белел дом.
– Постойте здесь, – сказал Орест, – я пойду на разведку.
Мы остались с лошадью, и я молча глядел на странное небо между стволами деревьев. В глубине души я надеялся, что Поли здесь не окажется, что никого не окажется и что, обойдя парк, мы вернемся домой. Запах бассейна напомнил мне болото, и я затосковал по знакомым местам. Мне хотелось разве только еще раз взглянуть на полесье, живописное в своей запущенности и одичалости.
Раздался звонкий голос:
– Кого вам надо?
Внезапно появившись из-за деревьев в белых шортах и блузке, к нам подошла светловолосая молодая женщина с суровыми глазами.
Мы переглянулись. По ее тону было ясно, что это хозяйка. В эту минуту лошадь и двуколка показались мне чем-то смешным и нелепым.
– Мы хотим повидать Поли, – с улыбкой сказал Пьеретто. – Мы…
– Поли? – переспросила женщина, подняв брови, и лицо ее приобрело чуть ли не оскорбленное выражение. Чтобы не глядеть на ее ноги, я отводил глаза в сторону и все-таки чувствовал себя неловко.
– Мы друзья Поли, – сказал Пьеретто. – Мы познакомились с ним в Турине. Скажите, пожалуйста, как он себя чувствует?
Но и это, по-видимому, не понравилось женщине, которая сменила прежнюю гримасу на кислую улыбку и нетерпеливо посмотрела на нас.
В эту минуту из аллеи вылетел Орест, возбужденно восклицая:
– Поли здесь, и жена его здесь. Кто знал, что у него есть жена…
Он осекся, увидев, что мы не одни.
– Ты нашел его? – спокойно спросил Пьеретто.
Орест, покраснев, пролепетал, что за ним пошел садовник. Он с растерянным видом смотрел то на нас, то на женщину.
– Поболтаем пока, – сказал Пьеретто.
Внезапно блондинка смягчилась. Она кокетливо взглянула на нас и протянула нам руку. От ее сдержанности не осталось и следа.
– Друзья моего мужа – мои друзья, – с улыбкой сказала она. – А вот и Поли.
Я много раз думал потом об этой встрече, о том, как покраснел Орест, о днях, которые мы вслед за тем провели в Греппо. Сам не знаю почему, мне сразу пришла на ум Джачинта, но Джачинта была брюнетка. Смутило меня в первый момент и то, что у Поли была жена. Все, что у нас с ним было в прошлом, становилось запретным, превращалось в помеху. О чем мы могли теперь говорить? Неудобно было даже спросить, как поживает его отец.
Но Поли принял нас очень тепло, с той чрезмерной, немножко нелепой радостью, которая была обычна для него. Полноватый, с мягким, по-детски открытым взглядом, он мало изменился. Он был в короткой рубашке навыпуск, с цепочкой на шее. Он сразу сказал, что не отпустит нас, что мы должны остаться у него до завтра, что ему хочется подольше поговорить с нами.
– Но ведь у вас медовый месяц, не так ли? – сказал Пьеретто.
Супруги посмотрели друг на друга, потом на нас. Поля усмехнулся.
– Мед у него вызывает крапивницу, – с деланной грустью сказала женщина. – Что было, то сплыло. Здесь мы скучаем. Я у него за компаньонку и немножко за сестру милосердия.
– Рана должна была бы закрыться, – сказал Орест.
Пьеретто улыбнулся.
Тут Орест понял, что сболтнул липшее, прикусил губу и пробормотал:
– Отец у тебя голова. Но из-за тебя он поседел…
Женщина сказала:
– Вы, должно быть, хотите пить. Проводи их, Поли. Я сейчас приду.
В комнате с высоким потолком и окнами во всю стену, где пестрели разноцветные занавески и кресла, Поли продолжал радоваться нашему приезду и вздыхать от удовольствия, а на вопрос Пьеретто, знает ли его жена о туринской истории, просто ответил, что да, знает.
– Было время, когда мы с Габриэллой все говорили друг другу. Она мне очень помогла, бедная девочка. Мы с ней немало поездили по свету и покуролесили. Потом жизнь развела нас. Но на этот раз мы решили провести лето вместе, как дети, какими мы были когда-то. У нас есть общие воспоминания…
Пьеретто, явно стараясь быть вежливым, слушал его, не прерывая. А вот Орест не сдержался и ляпнул:
– Что же ты делал в Турине, раз был женат?
Поли посмотрел на него с неприязнью, почти со страхом, и проронил:
– Не всегда делаешь то, что хотелось бы другим.
Пришла Габриэлла и открыла бар. В нем было полным-полно бутылок и хрусталя, и, когда его открывали, он освещался. Мы заговорили о Греппо. Я сказал, что на холме очень красиво и что я готов был бы провести здесь всю жизнь, бродя по лесам.
– Да, здесь недурно, – сказала она.
– Что вы делаете с утра до вечера? – сказал Пьеретто.
Габриэлла как была, с голыми ногами развалилась в кресле.
– Загораем, спим, занимаемся гимнастикой… Ни с кем не видимся.
Я не мог привыкнуть к этому загорелому лукавому лицу, которое так неожиданно меняло выражение. Она была очень молода, должно быть, много моложе Поли, но в голосе ее порой слышались хриплые нотки, которые поражали меня. Это от вина, думал я, или от кое-чего другого.
– Завтрак у нас холодный, – сказала она нам со смехом. – Варенье, бисквиты. Серьезная еда будет вечером.
Мы возразили, что нас ждут дома, что нам пора ехать, что мы должны вернуться засветло.
Это неприятно удивило и расстроило Поли. Он сказал Пьеретто, что наш приезд для него праздник и что ему надо многое сказать нам, а жену попросил распорядиться, чтобы нам приготовили комнаты наверху.
Мы отшучивались и не уступали. Меня настойчивость Поли раздражала, и, поглядывая на Ореста, я думал об обратной дороге, о том окне на станции, где его ждали, о сумерках.
Поли сказал:
– Какая разница, где ночевать? Почему вы так относитесь ко мне?
Габриэлла изящным движением подняла рюмку, с унылым видом посмотрела на нее и сказала:
– Неужели вас так интересуют куры и гулянки?
Даже Поли засмеялся. Поладили на том, что мы опять приедем на следующий день и побудем у них подольше.
XVI
Потребовалось два дня, чтобы уговорить семью Ореста снова отпустить нас в Греппо. «Плохо вам, что ли, здесь, у вас?» – сказал отец. Женщины с мрачными лицами, усевшись за стол, держали совет. Только известие о том, что Поли женат, смягчило мать, и тогда разговоры перешли на туринскую историю, которая представала теперь в новом свете, – всех интересовало, была ли жена Поли, как ей надлежало, подавлена горем и в то же время тверда и полна решимости не давать мужу потачки.
– Ей наплевать. Она загорает, – сказал Орест.
– Вот какие вещи случаются, когда муж и жена живут врозь.
– Но если муж и жена живут врозь, – сказал отец, – значит, между ними уже что-то неладно.
Орест с раздражением отрезал, что все дело в деньгах.
– У кого нет бешеных денег, тот работает или учится, и ему не до блажи. Так едем мы или не едем?
Мы заложили двуколку и поехали, но еще не было решено, останется ли Орест с нами в Греппо. Когда мы уезжали оттуда, Габриэлла, прощаясь с нами, пожалела, что они не могут приехать за нами на машине, а Поли смущенно пояснил, что отец реквизировал ее, чтобы он не подвергал себя опасностям и по-настоящему отдыхал. Мы проделали прежний путь через поля, дубовые рощи, виноградники, окруженные развалившимися изгородями, и я снова увидел грабы, полесье. В утреннем свете все блестело и сверкало росой. Огромный холм, поросший кустарником, жил своей потаенной жизнью, одичалый и уединенный, погруженный в тишину, нарушаемую только жужжанием пчел, как дремучая гора стародавних времен. Я искал глазами затерянные среди зарослей лужайки. Пьеретто возмутился тем, что целый холм принадлежит одному человеку, как в те времена, когда одна семья носила имя всего края. Летали птицы.
– Они тоже входят в имение? – проговорил я.
На площадке среди сосен мы нашли нечто новое: шезлонги и валявшиеся на траве бутылки и подушки. Садовник занялся нашей лошадью и отвел ее в сарай; Пинотта, загорелая рыжая девушка, которая в прошлый раз прислуживала нам за столом, стояла у распахнутой калитки оранжереи и смотрела на нас, не выходя на солнце.
– Спят, – ответила она на наш вопрос, кивком головы указав наверх.
Из оранжереи по цинковому желобу текла струйка воды.
– Сколько бутылок, – примирительным тоном сказал Пьеретто. – Должно быть, напились как свиньи. Что, кутили вчера вечером?
– Приехали из Милана какие-то целой оравой, – пробормотала девушка, откидывая назад волосы тыльной стороной ладони. – Танцевали до утра и дрались подушками. Прямо несчастье. А вы останетесь у нас?
– Где же эти миланцы? – спросил Орест.
– Приехали и уехали на машине. Ну и народ! Одна женщина упала из окна.
В сосновой рощице веяло утренней прохладой. В ожидании хозяев мы выкурили по сигарете. В доме незаметно было никакого движения. Я прислонился к стволу дерева и стал смотреть на равнину. Мы нашли недопитую бутылку, прикончили ее и попросили Пинотту открыть нам веранду.
Тут нас и застали Поли и Габриэлла. Они шумно дали знать о себе – послышались голоса и звонки. Пинотта бросилась вверх по лестнице. Наконец спустился Поли в пижаме, взлохмаченный и что-то бормочущий себе под нос. Он, держа нас за руки, попенял нам, что мы заставили себя ждать три дня; и так, стоя, мы поспорили о том, виноваты ли в наших излишествах наши ближние, которые соблазняют нас, или мы сами, поскольку даем себя соблазнить.
– Добрые приятели привезли мне немного миланской жизни, – говорил Поли. – Только бы они не приехали опять. Нам надо побыть одним.
Вошла Габриэлла, одетая и свежая.
– Поднимайтесь, поднимайтесь, хотите принять ванну? – сказала она нам. – Оставь их в покое, после поговорите.
Я уже забыл эти волосы медового цвета, и эти голые ноги в сандалиях, и этот неизменный вид курортницы, которая собирается на пляж.
Ведя нас наверх, в комнаты, она сказала:
– Будем надеяться, что там не спал никто из этих сумасшедших.
Тут Орест решительно объявил, что он ночевать будет дома: оставит нас в Греппо, а если надумает, приедет на велосипеде.
– Почему? – сказала Габриэлла, состроив гримасу. – Мама боится, как бы вы не потерялись? – Потом засмеялась и добавила: – Ну, как хотите. Дорогу вы знаете.
Спустившись вниз, я застал там Габриэллу и Поли вместе с Орестом. Пьеретто все еще плескался в ванне. Когда я проходил мимо, он что-то крикнул мне через дверь.
Входя в застекленную комнату, я еще сомневался, стоит ли оставаться в Греппо. Пинотта между тем уже успела расставить опрокинутые вазы с цветами, убрать тарелки и рюмки, выбросить окурки из пепельниц, и изящно обставленная комната со светлыми и легкими занавесками опять стала восхитительно уютной. Другие комнаты были загромождены более простой и грубой мебелью, в деревенском вкусе, оставшейся со времен деда-охотника: ларями, неуклюжими креслами, тяжелыми дубовыми столами, – была там даже кровать с балдахином, – но здесь, в гостиной, чувствовалась рука Габриэллы и Поли. Или, может быть, Розальбы, думал я. У меня не шли из головы Розальба, пятна крови, глупая злость, которой были окрашены те дни.
Неприятное чувство, которое я испытывал, расхаживая по коврам, вежливо поддерживая разговор, глядя на несчастную Пинотту, появлявшуюся, когда ее звали, и поспешно выполнявшую распоряжения, которые отдавались веселым, но не терпящим возражений тоном, объяснялось также и этим – воспоминанием о Розальбе, мыслью о том, что подобные вещи могут происходить там, где царит такая чистота и изысканность.
В это утро мы говорили о лесах. Когда Орест рассказал, что мне нравится сельская местность и до того хотелось приехать сюда, что я даже отказался от поездки на море, Габриэлла сразу вспомнила о море, о пляже в маленькой бухте, где у них были друзья, и об оливах, сбегавших к самой воде. Это было частное владение, огороженный, запретный пляж с бассейном посреди леса, где купались в ветреные дни и куда никому из отдыхающих на побережье, кроме своих, не было доступа.
Поли съехидничал насчет хорошего вкуса хозяев дома, которые, по его словам, одевали слуг рыбаками с кушаком на поясе и вязаным колпаком на голове.
– Дурак, они сделали это только в тот раз, когда устроили праздник, – сказала Габриэлла с покоробившей меня резкостью, и я уловил злое выражение, промелькнувшее на ее лице, как в первый день, когда мы встретились.
Орест сказал:
– Значит, там был лес на самом берегу?
– Там и сейчас лес. Такие вещи не меняются, – ответила Габриэлла.
К ней вернулась прежняя непринужденность, но, разговаривая, она следила взглядом за Поли. Он курил с рассеянным видом.
– В этом лесу Габриэлла танцевала классические танцы под музыку Шопена, – сказал он, рассеянно глядя на дым сигареты. – Босая и с покрывалом, при луне. Помнишь, Габри?
– Жаль, – сказала она, – что вчера вечером не было твоих друзей.
Она позвала Пинотту и велела ей открыть рамы.
– Ночная вонь еще не выветрилась, – проговорила она. – Где побывали эротоманы и пьяницы, смердит, как в хлеву. Черт бы побрал эту твою художницу, которая курит гаванские сигары.
– Я думал, оргия у вас была под соснами, – сказал я.
– Они, как обезьяны, повсюду рассеялись, – бросила она. – Не исключено, что парочка этих типов осталась в роще.
Поли улыбнулся своим собственным мыслям.
– А что, Пьеретто не спустился? – спросил он.
Когда появился Пьеретто, Габриэлла уже успела нам сказать, что в Греппо живут в абсолютной свободе, уходят и приходят когда вздумается, и, если кому-нибудь хочется побыть одному, никто ему не мешает.
– Вы спустились, а я поднимусь, – сказала она Пьеретто. – Будьте умниками, мальчики.
Уже второй раз она исчезала в это время; Поли сказал нам, что она загорает; мы говорили об этом, когда ехали на двуколке, и Пьеретто пошутил:
– Вот еще одна меченая… Не позвать ли нам ее на болото?
Мне хотелось теперь уйти, побродить до завтрака одному по склону холма, но вместо этого я взял под руку Ореста, и мы направились под сосны. Поли и Пьеретто позади нас принялись о чем-то рассуждать.
XVII
Когда стало смеркаться, Орест с хмурым видом сел на двуколку и уехал. Скоро стемнело. Мне удалось остаться одному, и я прохлаждался под соснами в ожидании ужина. Пьеретто и Поли беседовали возле бассейна, Поли, весь день ходивший с усталым и опухшим лицом, говорил вполголоса, и все напоминало мне ту ночь на холме, когда Орест своими криками вспугнул тишину. Из-за изгороди я слышал реплики Пьеретто, его безапелляционные суждения. Поли жаловался, говорил о себе, о своем теле.
– Когда я понял, что выздоравливаю, что должен встать на ноги, как ребенок… Никогда по-настоящему не знаешь некоторых вещей… Мысль о смерти не испугала меня. Трудно жить… Я благодарен бедняжке Розальбе за то, что она научила меня этому…
Он говорил медленно, с чувством, тихим, но внятным голосом.
– …В глубине нашего существа таится великий покой, радость… Все в нас рождается из этого. Я понял, что зло, смерть… исходят не от нас, не мы их творим… Я прощаю Розальбе, она хотела мне помочь… Теперь для меня все стало легче, даже отношения с Габриэллой…
Пьеретто прервал его хохотком и сказал – наверное, ему в лицо:
– Враки.
Их голоса на мгновение столкнулись, и взял верх голос Пьеретто.
– Нахальная ложь, – говорил он. – И Розальба не хотела тебе помочь, и ты не имеешь права жаловаться на нее. Вы оба вели себя по-свински… Какая тут душевная чистота.
Поли тихо говорил:
– Все было предрешено. Не мы убиваем друг друга…
Голоса удалились и пропали в лунной ночи. Я вдохнул запах сосен, стоявший в еще теплом воздухе. Острый и терпкий, он напоминал запах моря. Весь день мы бродили по зарослям, спускаясь до середины склона. Габриэлла привела нас к Маленькому гроту под грядой туфа, заросшему по краям адиантумом, где застоялась лужа воды. В одной лощинке мы нашли персиковое деревце со зрелыми, сладкими как мед плодами. Орест был одержим каким-то мрачным весельем. Чтобы напугать Габриэллу, он издавал свои дикие вопли. Под вечер я заметил, что из Греппо не слышно обычных деревенских шумов – квохтанья, пения петухов, лая собак.
Мы сели ужинать, когда было уже совсем темно. Стол, накрытый Пиноттой, которая трепетала от одного взгляда Габриэллы и со всех ног бросалась выполнять ее приказания, был сервирован с ослепительной роскошью. На скатерти в изящном беспорядке были разбросаны цветы.
– Стол священен, – сказала Габриэлла. – Надо, насколько возможно, смаковать каждый глоток.
Она спустилась в сандалиях, но переодетая и любезно сказала нам:
– Садитесь, пожалуйста.
Я старался не смотреть на манжеты Пьеретто.
Мы говорили об Оресте, о его самолюбивом характере, о том времени, когда они с Поли бродили по лесам. Говорили о сельской и городской жизни. Говорили о детстве Поли и о потребности в уединении, которая рано или поздно овладевает всеми. Габриэлла болтала о путешествиях, о скучных обязанностях, которые налагает светская жизнь, о странных встречах в горных гостиницах. Она родилась в Венеции. Мы признались, что мы оба всего лишь студенты.
Пинотта все время прислуживала нам, двигаясь так бесшумно, что можно было подумать, будто она босая. Я догадался, что где-то поблизости, на кухне, находится другая женщина, повариха, настоящая хозяйка дома. Я смотрел на цветы и белоснежную скатерть, бесшумно ел, поглядывал на Габриэллу. Мне даже не верилось, что я здесь, в таком доме, подобном острову в крестьянском крае. Мне все еще вспоминались гирлянды из цветной бумаги на кухне у Ореста, желтые початки кукурузы на гумне, виноградники, лица крестьян, стоящих под вечер в дверях домов. Габриэлла ела с видом скромницы и тихони, Поли сидел, уткнувшись в тарелку, а Пьеретто без конца говорил о том, как он любит шататься по ночам.
Я все поглядывал на Габриэллу и думал о том, не поступил ли Орест умнее нас, вернувшись домой, где можно было спокойно выспаться, побыть одному, собраться с мыслями.
Он знал Поли лучше, чем мы, но было ясно, что в Греппо ему не по душе. Он удрал не только из-за Джачинты. Три дня назад по дороге в селение, обменявшись шуточками насчет того, достойна ли Габриэлла пойти с нами на болото, мы заговорили о ее отношениях с Поли. Что эти двое делают здесь? – спрашивали мы себя. Если они приехали для того, чтобы побыть наедине и помириться, зачем им нужны мы? И что знает Габриэлла о Розальбе? Что по ночам она вместе с Поли нюхала кокаин? Судя по всему, Габриэлле сметки не занимать.
– Поверьте мне, – говорил Пьеретто, – эти двое ненавидят друг друга.
– Тогда почему они живут вместе?
– Я это узнаю.
Хорошо еще, что за столом Поли непрестанно наливал нам вина. Габриэлла тоже пила, смакуя каждый глоток и под конец встряхивая головой, как птица. Я думал: кто знает, быть может, если они достаточно выпьют, они станут более искренни, более непосредственны и Габриэлла скажет нам, что, несмотря на все, она любит своего Поли, а он, Поли, скажет, что Розальба была уродина, что связь с ней была безумием, мороком и что от этого морока его излечила встреча с нами – встреча с нами и вопль Ореста. Достаточно этого, говорил я про себя, и мы сразу сдружимся, отпустим Пинотту и пойдем погулять или ляжем спать, довольные друг другом. Жизнь в Греппо изменилась бы.